Федька спустился надутый и важный, а на наши вопросы отвечал коротко:
— Так… о жизни говорили. Не ваше цыплячье дело, одним словом.
Было обидно. Жук захрапел.
— Велел в случае чего разбудить, — сообщил Федька. — Чтобы храп не услышали.
Мы не отвечали. Федька попыжился ещё немного, потом ему стало скучно, и он признался:
— Жук уговаривал меня с ним пойти. Он в Испанию не едет, у него дела. Мы замерли.
— Куда это — с ним? — холодно спросил Гришка. Федька замялся.
— А я не очень-то понял. На заработки, что ли. Говорил, с ребятами интересными познакомит, по морю будем плавать.
— И ты согласился? — набросились мы на Федьку.
— А ещё Портос, друг был… — с горечью сказал Ленька.
— Испанию на заработки променял, — жёстко сказал я. — А ещё говорил, что за дядей Васей пойдёт в огонь и воду!
— Без предателей обойдёмся! — звонко сказал Гришка.
— А ну-ка, повтори! — угрожающе предложил Федька.
— Предатель! — побледнев, повторил Гришка.
Бац! Гришка рухнул на пол. Мы с Ленькой бросились на Федьку, молотя его куда попало. Слабы мы были против Федьки.
— Ребята, не пачкайтесь, — Гришка поднялся, облизывая разбитую губу. — Полезли наверх.
— Ещё хочешь? — азартно воскликнул Федька. — И вам могу добавить!
Не отвечая, мы полезли наверх и улеглись. Федькина измена нас потрясла. Гришка взял пистолеты, Федькин рюкзачок и спустил все вниз.
— Давись своим имуществом, — с ненавистью сказал он.
— Один можешь взять себе, — буркнул Федька. — Раз я обещал.
— Обойдёмся, — бросил я.
— Сами добудем! — добавил Ленька. — Брать в руки противно.
На душе было омерзительно. Жук весело, с присвистом храпел. Федька сидел внизу, и его не хотелось видеть. Впервые в жизни мы столкнулись с настоящим предательством и поняли, что самый болезненный удар — в душу. Мы лежали и молчали. Потом Федька поднялся к нам.
— Гришка, прости, — жалко сказал он.
Гришка молча смотрел в потолок.
— Ну, ударь меня в зубы, — тем же тоном продолжал Федька. — Я с вами поеду, ребята. Я честно говорю. Прости, Гришка.
— Ты у всех прощения проси, — сказал Гришка. — Ты всех обманул.
— Простите, ребята…
Через минуту Федька лежал вместе с нами и возбуждённо шептал:
— Только дяде Васе ничего не говорите, — попросил Федька. — Обещаете, ребята? И как это я согласился — режь меня, не пойму! Он так рассказывал интересно. Парень — гвоздь. Очень умный.
— Ты ему ни звука, — посоветовал Гришка. — Как приедем, просто разойдёмся в разные стороны.
Жук проснулся, и мы снова ели морковку, запивая холодной водой. И снова Жук рассказывал увлекательные истории, заражая нас своим весельем. Мы даже простили ему, что он обманул нас насчёт Испании. Но ведь мы и без него доберёмся — в этом не хотелось сомневаться.
Жук все чаще выглядывал в окошко.
— Скоро Киев, — сообщил он. — Там нас могут накрыть, сеньоры. На первой же остановке, когда стемнеет, Ленька вылезет и откроет дверь. А в Киеве-товарном выйдем.
— Но ведь нам нужно в Одессу! — удивился Ленька.
— О, тогда, сеньор, подойдите к начальнику вокзала и потребуйте, чтобы данный экспресс отправили в Одессу, — иронически посоветовал Жук. — Начальники вокзалов люди чуткие, отцы родные. Короче, в Киеве пересядем, состав дальше не пойдёт. Что, не видели надпись: «Витебск — Киев»? Кстати, — неожиданно
Жук обратился к Федьке, — того разговора не было. На свежую голову решил: еду с вами.
— Ребята! — радостно заорал Федька. — Ура! Жук с нами!
— Так ведь мы это ещё вчера знали, — удивился Гришка, делая нам знаки.
— Я вчера просто ещё окончательно не решил, — признался Жук, — и поделился с Федькой другим планом. Но с вами, чёрт возьми, интереснее. Давайте ваш
словарь!
Мы зубрили слова, проверяя друг друга. Потом Жук показывал, как обезоруживать противника, если у него в руках нож, как увёртываться от ударов, связывать руки. Когда стемнело, Жук на остановке спустил Леньку на землю, и Ленька открыл задвижку двери. Теперь уже мы не были в западне и почувствовали себя хозяевами положения.
— Такой длинной верёвкой, как у вас, — сказал Жук, — можно связать человек пять. Если не больше.
— Не разрезая верёвку? — поразился Ленька.
— А чего портить добро? А ну-ка!
В несколько минут Жук ловко связал кисти наших рук, обмотал ноги и толкнул меня в спину. Я со смехом упал, и за мной — все остальные. Мы весело барахтались на сене, все больше запутываясь. Связанные кисти начали неметь.
— Развязывай, Жук! — крикнул Федька. — Понятно!
Но Жук не торопился нас развязывать. Он полез к себе, порылся в картошке и спустился вниз с маленьким чемоданчиком. Потом вновь забрался к нам, наверх. От его взгляда у меня по спине забегали мурашки.
— Лежите спокойно, сеньоры, — сказал Жук с холодной усмешкой. — Игра закончена.
— Ты чего, белены объелся? — поразился Федька. Жук с силой ткнул его ногой в бок.
— Трепач! — процедил он сквозь зубы и грязно выругался. — Думаешь, я спал?
Мы притихли. Жук взял наши пистолеты, погладил инкрустированные серебром стволы и уложил пистолеты в чемоданчик.
— Вот что, сеньоры, — сказал он, вытаскивая откуда-то из ботинка узкую финку. — На первой же остановке я уйду. Конечно, я мог бы пристукнуть вас сразу, в порядке живой очереди, но что тогда будут делать республиканцы, к которым я, между прочим, испытываю симпатию? Живите, но с одним условием: лежать молча! Если кто крикнет — вернусь. И тогда ваши мамы наденут чёрные платья. Понятно?
— Да, — пискнул Ленька, с ужасом глядя на финку.
— Остальные! — грозно прикрикнул Жук.
— Да, — выдавили мы с Гришкой.
— А ты? — Жук снова ударил Федьку ногой, и, наверное, очень больно, потому что Федька скривился.
— В-вот! — выдохнул Федька и, извернувшись змеёй, ударил связанными ногами по ногам Жука. Тот взмахнул руками, потерял равновесие и полетел вниз. Мы вскрикнули.
— Быстрее! — лихорадочно торопил Федька, повернувшись к нам спиной. — Развязывай зубами!
Не знаю, сколько это продолжалось. Нам казалось, что целый час, хотя, наверное, прошло минут пять. Каждую секунду мы ожидали, что Жук влезет наверх и вонзит в грудь финку. Мы задыхались, мешали друг другу, но наконец развязали Федьке руки. Он быстро заглянул вниз, удовлетворённо хмыкнул и развязал нас.
На полу, раскинувшись, лежал Жук. Падая, он ударился головой об острый край доски, и около него расплывалось тёмное пятно. Он был без сознания, и, хотя Федька первым делом вытащил из его рук финку, связывать Жука было страшно. И, лишь накрепко перемотав верёвками его руки и ноги, мы облегчённо вздохнули. Федька вылил на окровавленную голову Жука остатки воды. Бандит со стоном открыл глаза. В том, что Жук был бандитом, мы больше не сомневались.
— Гадюка! — зло сказал Федька, глядя прямо ему в глаза. — Подлая гадюка!
— Развяжи, — тихо проговорил Жук, отводя взор. — Хуже будет, развяжи. Денег дам.
— Я тебя развяжу! — Федька пнул Жука ногой. — Гадюка!
— Лежачего не бьют! — вступился Гришка.
— Ребята, он грабитель! — завизжал Ленька. — Смотрите!
Мы ахнули. В чемоданчике, который Ленька раскрыл, были кольца, часы и бусы.
— Развяжите, гады! — прошипел Жук, и голова его бессильно откинулась набок: он снова потерял сознание.
Теперь мы мечтали только об одном: чтобы поезд быстрее остановился. План был такой. Мы тихонько вылезем, найдём милиционера, отдадим ему чемоданчик и скажем, что в вагоне лежит связанный бандит. Милиционер побежит к вагону, а мы скроемся.
Но все получилось не так. Когда на остановке мы выглянули в окошко, у соседнего вагона уже стояли трое милиционеров. Увидев Ленькину голову, они бросились к нашему вагону и открыли дверь.
— Вылезайте! — весело потребовал милиционер с кубиком в петлицах. — Испанцы? Точно: раз, два, три, четыре! Они!
«Попались», — грустно сообщили мы друг другу глазами.
— А нас пять, — сообщил Ленька, протягивая чемоданчик. — Вот!
Милиционеры вытаращили глаза.
— Это не наше, — торопливо разъяснил Гришка, — это Жука
— Какого Жука? — воскликнул командир. Милиционеры торопливо забрались в вагон и вытащили Жука на землю.
— Какая радостная встреча! — слабым голосом проговорил Жук, открыв глаза. — А где оркестр? Почётный караул?
— Он самый, — сообщил командиру милиционер, показывая фотокарточку. — Савельев Пётр. Что ювелирный очистил.
— Точно, гражданин начальник, — подтвердил Жук и весело взглянул на нас. — А за вами, сеньоры мушкетёры, должок. Взыщу, не забуду.
Мог ли я знать, что в начале мая сорок пятого года я продолжу этот разговор один на один с Петром Савельевым — самым страшным человеком, которого я встретил за первые десять лет своей жизни…
— Так… о жизни говорили. Не ваше цыплячье дело, одним словом.
Было обидно. Жук захрапел.
— Велел в случае чего разбудить, — сообщил Федька. — Чтобы храп не услышали.
Мы не отвечали. Федька попыжился ещё немного, потом ему стало скучно, и он признался:
— Жук уговаривал меня с ним пойти. Он в Испанию не едет, у него дела. Мы замерли.
— Куда это — с ним? — холодно спросил Гришка. Федька замялся.
— А я не очень-то понял. На заработки, что ли. Говорил, с ребятами интересными познакомит, по морю будем плавать.
— И ты согласился? — набросились мы на Федьку.
— А ещё Портос, друг был… — с горечью сказал Ленька.
— Испанию на заработки променял, — жёстко сказал я. — А ещё говорил, что за дядей Васей пойдёт в огонь и воду!
— Без предателей обойдёмся! — звонко сказал Гришка.
— А ну-ка, повтори! — угрожающе предложил Федька.
— Предатель! — побледнев, повторил Гришка.
Бац! Гришка рухнул на пол. Мы с Ленькой бросились на Федьку, молотя его куда попало. Слабы мы были против Федьки.
— Ребята, не пачкайтесь, — Гришка поднялся, облизывая разбитую губу. — Полезли наверх.
— Ещё хочешь? — азартно воскликнул Федька. — И вам могу добавить!
Не отвечая, мы полезли наверх и улеглись. Федькина измена нас потрясла. Гришка взял пистолеты, Федькин рюкзачок и спустил все вниз.
— Давись своим имуществом, — с ненавистью сказал он.
— Один можешь взять себе, — буркнул Федька. — Раз я обещал.
— Обойдёмся, — бросил я.
— Сами добудем! — добавил Ленька. — Брать в руки противно.
На душе было омерзительно. Жук весело, с присвистом храпел. Федька сидел внизу, и его не хотелось видеть. Впервые в жизни мы столкнулись с настоящим предательством и поняли, что самый болезненный удар — в душу. Мы лежали и молчали. Потом Федька поднялся к нам.
— Гришка, прости, — жалко сказал он.
Гришка молча смотрел в потолок.
— Ну, ударь меня в зубы, — тем же тоном продолжал Федька. — Я с вами поеду, ребята. Я честно говорю. Прости, Гришка.
— Ты у всех прощения проси, — сказал Гришка. — Ты всех обманул.
— Простите, ребята…
Через минуту Федька лежал вместе с нами и возбуждённо шептал:
— Только дяде Васе ничего не говорите, — попросил Федька. — Обещаете, ребята? И как это я согласился — режь меня, не пойму! Он так рассказывал интересно. Парень — гвоздь. Очень умный.
— Ты ему ни звука, — посоветовал Гришка. — Как приедем, просто разойдёмся в разные стороны.
Жук проснулся, и мы снова ели морковку, запивая холодной водой. И снова Жук рассказывал увлекательные истории, заражая нас своим весельем. Мы даже простили ему, что он обманул нас насчёт Испании. Но ведь мы и без него доберёмся — в этом не хотелось сомневаться.
Жук все чаще выглядывал в окошко.
— Скоро Киев, — сообщил он. — Там нас могут накрыть, сеньоры. На первой же остановке, когда стемнеет, Ленька вылезет и откроет дверь. А в Киеве-товарном выйдем.
— Но ведь нам нужно в Одессу! — удивился Ленька.
— О, тогда, сеньор, подойдите к начальнику вокзала и потребуйте, чтобы данный экспресс отправили в Одессу, — иронически посоветовал Жук. — Начальники вокзалов люди чуткие, отцы родные. Короче, в Киеве пересядем, состав дальше не пойдёт. Что, не видели надпись: «Витебск — Киев»? Кстати, — неожиданно
Жук обратился к Федьке, — того разговора не было. На свежую голову решил: еду с вами.
— Ребята! — радостно заорал Федька. — Ура! Жук с нами!
— Так ведь мы это ещё вчера знали, — удивился Гришка, делая нам знаки.
— Я вчера просто ещё окончательно не решил, — признался Жук, — и поделился с Федькой другим планом. Но с вами, чёрт возьми, интереснее. Давайте ваш
словарь!
Мы зубрили слова, проверяя друг друга. Потом Жук показывал, как обезоруживать противника, если у него в руках нож, как увёртываться от ударов, связывать руки. Когда стемнело, Жук на остановке спустил Леньку на землю, и Ленька открыл задвижку двери. Теперь уже мы не были в западне и почувствовали себя хозяевами положения.
— Такой длинной верёвкой, как у вас, — сказал Жук, — можно связать человек пять. Если не больше.
— Не разрезая верёвку? — поразился Ленька.
— А чего портить добро? А ну-ка!
В несколько минут Жук ловко связал кисти наших рук, обмотал ноги и толкнул меня в спину. Я со смехом упал, и за мной — все остальные. Мы весело барахтались на сене, все больше запутываясь. Связанные кисти начали неметь.
— Развязывай, Жук! — крикнул Федька. — Понятно!
Но Жук не торопился нас развязывать. Он полез к себе, порылся в картошке и спустился вниз с маленьким чемоданчиком. Потом вновь забрался к нам, наверх. От его взгляда у меня по спине забегали мурашки.
— Лежите спокойно, сеньоры, — сказал Жук с холодной усмешкой. — Игра закончена.
— Ты чего, белены объелся? — поразился Федька. Жук с силой ткнул его ногой в бок.
— Трепач! — процедил он сквозь зубы и грязно выругался. — Думаешь, я спал?
Мы притихли. Жук взял наши пистолеты, погладил инкрустированные серебром стволы и уложил пистолеты в чемоданчик.
— Вот что, сеньоры, — сказал он, вытаскивая откуда-то из ботинка узкую финку. — На первой же остановке я уйду. Конечно, я мог бы пристукнуть вас сразу, в порядке живой очереди, но что тогда будут делать республиканцы, к которым я, между прочим, испытываю симпатию? Живите, но с одним условием: лежать молча! Если кто крикнет — вернусь. И тогда ваши мамы наденут чёрные платья. Понятно?
— Да, — пискнул Ленька, с ужасом глядя на финку.
— Остальные! — грозно прикрикнул Жук.
— Да, — выдавили мы с Гришкой.
— А ты? — Жук снова ударил Федьку ногой, и, наверное, очень больно, потому что Федька скривился.
— В-вот! — выдохнул Федька и, извернувшись змеёй, ударил связанными ногами по ногам Жука. Тот взмахнул руками, потерял равновесие и полетел вниз. Мы вскрикнули.
— Быстрее! — лихорадочно торопил Федька, повернувшись к нам спиной. — Развязывай зубами!
Не знаю, сколько это продолжалось. Нам казалось, что целый час, хотя, наверное, прошло минут пять. Каждую секунду мы ожидали, что Жук влезет наверх и вонзит в грудь финку. Мы задыхались, мешали друг другу, но наконец развязали Федьке руки. Он быстро заглянул вниз, удовлетворённо хмыкнул и развязал нас.
На полу, раскинувшись, лежал Жук. Падая, он ударился головой об острый край доски, и около него расплывалось тёмное пятно. Он был без сознания, и, хотя Федька первым делом вытащил из его рук финку, связывать Жука было страшно. И, лишь накрепко перемотав верёвками его руки и ноги, мы облегчённо вздохнули. Федька вылил на окровавленную голову Жука остатки воды. Бандит со стоном открыл глаза. В том, что Жук был бандитом, мы больше не сомневались.
— Гадюка! — зло сказал Федька, глядя прямо ему в глаза. — Подлая гадюка!
— Развяжи, — тихо проговорил Жук, отводя взор. — Хуже будет, развяжи. Денег дам.
— Я тебя развяжу! — Федька пнул Жука ногой. — Гадюка!
— Лежачего не бьют! — вступился Гришка.
— Ребята, он грабитель! — завизжал Ленька. — Смотрите!
Мы ахнули. В чемоданчике, который Ленька раскрыл, были кольца, часы и бусы.
— Развяжите, гады! — прошипел Жук, и голова его бессильно откинулась набок: он снова потерял сознание.
Теперь мы мечтали только об одном: чтобы поезд быстрее остановился. План был такой. Мы тихонько вылезем, найдём милиционера, отдадим ему чемоданчик и скажем, что в вагоне лежит связанный бандит. Милиционер побежит к вагону, а мы скроемся.
Но все получилось не так. Когда на остановке мы выглянули в окошко, у соседнего вагона уже стояли трое милиционеров. Увидев Ленькину голову, они бросились к нашему вагону и открыли дверь.
— Вылезайте! — весело потребовал милиционер с кубиком в петлицах. — Испанцы? Точно: раз, два, три, четыре! Они!
«Попались», — грустно сообщили мы друг другу глазами.
— А нас пять, — сообщил Ленька, протягивая чемоданчик. — Вот!
Милиционеры вытаращили глаза.
— Это не наше, — торопливо разъяснил Гришка, — это Жука
— Какого Жука? — воскликнул командир. Милиционеры торопливо забрались в вагон и вытащили Жука на землю.
— Какая радостная встреча! — слабым голосом проговорил Жук, открыв глаза. — А где оркестр? Почётный караул?
— Он самый, — сообщил командиру милиционер, показывая фотокарточку. — Савельев Пётр. Что ювелирный очистил.
— Точно, гражданин начальник, — подтвердил Жук и весело взглянул на нас. — А за вами, сеньоры мушкетёры, должок. Взыщу, не забуду.
Мог ли я знать, что в начале мая сорок пятого года я продолжу этот разговор один на один с Петром Савельевым — самым страшным человеком, которого я встретил за первые десять лет своей жизни…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЩЕНКИ УЧАТСЯ ПЛАВАТЬ
МЕЧТАТЕЛИ
Война!
Все перевернулось в нашей жизни.
Мы — эвакуированные, я и мой новый друг Сашка, наша Белоруссия под фашистской пятой. Отцы наши с первых дней на фронте, матери вкалывают по двенадцать часов на заводе, а дом без матери — что радиоприёмник без ламп. И есть он, и нет его.
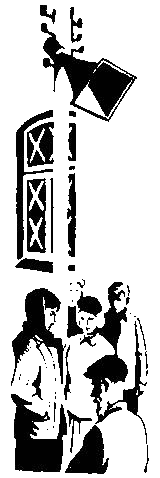 Все, что будет далее в этой повести, — о воине, о тыле и передовой. Но сначала я хочу рассказать о том, как в войну мечтали.
Все, что будет далее в этой повести, — о воине, о тыле и передовой. Но сначала я хочу рассказать о том, как в войну мечтали.
Сытый человек даже яблоко жуёт без радости. В нем нет потребности.
Когда человек жизнью удовлетворён, он мечтает вяло и неинтересно. Ему мечта не очень-то нужна, так, чуть-чуть, для приятности.
Необыкновенных мечтателей порождают необычайные обстоятельства. Те жизненные бури, которые вдруг сметают все наносное, чтобы человек с жуткой ясностью увидел главное, во имя чего стоит жить. И не только увидел, но и ощутил на своей шкуре, чего стоят эти главные в жизни вещи.
В войну мечтали все.
Скажу о самом себе. Мальчишка не был бы мальчишкой, если бы в его крохотном мирке не жили мечты индивидуальные, связанные с его личностью.
Больше всего я любил мечтать по дороге к брату. Он заканчивал курсы военных радистов и через два месяца должен был отправляться на фронт. До его части было километров двенадцать пешком, попутные машины были военные, брали редко. Я шёл по обочине разбитого и пыльного шоссе, вдоль скудного колхозного поля сорок третьего года и старался дышать по системе наполеоновских солдат: шесть шагов — вдох, шесть шагов — выдох. Задумывался, сбивался, снова считал, опять задумывался и, плюнув на систему, шёл просто так.
Честно признаюсь, мечты мои были на редкость однообразны, как две капли воды похожие на мечты моих сверстников.
Я мечтал стать героем. Ну, не обязательно так уж сразу Героем Советского Союза, — но всё-таки героем. В самом обидном крайнем случае я, как Тёркин, был согласен на медаль. Но нужен был орден, ещё лучше два.
Погодите, это только начало. Меня ещё обязательно должны были ранить, очень желательно не тяжело — в руку или ногу. Под сочувственными взглядами прохожих, прихрамывая, идёт по улице с палочкой юный фронтовик. Вдруг притормаживает — хотя до остановки далеко, именно поэтому! — трамвай, и из него выскакивает молоденькая вагоновожатая (такой случай я видел). «Садись, в ногах правды нет», — краснея, говорит она и помогает фронтовику подняться в вагон. Мне уступают место, я сажусь, а мальчишки смотрят на мои ордена…
И ещё такая картина. Я сижу в блиндаже. Рвутся снаряды, ревут самолёты. Через
полчаса бой. В углу санинструктор перевязывает раненого, ребята набивают патронами диски, а я беру гитару и тихонько напеваю: «Темна-ая ночь, только пули свистят по степи, только ветер гуди-ит в проводах, тускло звезды мер-цаю-ют…» Открывается дверь, и в блиндаж, отряхиваясь, входит боец с письмами в руках. «Полунин Мишка живой?» — «Живой, вот я!» — «Тогда пляши — письмо!» Под дружелюбный смех ребят я лихо отплясываю «Эх, яблочко!» и со снисходительной улыбкой читаю коллективное письмо моего седьмого «А» класса: «Дорогой Миша, прочитали в газете рассказ про тебя с твоим портретом у подбитого танка…»
Или ещё. В рукопашной смешались роты, и я короткой очередью укладываю немца, который взмахнул кинжалом над спиной нашего матроса. Немец «Майн готт!» — и на землю. «Спасибо, братишка!» — говорит матрос… и бросается ко мне в объятья. «Мишка!» — «Федька!» Мы целуемся, утираем, не стыдясь, слезы и всю ночь сидим рассказываем свои истории. Я рассказываю, как бомбой перевернуло эшелон, в котором эвакуировались Гришка и Ленька, и мы снимаем бескозырки… (ведь мы оба в морской пехоте).
А потом я возвращаюсь домой — неожиданно, конечно, в этом самая изюминка. Открываю своим ключом дверь, и…
Это была главная мечта. Она как-то заслоняла собой все остальные. Я сейчас попробую объяснить почему.
Как-то ночью я проснулся от маминого кашля. Тускло горела засиженная мухами голая лампочка. Мама собиралась на завод, кашляла и прикрывала рот рукой. Под глазами у неё чернели непроходящие круги. Мимо нас по коридору кто-то шёл — тяжёлые шаги подкованных сапог. Мама присела и долго провожала невидимые шаги глазами. Заметив, что я за ней наблюдаю, она сказала хрипло, срывающимся голосом:
— Я подумала — а вдруг это папа? Вошёл бы и засмеялся: «Эх вы, сони, проспали — Гитлера повесили, война окончилась!»
Никогда не слышал ничего прекраснее этой мечты.
О чем только не мечтали в войну! Идёшь по улице — и вдруг находишь целую хлебную карточку! (Плохая мечта — чужая беда.) Или: завком дал ордер маме на пальто или на ботинки. Или: союзники открыли второй фронт. Вот это было бы здорово!
Но никогда и нигде я не слышал ничего прекраснее мечты моей мамы — нет, всех миллионов мам: «Эх вы, сони, проспали — Гитлера повесили, война окончилась!»
Тем, кто не жил этой мечтой, тем, кому она не заменяла хлеба, одежды, крова, её не понять. Можете напрячь воображение, вспомнить кинокартины о войне, книги о войне, рассказы дедушек и бабушек, пап и мам, сделать вид, что вы поняли и даже произнести: «Да-а-а!» — всё равно тем, кто не жил этой мечтой, её не понять.
А мы, мальчишки военных лет, понимали. В том числе понимал и я, далеко не самый пострадавший. Понимал и умом и сердцем, всем своим существом.
Потому что на наших глазах окрасилась кровью родная земля.
Потому что в городе, в котором я прожил короткие детские годы, теперь были фашисты.
Потому что моя бабушка, мои тётки и их дети — мои братья и сестры — были расстреляны.
Потому что мы каждый день видели газеты с фотографиями замученных, повешенных, растерзанных советских людей.
Потому что от отца три месяца не было писем, пока он не вышел из окружения.
Потому что я видел глаза мамы, когда эшелон увозил брата на фронт.
Потому что я видел глаза мамы, когда к нам входил почтальон: кто, кто знал, что он принёс в своей сумке?
Потому что я видел и слышал, как бились головой о стену, катались по полу, выли женщины, потерявшие мужей и сыновей.
Нет ничего трагичнее гибели и ничего прекраснее возвращения с победой.
В войну научились мечтать о главном. Вот почему я больше всего мечтал о том, как вернусь с фронта домой, своим ключом открою дверь — неожиданно — и увижу мамины глаза, из которых навсегда уйдёт печаль.
Все перевернулось в нашей жизни.
Мы — эвакуированные, я и мой новый друг Сашка, наша Белоруссия под фашистской пятой. Отцы наши с первых дней на фронте, матери вкалывают по двенадцать часов на заводе, а дом без матери — что радиоприёмник без ламп. И есть он, и нет его.
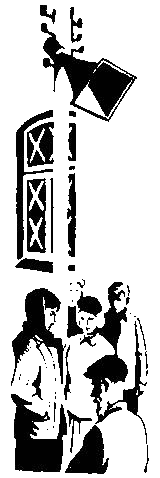
Сытый человек даже яблоко жуёт без радости. В нем нет потребности.
Когда человек жизнью удовлетворён, он мечтает вяло и неинтересно. Ему мечта не очень-то нужна, так, чуть-чуть, для приятности.
Необыкновенных мечтателей порождают необычайные обстоятельства. Те жизненные бури, которые вдруг сметают все наносное, чтобы человек с жуткой ясностью увидел главное, во имя чего стоит жить. И не только увидел, но и ощутил на своей шкуре, чего стоят эти главные в жизни вещи.
В войну мечтали все.
Скажу о самом себе. Мальчишка не был бы мальчишкой, если бы в его крохотном мирке не жили мечты индивидуальные, связанные с его личностью.
Больше всего я любил мечтать по дороге к брату. Он заканчивал курсы военных радистов и через два месяца должен был отправляться на фронт. До его части было километров двенадцать пешком, попутные машины были военные, брали редко. Я шёл по обочине разбитого и пыльного шоссе, вдоль скудного колхозного поля сорок третьего года и старался дышать по системе наполеоновских солдат: шесть шагов — вдох, шесть шагов — выдох. Задумывался, сбивался, снова считал, опять задумывался и, плюнув на систему, шёл просто так.
Честно признаюсь, мечты мои были на редкость однообразны, как две капли воды похожие на мечты моих сверстников.
Я мечтал стать героем. Ну, не обязательно так уж сразу Героем Советского Союза, — но всё-таки героем. В самом обидном крайнем случае я, как Тёркин, был согласен на медаль. Но нужен был орден, ещё лучше два.
Погодите, это только начало. Меня ещё обязательно должны были ранить, очень желательно не тяжело — в руку или ногу. Под сочувственными взглядами прохожих, прихрамывая, идёт по улице с палочкой юный фронтовик. Вдруг притормаживает — хотя до остановки далеко, именно поэтому! — трамвай, и из него выскакивает молоденькая вагоновожатая (такой случай я видел). «Садись, в ногах правды нет», — краснея, говорит она и помогает фронтовику подняться в вагон. Мне уступают место, я сажусь, а мальчишки смотрят на мои ордена…
И ещё такая картина. Я сижу в блиндаже. Рвутся снаряды, ревут самолёты. Через
полчаса бой. В углу санинструктор перевязывает раненого, ребята набивают патронами диски, а я беру гитару и тихонько напеваю: «Темна-ая ночь, только пули свистят по степи, только ветер гуди-ит в проводах, тускло звезды мер-цаю-ют…» Открывается дверь, и в блиндаж, отряхиваясь, входит боец с письмами в руках. «Полунин Мишка живой?» — «Живой, вот я!» — «Тогда пляши — письмо!» Под дружелюбный смех ребят я лихо отплясываю «Эх, яблочко!» и со снисходительной улыбкой читаю коллективное письмо моего седьмого «А» класса: «Дорогой Миша, прочитали в газете рассказ про тебя с твоим портретом у подбитого танка…»
Или ещё. В рукопашной смешались роты, и я короткой очередью укладываю немца, который взмахнул кинжалом над спиной нашего матроса. Немец «Майн готт!» — и на землю. «Спасибо, братишка!» — говорит матрос… и бросается ко мне в объятья. «Мишка!» — «Федька!» Мы целуемся, утираем, не стыдясь, слезы и всю ночь сидим рассказываем свои истории. Я рассказываю, как бомбой перевернуло эшелон, в котором эвакуировались Гришка и Ленька, и мы снимаем бескозырки… (ведь мы оба в морской пехоте).
А потом я возвращаюсь домой — неожиданно, конечно, в этом самая изюминка. Открываю своим ключом дверь, и…
Это была главная мечта. Она как-то заслоняла собой все остальные. Я сейчас попробую объяснить почему.
Как-то ночью я проснулся от маминого кашля. Тускло горела засиженная мухами голая лампочка. Мама собиралась на завод, кашляла и прикрывала рот рукой. Под глазами у неё чернели непроходящие круги. Мимо нас по коридору кто-то шёл — тяжёлые шаги подкованных сапог. Мама присела и долго провожала невидимые шаги глазами. Заметив, что я за ней наблюдаю, она сказала хрипло, срывающимся голосом:
— Я подумала — а вдруг это папа? Вошёл бы и засмеялся: «Эх вы, сони, проспали — Гитлера повесили, война окончилась!»
Никогда не слышал ничего прекраснее этой мечты.
О чем только не мечтали в войну! Идёшь по улице — и вдруг находишь целую хлебную карточку! (Плохая мечта — чужая беда.) Или: завком дал ордер маме на пальто или на ботинки. Или: союзники открыли второй фронт. Вот это было бы здорово!
Но никогда и нигде я не слышал ничего прекраснее мечты моей мамы — нет, всех миллионов мам: «Эх вы, сони, проспали — Гитлера повесили, война окончилась!»
Тем, кто не жил этой мечтой, тем, кому она не заменяла хлеба, одежды, крова, её не понять. Можете напрячь воображение, вспомнить кинокартины о войне, книги о войне, рассказы дедушек и бабушек, пап и мам, сделать вид, что вы поняли и даже произнести: «Да-а-а!» — всё равно тем, кто не жил этой мечтой, её не понять.
А мы, мальчишки военных лет, понимали. В том числе понимал и я, далеко не самый пострадавший. Понимал и умом и сердцем, всем своим существом.
Потому что на наших глазах окрасилась кровью родная земля.
Потому что в городе, в котором я прожил короткие детские годы, теперь были фашисты.
Потому что моя бабушка, мои тётки и их дети — мои братья и сестры — были расстреляны.
Потому что мы каждый день видели газеты с фотографиями замученных, повешенных, растерзанных советских людей.
Потому что от отца три месяца не было писем, пока он не вышел из окружения.
Потому что я видел глаза мамы, когда эшелон увозил брата на фронт.
Потому что я видел глаза мамы, когда к нам входил почтальон: кто, кто знал, что он принёс в своей сумке?
Потому что я видел и слышал, как бились головой о стену, катались по полу, выли женщины, потерявшие мужей и сыновей.
Нет ничего трагичнее гибели и ничего прекраснее возвращения с победой.
В войну научились мечтать о главном. Вот почему я больше всего мечтал о том, как вернусь с фронта домой, своим ключом открою дверь — неожиданно — и увижу мамины глаза, из которых навсегда уйдёт печаль.
СТАРШИЙ БРАТ И СТАРШИНА ПАНАСЮК
Я сидел у забора и смотрел, как брат занимается строевой подготовкой.
— Раз-два, раз-два, напра-а-во! Пррямо!
Странно — лица у ребят весёлые, а между тем я доподлинно знал, как проклинают они постылую строевую подготовку. Кому она нужна на передовой?
— Бегом! Ложись!
 А лица всё равно весёлые. Наверняка что-то случилось. Может, приказ на фронт? Вряд ли, только-только привезли рации новой конструкции, нужно время, чтобы к ним привыкнуть.
А лица всё равно весёлые. Наверняка что-то случилось. Может, приказ на фронт? Вряд ли, только-только привезли рации новой конструкции, нужно время, чтобы к ним привыкнуть.
— Раз-два, раз-два! Смиррна! Рота-а-а, стой! Полунин, выйди из строя! Почему в строю лыбишься?
— Погода хорошая, товарищ старшина! — рявкнул брат.
— На пляж бы с девчонкой, да?
— Так точно!
— А на губу не хочешь?
— Никак нет! Лучше на пляж с девчонкой, товарищ старшина!
— Мо-олчать! Наряд вне очереди!
— Есть наряд вне очереди!
— Почему снова лыбишься?
— Погода хорошая, товарищ старшина!
— Два наряда вне очереди! Кру-гом! Ро-о-ота, бегом марш!
А лица всё равно весёлые! Загадка, и только.
Старшину Панасюка люто ненавидела вся рота радистов. Этот здоровый, с упитанной рожей человек обладал чрезвычайно примитивной психологией. Довести ребят до изнеможения, унизить их по возможности, подавить морально — вот в чём он, наверное, видел смысл своей должности. Получив в свои руки кратковременную власть над сотней семнадцатилетних мальчишек, он наслаждался своей всесильностью и безнаказанностью.
— Мстит людям за своё ничтожество, — говорили ребята.
Служакой он был, однако, отменным, материальную часть знал превосходно, всевозможные уставы цитировал наизусть и чрезвычайно этим гордился. Ядовитую солдатскую шутку — «о воин, службою живущ! Читай устав на сон грядущ. И утром, ото сна восстав, читай усиленно устав!» — он воспринимал со всей серьёзностью. За порядок в роте начальство его ценило: только этим, наверное, можно было объяснить, что Панасюк прочно врос в тыл — за два года войны он так и не понюхал пороха.
Поначалу брату было плохо. Двенадцатичасовой рабочий день на подшипниковом заводе не шёл ни в какое сравнение с буднями солдата. За трудным заводским днём стоял дом и книги, которые брат глотал с ненасытной жадностью, приводя в отчаянье библиотекарей. Но одно дело недоспать из-за умной книги, и совсем другое — всю ночь скоблить сапёрной лопаткой грязный пол казармы. К тому же брата невзлюбил Панасюк. Те, кто служил в армии, знают, как легко может старшина испортить жизнь солдату: неровно пришит воротничок, недочищена винтовка, не так встал, не так сел — наряд вне очереди! Но брат оказался упрямым парнем, и ни разу Панасюк не мог похвастаться тем, что рядовой Полунин сменил свой иронический взгляд на подобострастный. Володька Мастеров, приятель брата, мне рассказывал:
— Панасюк поставил его по стойке «смирно», ухмыльнулся и спрашивает: «Не нравится служба? Думал, в санаторий попадёшь?» — «Так точно, товарищ старшина! Думал, что в санаторий!» — «Га, га! Вот представь себе, что ты в гражданке, идёшь по улице и видишь меня. Что будешь делать?» — «Отвернусь и сплюну, товарищ старшина!»
Ух, как я ненавидел Панасюка!
— Напраа-во! Пря-ямо! Запевай!
— Крас-асноармеец был ге-рой, на разведке бо-о-ое-вой! Да эй! Эй, красный герой! На разведке бо-о-оевой!
— Ррота-а, стой! Смиррна! Ра-азойдись!
Наконец-то. Брат и Володька подбежали к забору, упали на траву, донельзя усталые — и весёлые! Я передал им буханку и кастрюлю с остывшей перловой кашей, недельную добавку к невесёлому тыловому пайку.
— Что это вы лыбитесь, товарищи рядовые? — поинтересовался я.
И мне была рассказана история, до краёв наполнившая меня сказочным удовольствием.
Среди целого арсенала «воспитательных средств», которым владел Панасюк, особое место занимала «проверка часового». Ночью старшина подползал со стороны кустов к солдату, стоявшему на часах у склада, выбирал удобный момент, набрасывался, валил на землю, выхватывал из винтовки затвор и убегал. Ну, а потом — наряды вне очереди, гауптвахта, насмешки — выбор был большой. Через это унижение прошло уже человек пять, в том числе брат. Легко себе представить, какими оплёванными чувствовали себя ребята, как травмировали их эти подлые выходки. Панасюк был очень силён, и ребята, идущие в караул, чувствовали себя беспомощными.
Но сегодняшней ночью они были полностью отомщены.
Петьку Ливанова, маленького и щуплого паренька, Панасюк совершенно презирал и свирепо преследовал за необычайную сонливость. Петька мог заснуть на одну, три, десять минут — по заказу. Больше он не выделялся ничем: стрелял средне, на ключе работал на тройку, обмотки закручивал сносно. И вот Петька оказался ночным часовым у того самого склада, рядом с кустами. Лил проливной дождь, ни зги не видно — светомаскировка, и Петька, закутавшись в свою плащ-палатку, прислонился к стене и тихо дремал. В этот момент и накинулся на него Панасюк.
На крики прибежал разводящий, привычно ругая про себя старшину, прибежал — и не поверил своим глазам. В грязной луже, с ног до головы облепленный грязью, лицом вниз лежал Панасюк и дико орал. На нем сидел Петька Ливанов, аккуратно подёргивая вывернутые руки старшины и приговаривая: «Часовой, гражданин неизвестный, лицо неприкосновенное. Часовой, гражданин неизвестный, лицо неприкосновенное…»
Кто бы мог подумать, что маленький и щуплый Петька Ливанов — чемпион области по самбо!
— Три месяца ждал, — зевая, пояснял Петька. — Потому и не рассказывал про самбо.
— Теперь его песенка спета, — закончил брат. — Помнишь в «Маугли» беззубую кобру? Он тоже теперь не страшен — все над ним смеются. Ничто так не убивает, как смех.
Вот и все о Панасюке. Когда я пришёл через неделю, в роте уже был другой старшина, из фронтовиков, славный парень. При нем уже никто не скрёб ночами лопаткой пол, никто не стоял в полной выкладке под ружьём до отбоя: ребят, у которых не было поблизости родных, новый старшина подкармливал как мог, а в свободное время, собрав вокруг себя молодых солдат, рассказывал о фронтовой жизни. А куда делся Панасюк, никто не знал. Перевели куда-то. Может, на новом месте он исправился, только вряд ли…
А брат через месяц уехал на фронт. На Курской дуге он был ранен пулей в ногу, пролежал два месяца в госпитале, потом снова воевал, украсил свою гимнастёрку красной нашивкой и орденом Славы, а второго мая сорок пятого расписался на рейхстаге: «Гитлер капут! Рядовой Полунин». И вернулся домой — заканчивать десятый класс, ходить на пляж с девчонкой и приводить в отчаяние библиотекарей.
— Раз-два, раз-два, напра-а-во! Пррямо!
Странно — лица у ребят весёлые, а между тем я доподлинно знал, как проклинают они постылую строевую подготовку. Кому она нужна на передовой?
— Бегом! Ложись!

— Раз-два, раз-два! Смиррна! Рота-а-а, стой! Полунин, выйди из строя! Почему в строю лыбишься?
— Погода хорошая, товарищ старшина! — рявкнул брат.
— На пляж бы с девчонкой, да?
— Так точно!
— А на губу не хочешь?
— Никак нет! Лучше на пляж с девчонкой, товарищ старшина!
— Мо-олчать! Наряд вне очереди!
— Есть наряд вне очереди!
— Почему снова лыбишься?
— Погода хорошая, товарищ старшина!
— Два наряда вне очереди! Кру-гом! Ро-о-ота, бегом марш!
А лица всё равно весёлые! Загадка, и только.
Старшину Панасюка люто ненавидела вся рота радистов. Этот здоровый, с упитанной рожей человек обладал чрезвычайно примитивной психологией. Довести ребят до изнеможения, унизить их по возможности, подавить морально — вот в чём он, наверное, видел смысл своей должности. Получив в свои руки кратковременную власть над сотней семнадцатилетних мальчишек, он наслаждался своей всесильностью и безнаказанностью.
— Мстит людям за своё ничтожество, — говорили ребята.
Служакой он был, однако, отменным, материальную часть знал превосходно, всевозможные уставы цитировал наизусть и чрезвычайно этим гордился. Ядовитую солдатскую шутку — «о воин, службою живущ! Читай устав на сон грядущ. И утром, ото сна восстав, читай усиленно устав!» — он воспринимал со всей серьёзностью. За порядок в роте начальство его ценило: только этим, наверное, можно было объяснить, что Панасюк прочно врос в тыл — за два года войны он так и не понюхал пороха.
Поначалу брату было плохо. Двенадцатичасовой рабочий день на подшипниковом заводе не шёл ни в какое сравнение с буднями солдата. За трудным заводским днём стоял дом и книги, которые брат глотал с ненасытной жадностью, приводя в отчаянье библиотекарей. Но одно дело недоспать из-за умной книги, и совсем другое — всю ночь скоблить сапёрной лопаткой грязный пол казармы. К тому же брата невзлюбил Панасюк. Те, кто служил в армии, знают, как легко может старшина испортить жизнь солдату: неровно пришит воротничок, недочищена винтовка, не так встал, не так сел — наряд вне очереди! Но брат оказался упрямым парнем, и ни разу Панасюк не мог похвастаться тем, что рядовой Полунин сменил свой иронический взгляд на подобострастный. Володька Мастеров, приятель брата, мне рассказывал:
— Панасюк поставил его по стойке «смирно», ухмыльнулся и спрашивает: «Не нравится служба? Думал, в санаторий попадёшь?» — «Так точно, товарищ старшина! Думал, что в санаторий!» — «Га, га! Вот представь себе, что ты в гражданке, идёшь по улице и видишь меня. Что будешь делать?» — «Отвернусь и сплюну, товарищ старшина!»
Ух, как я ненавидел Панасюка!
— Напраа-во! Пря-ямо! Запевай!
— Крас-асноармеец был ге-рой, на разведке бо-о-ое-вой! Да эй! Эй, красный герой! На разведке бо-о-оевой!
— Ррота-а, стой! Смиррна! Ра-азойдись!
Наконец-то. Брат и Володька подбежали к забору, упали на траву, донельзя усталые — и весёлые! Я передал им буханку и кастрюлю с остывшей перловой кашей, недельную добавку к невесёлому тыловому пайку.
— Что это вы лыбитесь, товарищи рядовые? — поинтересовался я.
И мне была рассказана история, до краёв наполнившая меня сказочным удовольствием.
Среди целого арсенала «воспитательных средств», которым владел Панасюк, особое место занимала «проверка часового». Ночью старшина подползал со стороны кустов к солдату, стоявшему на часах у склада, выбирал удобный момент, набрасывался, валил на землю, выхватывал из винтовки затвор и убегал. Ну, а потом — наряды вне очереди, гауптвахта, насмешки — выбор был большой. Через это унижение прошло уже человек пять, в том числе брат. Легко себе представить, какими оплёванными чувствовали себя ребята, как травмировали их эти подлые выходки. Панасюк был очень силён, и ребята, идущие в караул, чувствовали себя беспомощными.
Но сегодняшней ночью они были полностью отомщены.
Петьку Ливанова, маленького и щуплого паренька, Панасюк совершенно презирал и свирепо преследовал за необычайную сонливость. Петька мог заснуть на одну, три, десять минут — по заказу. Больше он не выделялся ничем: стрелял средне, на ключе работал на тройку, обмотки закручивал сносно. И вот Петька оказался ночным часовым у того самого склада, рядом с кустами. Лил проливной дождь, ни зги не видно — светомаскировка, и Петька, закутавшись в свою плащ-палатку, прислонился к стене и тихо дремал. В этот момент и накинулся на него Панасюк.
На крики прибежал разводящий, привычно ругая про себя старшину, прибежал — и не поверил своим глазам. В грязной луже, с ног до головы облепленный грязью, лицом вниз лежал Панасюк и дико орал. На нем сидел Петька Ливанов, аккуратно подёргивая вывернутые руки старшины и приговаривая: «Часовой, гражданин неизвестный, лицо неприкосновенное. Часовой, гражданин неизвестный, лицо неприкосновенное…»
Кто бы мог подумать, что маленький и щуплый Петька Ливанов — чемпион области по самбо!
— Три месяца ждал, — зевая, пояснял Петька. — Потому и не рассказывал про самбо.
— Теперь его песенка спета, — закончил брат. — Помнишь в «Маугли» беззубую кобру? Он тоже теперь не страшен — все над ним смеются. Ничто так не убивает, как смех.
Вот и все о Панасюке. Когда я пришёл через неделю, в роте уже был другой старшина, из фронтовиков, славный парень. При нем уже никто не скрёб ночами лопаткой пол, никто не стоял в полной выкладке под ружьём до отбоя: ребят, у которых не было поблизости родных, новый старшина подкармливал как мог, а в свободное время, собрав вокруг себя молодых солдат, рассказывал о фронтовой жизни. А куда делся Панасюк, никто не знал. Перевели куда-то. Может, на новом месте он исправился, только вряд ли…
А брат через месяц уехал на фронт. На Курской дуге он был ранен пулей в ногу, пролежал два месяца в госпитале, потом снова воевал, украсил свою гимнастёрку красной нашивкой и орденом Славы, а второго мая сорок пятого расписался на рейхстаге: «Гитлер капут! Рядовой Полунин». И вернулся домой — заканчивать десятый класс, ходить на пляж с девчонкой и приводить в отчаяние библиотекарей.
МЫ ЕЩЁ ВСТРЕТИМСЯ, ТОВАРИЩ МАЙОР!
Мы жили войной.
В шесть утра убегала на завод мама, а я включал радио и слушал «От Советского Информбюро». Прежде чем свернуть из переулка, мама останавливалась и смотрела на наше окно. Когда новости были хорошие, я высовывался и радостно махал рукой, а иной раз даже орал во все горло: «Взяли Харьков, вечером салют!»
И слышал, как разбуженные соседи начинают весело переговариваться и включать динамики.
Придя в класс, мы собирались у подвешенной рядом с доской карты и втыкали флажки в сегодняшнюю линию фронта. Во время уроков карта отвлекала, рассеивала наше внимание, по всем педагогическим канонам её нужно было снять или перевесить, но учителя тоже были людьми, которые жили войной. И поэтому каждый урок начинался с карты.
Мы читали газеты не так, как читают сейчас — спокойно, без сердцебиения: мы сначала жадно проглатывали сводку с фронтов, а потом — рассказы и очерки о героях. В кино мы больше всего любили журналы с фронтовыми документальными кадрами: залпами «катюш», развороченными дотами и длинными вереницами пленных фашистов.
Мы жили войной днём и ночью. Днём мы думали о войне, а ночью она нам снилась. Мы метались на постелях, скрываясь от танков, бросали гранаты и с криком просыпались от удара штыком в грудь.
Война заполнила все наше существование. Она лишила нас детства с его беззаботными радостями. Каждый из нас был старше самого себя на годы войны.
И это неизбежно привело к тому, что из нас, пацанов военного времени, рванулись такие скрытые силы, о которых мы даже не подозревали. Взрыв породил энергию. Сказать, что мы повзрослели, — это не значит сказать все.
Раньше за нас отвечали папы и мамы, теперь мы возложили их бремя на свои плечи. Нас словно схватили за загривок и швырнули в водоворот: одни из нас утонули, а другие выбрались и решили, что отныне могут все. В упоении самостоятельностью мы часто ошибались и преувеличивали свои возможности, не понимая, что расстояние между бальзаковским «желать» и «мочь» заполнено горьким жизненным опытом. Наш опыт, проглоченный слишком большим куском, развил не столько ум, сколько интуицию. И самоуверенность наша шла от незнания.
Поэтому мы пришли к выводу, что можем и должны уйти на фронт.
Мы опирались на железные факты:
Аркадий Гайдар в пятнадцать лет командовал полком.
Саша Чекалин, наш сверстник, стал героем.
Пятнадцатилетние партизаны — в каждой газете.
Значит, в пятнадцать лет каждый патриот, способный носить оружие, имеет право убивать и быть убитым. Тем более что —
Где, где это сказано? — горячились мы.
Потому что чувствовали всем своим существом: мальчишке нужен подвиг, чтобы самоутвердиться в этом мире. В то время как Родина истекает кровью, нельзя жить только для того, чтобы жить.
Таков был вывод, к которому мы пришли летом сорок третьего года.
До зубов вооружённые этой логикой, мы отправились в военкомат.
Фронт начинался в военкоматах. Люди из них, как вода из ручейков, тысячами стекались в бурное русло войны.
Сейчас, когда я, младший лейтенант запаса, по вызову посещаю военкомат (учёба, перерегистрация и прочее), меня поражают тишина и спокойствие этого когда-то не засыпавшего и не знавшего выходных призывного пункта. Так и хочется написать что-нибудь вроде:
В шесть утра убегала на завод мама, а я включал радио и слушал «От Советского Информбюро». Прежде чем свернуть из переулка, мама останавливалась и смотрела на наше окно. Когда новости были хорошие, я высовывался и радостно махал рукой, а иной раз даже орал во все горло: «Взяли Харьков, вечером салют!»
И слышал, как разбуженные соседи начинают весело переговариваться и включать динамики.
Придя в класс, мы собирались у подвешенной рядом с доской карты и втыкали флажки в сегодняшнюю линию фронта. Во время уроков карта отвлекала, рассеивала наше внимание, по всем педагогическим канонам её нужно было снять или перевесить, но учителя тоже были людьми, которые жили войной. И поэтому каждый урок начинался с карты.
Мы читали газеты не так, как читают сейчас — спокойно, без сердцебиения: мы сначала жадно проглатывали сводку с фронтов, а потом — рассказы и очерки о героях. В кино мы больше всего любили журналы с фронтовыми документальными кадрами: залпами «катюш», развороченными дотами и длинными вереницами пленных фашистов.
Мы жили войной днём и ночью. Днём мы думали о войне, а ночью она нам снилась. Мы метались на постелях, скрываясь от танков, бросали гранаты и с криком просыпались от удара штыком в грудь.
Война заполнила все наше существование. Она лишила нас детства с его беззаботными радостями. Каждый из нас был старше самого себя на годы войны.
И это неизбежно привело к тому, что из нас, пацанов военного времени, рванулись такие скрытые силы, о которых мы даже не подозревали. Взрыв породил энергию. Сказать, что мы повзрослели, — это не значит сказать все.
Раньше за нас отвечали папы и мамы, теперь мы возложили их бремя на свои плечи. Нас словно схватили за загривок и швырнули в водоворот: одни из нас утонули, а другие выбрались и решили, что отныне могут все. В упоении самостоятельностью мы часто ошибались и преувеличивали свои возможности, не понимая, что расстояние между бальзаковским «желать» и «мочь» заполнено горьким жизненным опытом. Наш опыт, проглоченный слишком большим куском, развил не столько ум, сколько интуицию. И самоуверенность наша шла от незнания.
Поэтому мы пришли к выводу, что можем и должны уйти на фронт.
Мы опирались на железные факты:
Аркадий Гайдар в пятнадцать лет командовал полком.
Саша Чекалин, наш сверстник, стал героем.
Пятнадцатилетние партизаны — в каждой газете.
Значит, в пятнадцать лет каждый патриот, способный носить оружие, имеет право убивать и быть убитым. Тем более что —
Взрослый! — уточняли взрослые.
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой
Где, где это сказано? — горячились мы.
Потому что чувствовали всем своим существом: мальчишке нужен подвиг, чтобы самоутвердиться в этом мире. В то время как Родина истекает кровью, нельзя жить только для того, чтобы жить.
Таков был вывод, к которому мы пришли летом сорок третьего года.
До зубов вооружённые этой логикой, мы отправились в военкомат.
Фронт начинался в военкоматах. Люди из них, как вода из ручейков, тысячами стекались в бурное русло войны.
Сейчас, когда я, младший лейтенант запаса, по вызову посещаю военкомат (учёба, перерегистрация и прочее), меня поражают тишина и спокойствие этого когда-то не засыпавшего и не знавшего выходных призывного пункта. Так и хочется написать что-нибудь вроде:
