Сергей Тимофеевич с упрёком покачал головой. В последние дни он мучился сознанием сделанной им ошибки: неосторожным признанием в разговоре с командиром роты. Слух о том, что у Ряшенцева служит учёный, кандидат наук, быстро распространился, и то из одной, то из другой роты приходили солдаты «посмотреть на живого профессора», как прозвали Сергея Тимофеевича ещё в запасном полку. Мы очень гордились этим обстоятельством, а Володя, верный телохранитель своего старшего друга, не упускал случая превратить отдельные визиты в спектакли. Сам Володя выступал в качестве режиссёра-постановщика, а Митрофанов, обнаруживший незаурядное актёрское дарование, стал исполнителем.
— Товарищ профессор, к вам пришли, — почтительно обращался к нему Володя.
— Прошю, прошю, — гнусавил Митрофанов и, цепляя найденное в блиндаже золочёное пенсне, важно кивал. Лжепрофессору представлялись, заикаясь от смущения, а он снисходительно махал рукой и бормотал совершеннейшую абракадабру:
— Конфигуряция… кхе-кхе… Бином Ньютона, дорогой товарищ, это тебе не щи хлебать, пардон-котангес-динозавр, чёрт возьми! Закурить найдётся?
И зеваки, удовлетворённые, чуть ли не на цыпочках уходили.
Сергей Тимофеевич наслаждался спектаклем вместе со всеми, но от бесед уклонялся, особенно если они собирали толпу. Однако, весьма довольный тем, что в его руки попала хорошая книга, он разговорился.
И мы, намертво забыв, где находимся и что нас ждёт, сидели вокруг него, слушая рассказ об одной из самых чудесных книг, когда-либо появлявшихся на свете. Мы хохотали над проделками изобретательного плута Тиля, дружно влюблялись в нежную красавицу Неле, возненавидели инквизиторов, в которых без подсказок увидели фашистов, и вместе с великим в своём горе, непримиримым и столь близким нам Уленшпигелем твердили каждый про себя: «Пепел Клааса стучит в моё сердце». Сергей Тимофеевич говорил негромко, покашливая, его слова часто заглушала пулемётная трескотня и разрывы мин, но такого удивительного рассказа я больше никогда не слышал. Быть может, так подействовала обстановка, или умение Сергея Тимофеевича показать созвучность двух эпох, или гениальность самой книги — трудно сказать: во всяком случае, с того памятного вечера я читал «Уленшпигеля» добрый десяток раз, читал с наслаждением, но по-настоящему он ошеломил меня лишь тогда, в окопах над Нейсе. К нам подсаживались все новые слушатели, я видел, как Ряшенцев делал кому-то знаки: «Не мешайте, пусть слушают!» — и Сергей Тимофеевич то под общий смех, то в напряжённой тишине продолжал рассказывать о проделках и подвигах Великого Гёза.
— Три сотни лет назад это было? — спросил Виктор Чайкин, когда Сергей Тимофеевич закончил. — Жаль, нам бы в роту такого парня!
— А он у нас есть.
— Смирно! — запоздало выкрикнул Виктор. — Товарищ гвардии майор! Первый взвод третьей стрелковой роты…
— Вольно! — Локтев кивнул, предложил садиться и сел сам на подставленный ящик из-под мин. — Извините, что подошёл по-кошачьи, у разведчиков научился, — усмехнувшись, сказал он. — Так есть у нас свой Тиль, не менее славный парень — Василий Тёркин.
— Вы правы, товарищ гвардии майор, — проговорил Сергей Тимофеевич. — Я уверен, что Твардовский не раз и с удовольствием перечитывал «Уленшпигеля», создавая ему духовного брата на нашей российской земле.
Мы сгрудились вокруг, с интересом рассматривая командира полка. Он курил, глубоко затягиваясь; теперь, при ближайшем рассмотрении он не показался мне столь молодым, как раньше: гладко выбритое лицо прорезало несколько жёстких морщин, а холодноватые серые глаза глубоко запали — наверное, гвардии майор давно забыл, что такое спокойный и долгий сон. Однако я рад был отметить, что лицо этого человека, которого в полку очень уважали, оказалось умным и симпатичным. Рассказывали, что он много раз был ранен, и комдив личным приказом обязал его без особой необходимости не подменять собой младших командиров и не ходить в атаку в боевых порядках взводов.
— А в вашем батальоне есть даже свой Ламме Гудзак, — глядя на солдат, засновавших по траншее с котелками, шутливо заметил майор. — Повар Гаврилов. Единственный на моей памяти рядовой, которому обмундирование шьют, как генералу, на заказ!
— Только Неле у нас нет, товарищ гвардии майор, — вздохнул Юра Беленький. — Санинструкторы подобрались — сплошные мужчины!
— Нет, вас нужно отсюда забирать, Сергей Тимофеевич, — засмеялся Локтев. — Даже такие мои железные кадры, как Беленький, и те в лирику ударились! И это перед наступлением!
Мы переглянулись. Интонация, с которой майор произнёс эти слова, уважительное обращение по имени-отчеству свидетельствовали о том, что командир полка хорошо знает, с кем ведёт разговор. Сергей Тимофеевич посерьёзнел.
— Спасибо, товарищи, за беседу, — вставая и глядя на часы, сказал командир полка. — Я ведь шёл к вам, Сергей Тимофеевич. В январе я проводил в госпиталь своего друга и вашего в прошлом аспиранта комбата Тихомирова. Он…
— Серёжа… — разволновался Сергей Тимофеевич. — Что с ним?
— Жив и почти здоров, я дам вам его адрес. Он часто вспоминал о ваших лекциях и совместной работе, мечтал после войны с вами встретиться, и я, узнав от Ряшенцева, что вы здесь, немедленно пришёл.
Сергей Тимофеевич благодарно кивнул и вытащил записную книжечку.
— Окажите ещё одну любезность — Сережин адрес…
— Вы сейчас пойдёте со мной, — раздельно выговаривая слова, произнёс майор. — Виктор, прикажи отнести в штаб вещи бойца Корина.
— Но я не хочу уходить из роты! — Сергей Тимофеевич изменился в лице.
— Рядовой Корин! — жёстко отрубил майор. — Вы можете возражать мне в частной беседе, но не на службе. Будьте добры выполнять приказание!
Сергей Тимофеевич беспомощно взглянул на наши огорчённые лица и, ссутулившись, побрёл за командиром полка.
Общее молчание нарушил Володя:
— Жалко, конечно, но правильно майор сделал. Чего такого человека под пули посылать в самый шапочный разбор? Меня, скажем, или Кузина любые баба с мужиком сделают играючи, нам и воевать.
— А мне, думаешь, жить не хочется? — проворчал Кузин. — Чем я хуже его, твоего умника?
— Кто сказал, что хуже? — зло удивился Володя. — Ты, Кузин, выше его на целую голову — ростом, конечно. Куда до тебя Тимофеичу! Он и за день половину того не съест, что ты слопаешь в один присест. Знал я, что ты звёзд с неба не хватаешь, но такого…
— Да нет, я и не говорю… — примирительно сказал Кузин. — Большой человек, чего там.
— Кончай перебранку! — предложил Виктор. — Всем ужинать и отдыхать — завтра будет жарко.
И всё-таки мне довелось остаться наедине с самим собой — заснуть я не мог. Какой там сон, когда под утро мы будем форсировать реку, врываться в чужие окопы, стрелять и бросать гранаты. Стояла полная тишина, прерываемая редкими очередями и отдалённым рокотом самолётов. Я часто курил и думал о том, что часов через восемь будет ясно, не зря ли я родился на белый свет. Ведь если подумать, я не принёс миру никакой пользы, исключая недолгую работу на заводе: матери — одни заботы, государству — сплошные убытки. Это будет на редкость обидно, если сразу убьют. Но эту мысль я сразу отбросил, потому что просто не представлял себя убитым — римляне сочинили «Помни о смерти» не для тех, кто только начал бриться. Тогда я стал мечтать о том, что обнаружу в бою неслыханную храбрость, но тут же вспомнил, что о том же грезил гашековский кадет Биглер, и переключился на ребят. За исключением труса и эгоиста Кузина, они мне нравились: бесшабашный Виктор Чайкин, который, оказывается, тоже начал воевать в шестнадцать лет; язвительный Юра Беленький, который имел право поднять на смех кого угодно, потому что на его гимнастёрке сверкала новенькая «Красная Звезда»; Митрофанов, маленький, но ехидный, наконец-то обнаруживший умение постоять за себя; Митя Коробов, добрый и безобидный, над чистотой и наивностью которого никто не смеялся — грех, как говорил Чайкин-старший, а уж он-то не прощал нам ни единой слабости. И Володя, самый близкий мне теперь человек, красивый душой и телом; с ним рядом я готов был идти куда угодно, потому что Володе верил куда больше, чем самому себе. А Сергей Тимофеевич? Я пожалел, что нельзя скоротать ночь в беседе с ним. Я всегда ревновал его к Володе, которого Сергей Тимофеевич откровенно полюбил, и мечтал, чтобы он и со мной разговаривал так же доверительно, по-отечески ласково…
Потом я заставил себя думать о Тае, о том, как она меня встретит. Но — удивительное дело! — сколько я ни старался, мысли о Тае ускользали из головы, не задерживаясь больше чем на несколько секунд. «Наверное, потому, что все выплеснул в письме», — решил я и начал думать о маме. Но ей я тоже отправил вечером письмо, в котором намекал, что наше училище примет участие в боях. Тогда я стал мечтать о встрече с отцом и братом, которые были где-то недалеко от меня: они писали, что надеются участвовать во взятии Берлина.
В конце концов всех вытеснил дядя Вася, и я с радостью и волнением отдался воспоминаниям. Я встречал в приказах Верховного Главнокомандующего его фамилию и радовался за него, но про себя: не хотелось козырять перед ребятами таким знакомством. По приказам же я определил, что танковый корпус дяди Васи сражается где-то в Прибалтике, и пожалел, что даже случайно не могу его встретить, хотя бы взглянуть на него — не станет ведь простой солдат бросаться на шею командиру корпуса…
Я долго думал о нем, а потом незаметно уснул и проснулся, когда началась артподготовка.
— Товарищ профессор, к вам пришли, — почтительно обращался к нему Володя.
— Прошю, прошю, — гнусавил Митрофанов и, цепляя найденное в блиндаже золочёное пенсне, важно кивал. Лжепрофессору представлялись, заикаясь от смущения, а он снисходительно махал рукой и бормотал совершеннейшую абракадабру:
— Конфигуряция… кхе-кхе… Бином Ньютона, дорогой товарищ, это тебе не щи хлебать, пардон-котангес-динозавр, чёрт возьми! Закурить найдётся?
И зеваки, удовлетворённые, чуть ли не на цыпочках уходили.
Сергей Тимофеевич наслаждался спектаклем вместе со всеми, но от бесед уклонялся, особенно если они собирали толпу. Однако, весьма довольный тем, что в его руки попала хорошая книга, он разговорился.
И мы, намертво забыв, где находимся и что нас ждёт, сидели вокруг него, слушая рассказ об одной из самых чудесных книг, когда-либо появлявшихся на свете. Мы хохотали над проделками изобретательного плута Тиля, дружно влюблялись в нежную красавицу Неле, возненавидели инквизиторов, в которых без подсказок увидели фашистов, и вместе с великим в своём горе, непримиримым и столь близким нам Уленшпигелем твердили каждый про себя: «Пепел Клааса стучит в моё сердце». Сергей Тимофеевич говорил негромко, покашливая, его слова часто заглушала пулемётная трескотня и разрывы мин, но такого удивительного рассказа я больше никогда не слышал. Быть может, так подействовала обстановка, или умение Сергея Тимофеевича показать созвучность двух эпох, или гениальность самой книги — трудно сказать: во всяком случае, с того памятного вечера я читал «Уленшпигеля» добрый десяток раз, читал с наслаждением, но по-настоящему он ошеломил меня лишь тогда, в окопах над Нейсе. К нам подсаживались все новые слушатели, я видел, как Ряшенцев делал кому-то знаки: «Не мешайте, пусть слушают!» — и Сергей Тимофеевич то под общий смех, то в напряжённой тишине продолжал рассказывать о проделках и подвигах Великого Гёза.
— Три сотни лет назад это было? — спросил Виктор Чайкин, когда Сергей Тимофеевич закончил. — Жаль, нам бы в роту такого парня!
— А он у нас есть.
— Смирно! — запоздало выкрикнул Виктор. — Товарищ гвардии майор! Первый взвод третьей стрелковой роты…
— Вольно! — Локтев кивнул, предложил садиться и сел сам на подставленный ящик из-под мин. — Извините, что подошёл по-кошачьи, у разведчиков научился, — усмехнувшись, сказал он. — Так есть у нас свой Тиль, не менее славный парень — Василий Тёркин.
— Вы правы, товарищ гвардии майор, — проговорил Сергей Тимофеевич. — Я уверен, что Твардовский не раз и с удовольствием перечитывал «Уленшпигеля», создавая ему духовного брата на нашей российской земле.
Мы сгрудились вокруг, с интересом рассматривая командира полка. Он курил, глубоко затягиваясь; теперь, при ближайшем рассмотрении он не показался мне столь молодым, как раньше: гладко выбритое лицо прорезало несколько жёстких морщин, а холодноватые серые глаза глубоко запали — наверное, гвардии майор давно забыл, что такое спокойный и долгий сон. Однако я рад был отметить, что лицо этого человека, которого в полку очень уважали, оказалось умным и симпатичным. Рассказывали, что он много раз был ранен, и комдив личным приказом обязал его без особой необходимости не подменять собой младших командиров и не ходить в атаку в боевых порядках взводов.
— А в вашем батальоне есть даже свой Ламме Гудзак, — глядя на солдат, засновавших по траншее с котелками, шутливо заметил майор. — Повар Гаврилов. Единственный на моей памяти рядовой, которому обмундирование шьют, как генералу, на заказ!
— Только Неле у нас нет, товарищ гвардии майор, — вздохнул Юра Беленький. — Санинструкторы подобрались — сплошные мужчины!
— Нет, вас нужно отсюда забирать, Сергей Тимофеевич, — засмеялся Локтев. — Даже такие мои железные кадры, как Беленький, и те в лирику ударились! И это перед наступлением!
Мы переглянулись. Интонация, с которой майор произнёс эти слова, уважительное обращение по имени-отчеству свидетельствовали о том, что командир полка хорошо знает, с кем ведёт разговор. Сергей Тимофеевич посерьёзнел.
— Спасибо, товарищи, за беседу, — вставая и глядя на часы, сказал командир полка. — Я ведь шёл к вам, Сергей Тимофеевич. В январе я проводил в госпиталь своего друга и вашего в прошлом аспиранта комбата Тихомирова. Он…
— Серёжа… — разволновался Сергей Тимофеевич. — Что с ним?
— Жив и почти здоров, я дам вам его адрес. Он часто вспоминал о ваших лекциях и совместной работе, мечтал после войны с вами встретиться, и я, узнав от Ряшенцева, что вы здесь, немедленно пришёл.
Сергей Тимофеевич благодарно кивнул и вытащил записную книжечку.
— Окажите ещё одну любезность — Сережин адрес…
— Вы сейчас пойдёте со мной, — раздельно выговаривая слова, произнёс майор. — Виктор, прикажи отнести в штаб вещи бойца Корина.
— Но я не хочу уходить из роты! — Сергей Тимофеевич изменился в лице.
— Рядовой Корин! — жёстко отрубил майор. — Вы можете возражать мне в частной беседе, но не на службе. Будьте добры выполнять приказание!
Сергей Тимофеевич беспомощно взглянул на наши огорчённые лица и, ссутулившись, побрёл за командиром полка.
Общее молчание нарушил Володя:
— Жалко, конечно, но правильно майор сделал. Чего такого человека под пули посылать в самый шапочный разбор? Меня, скажем, или Кузина любые баба с мужиком сделают играючи, нам и воевать.
— А мне, думаешь, жить не хочется? — проворчал Кузин. — Чем я хуже его, твоего умника?
— Кто сказал, что хуже? — зло удивился Володя. — Ты, Кузин, выше его на целую голову — ростом, конечно. Куда до тебя Тимофеичу! Он и за день половину того не съест, что ты слопаешь в один присест. Знал я, что ты звёзд с неба не хватаешь, но такого…
— Да нет, я и не говорю… — примирительно сказал Кузин. — Большой человек, чего там.
— Кончай перебранку! — предложил Виктор. — Всем ужинать и отдыхать — завтра будет жарко.
И всё-таки мне довелось остаться наедине с самим собой — заснуть я не мог. Какой там сон, когда под утро мы будем форсировать реку, врываться в чужие окопы, стрелять и бросать гранаты. Стояла полная тишина, прерываемая редкими очередями и отдалённым рокотом самолётов. Я часто курил и думал о том, что часов через восемь будет ясно, не зря ли я родился на белый свет. Ведь если подумать, я не принёс миру никакой пользы, исключая недолгую работу на заводе: матери — одни заботы, государству — сплошные убытки. Это будет на редкость обидно, если сразу убьют. Но эту мысль я сразу отбросил, потому что просто не представлял себя убитым — римляне сочинили «Помни о смерти» не для тех, кто только начал бриться. Тогда я стал мечтать о том, что обнаружу в бою неслыханную храбрость, но тут же вспомнил, что о том же грезил гашековский кадет Биглер, и переключился на ребят. За исключением труса и эгоиста Кузина, они мне нравились: бесшабашный Виктор Чайкин, который, оказывается, тоже начал воевать в шестнадцать лет; язвительный Юра Беленький, который имел право поднять на смех кого угодно, потому что на его гимнастёрке сверкала новенькая «Красная Звезда»; Митрофанов, маленький, но ехидный, наконец-то обнаруживший умение постоять за себя; Митя Коробов, добрый и безобидный, над чистотой и наивностью которого никто не смеялся — грех, как говорил Чайкин-старший, а уж он-то не прощал нам ни единой слабости. И Володя, самый близкий мне теперь человек, красивый душой и телом; с ним рядом я готов был идти куда угодно, потому что Володе верил куда больше, чем самому себе. А Сергей Тимофеевич? Я пожалел, что нельзя скоротать ночь в беседе с ним. Я всегда ревновал его к Володе, которого Сергей Тимофеевич откровенно полюбил, и мечтал, чтобы он и со мной разговаривал так же доверительно, по-отечески ласково…
Потом я заставил себя думать о Тае, о том, как она меня встретит. Но — удивительное дело! — сколько я ни старался, мысли о Тае ускользали из головы, не задерживаясь больше чем на несколько секунд. «Наверное, потому, что все выплеснул в письме», — решил я и начал думать о маме. Но ей я тоже отправил вечером письмо, в котором намекал, что наше училище примет участие в боях. Тогда я стал мечтать о встрече с отцом и братом, которые были где-то недалеко от меня: они писали, что надеются участвовать во взятии Берлина.
В конце концов всех вытеснил дядя Вася, и я с радостью и волнением отдался воспоминаниям. Я встречал в приказах Верховного Главнокомандующего его фамилию и радовался за него, но про себя: не хотелось козырять перед ребятами таким знакомством. По приказам же я определил, что танковый корпус дяди Васи сражается где-то в Прибалтике, и пожалел, что даже случайно не могу его встретить, хотя бы взглянуть на него — не станет ведь простой солдат бросаться на шею командиру корпуса…
Я долго думал о нем, а потом незаметно уснул и проснулся, когда началась артподготовка.
ПЕРВЫЙ БЛИН
Я проснулся от страшного грохота.
— Началось! — прокричал мне Володя, и я не услышал, а понял, что он хотел сообщить.
Небо, разорванное в клочья, трясущаяся в судорогах земля, вой, скрежет, тысячи громов и молний! Спустя много лет я прочитал, что первая артиллерийская подготовка, свидетелем которой мне довелось стать, оказалась едва ли не самой мощной в истории войн. Ребята что-то кричали, смешно раскрывая и закрывая рты, но никто и не пытался понять друг друга, мы, кажется, мгновенно оглохли, потеряли счёт залпам, которые слились в один непрерывный грохот, в эту удивительную, оптимистическую симфонию войны — для тех, кто заказывает музыку. Немцы, как мы убедились два часа спустя, были о ней другого мнения.
Разрывы снарядов отдалились — артиллерия уже молотила немцев в глубине обороны, над Нейсе пролетели штурмовики, ставя дымовую завесу, и передний край на том берегу окутался молочной пеленой. Мы начали спускаться к реке, куда сапёры потащили лодки.
— Налетай, расхватывай! — дурачился молодой сапёр. — Распашные, три рубля за час!
Посреди реки разорвался снаряд.
— Вертай обратно, стреляют! — заорал Кузин.
— Где стреляют, где стреляют? — засуетился Юра Беленький и погрозил в сторону немцев кулаком. — Безобразие! В человека попасть могли!
Все рассмеялись — слишком весёлым, нервным смехом.
— Шальной, — успокоил Кузина Виктор. — По лодкам, славяне!
Ветер отогнал дымовую завесу, и немецкие траншеи оказались перед нами как на ладони. Но как они были не похожи на те, которые я наблюдал в стереотрубу! Откуда-то застрочил одинокий пулемёт, над головами засвистали пули.
— Пригнитесь! — приказал Володя, изо всех сил работая вёслами.
Сильный толчок — лодка врезалась в берег.
— Быстрей, быстрей! — торопил Володя.
— За мной! Вперёд! — надрывно кричал Ряшенцев.
Задыхаясь от волнения и не видя перед собой ничего, кроме Володиной спины, я побежал, перепрыгивая через скрюченные куски колючей проволоки, воронки. Весь берег был перепахан и разбит, кругом валялись искорёженные куски бетона с торчащей арматурой, толстые бревна из блиндажей, вырванные с корнем бронеколпаки, полузасыпанные землёй трупы фашистов.
— А-а-а!
Кто-то подорвался на мине, к нему бежал санитар.
— А-а-а!
Предсмертный крик — ножом по сердцу. Послышалась дробная пулемётная очередь — недобитые немцы оживали. Мы попрыгали в траншею.
— Впе-ере-ед!
На бруствере во весь рост стоял комбат Макаров, размахивая пистолетом.
Я задыхался, мне мешало нестерпимо бьющееся сердце, прилипшая к телу рубашка и крупные капли пота, стекавшие на глаза из-под пилотки. Все, чем я жил до сих пор, полетело ко всем чертям, в жизни осталась одна цель: не отстать от Володи. Сзади разорвалась граната, я на ходу обернулся, больно ударился о торчащий из груды рыхлой земли ствол пулемёта и с размаху полетел на дно траншеи. Быть может, это меня спасло: автоматная очередь свалила двух бегущих за мной бойцов.
Все дальнейшее я вижу отчётливо и ясно, словно просматриваю кадры документального фильма.
Рослого немца, выскочившего из хода сообщения, Володя уложил ударом приклада по каске и тут же закричал:
— Ложи-ись!
Из открытой двери блиндажа вылетели две гранаты с длинными деревянными ручками. Одну из них подхватил Володя и швырнул обратно. Другая взорвалась, и Виктор Чайкин, матерясь, схватился за левую руку. Не сговариваясь, Юра Беленький и Володя одновременно бросили в блиндаж гранаты, а Владик Регинин, просунув в дверь вытянутый в руке автомат, дал длинную очередь. Вслед за Володей я вбежал в блиндаж. На полу лежало несколько немцев. Один из них, в дальнем углу, был жив и, приподнявшись, трясущейся рукой наводил на Володю пистолет.
— Володя! — заорал я и нажал на спуск. Заело! Я швырнул автомат в немца и промахнулся, а Володя ударом ноги вышиб из его руки пистолет. Немец уронил голову на пол и затих.
— Здесь порядочек! — Володя улыбнулся, поднял пистолет и выскочил из блиндажа. — И здесь тоже, выходи спокойно!
Я устремился за ним и столкнулся лицом к лицу с комбатом Макаровым.
— Куда дел оружие? — вытирая пот со лба, жёстко спросил комбат.
Я ахнул и бросился в блиндаж за своим автоматом.
И здесь произошла сцена, которая стала достоянием всей роты и принесла мне весьма досадную известность.
Немец, у которого Володя выбил пистолет, сидел на полу, ошалело поводя окровавленной головой. В руках у него был мой автомат. Увидев меня, немец поднял его на уровень моего живота и оскалился. Сердце у меня остановилось.
Щёлк! — осечка.
Щёлк! — осечка!
Я бросился к немцу и схватил руками ствол.
— Отдай автомат! — заорал я. — Отдай!
На крик вбежали Юра Беленький и Владик Регинин. Быстро оценив ситуацию, Юра ухмыльнулся.
— Погоди, сейчас разберёмся, — успокоил он меня. — Это твой автомат?
— Мой!
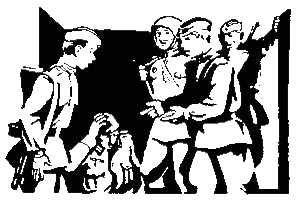 — Слышишь? — возмущённо сказал Юра насмерть перепуганному немцу. — Миша врать не будет, отдай ему автомат, а сам подними ручки кверху. Хенде хох, сволочь!
— Слышишь? — возмущённо сказал Юра насмерть перепуганному немцу. — Миша врать не будет, отдай ему автомат, а сам подними ручки кверху. Хенде хох, сволочь!
Немец пытался поднять руки, но снова потерял сознание.
— Ещё немножко, и я сам бы отобрал, — осознав глупость ситуации, сообщил я.
— Не беспокойся, — ядовито проговорил Юра, похлопав меня по плечу, — мы люди свои, трепаться не будем, за пределы полка не выйдет!
В блиндаж ввалились потный и довольный Ряшенцев, Володя и Чайкины. Рана у Виктора оказалась пустяковой, кость не была задета, и отец бинтовал руку сына, ругая его на чём свет стоит. Виктор послушно поддакивал, исподтишка нам подмигивая.
— Наше дело сделано, подождём танков, — весело сказал Ряшенцев, садясь за стол, — Жив, трижды обстрелянный?
— Меня спас! — засмеялся Володя, подбрасывая на руке «вальтер». — Эх!.. — Володя бережно взял в руки покрытый блестящим перламутром аккордеон. — Достанется же кому-то музыка… Уж давно умолкли танки, а тако-ого не забыть, и с тех пор на ту поля-янку ходит девушка грустить… Не переправились обозники, дал бы кому-нибудь на сохранение… Часто та-ам она-а встречает утра розовый рассвет, речь танкиста вспо-оминает…
— Не расстраивайся, брось его, — посоветовал Ряшенцев. — Степан Петрович, немец-то живой, посмотри его. Немецкий знаешь, Полунин?
— Я английский в школе учил.
— Жаль, я тоже не очень… — покачал головой Ряшенцев и спросил немца, которому Чайкин-старший перебинтовывал голову: — Гитлер капут, значит?
— Капут, капут, — охотно поддержал немец. — Их бин арбейтер.
— Знаем мы таких рабочих, — с усмешкой сказал Володя. — Ладно, можешь не класть в штаны, никто тебя шлёпать не будет.
— Везучий немец, доживёт до конца. — Юра сплюнул. — А ну покажи.
Вконец расстроенный, я протянул ему свой автомат, из которого, как легко было понять, мне так и не удалось сделать ни единого выстрела: затвор покорёжило осколком, а другой осколок ухитрился закупорить ствол.
— Да, тринадцатой зарубке не бывать, — с искренним соболезнованием проговорил Юра и похлопал меня по плечу. — Все равно молодец, отстоял своё оружие в борьбе с полудохлым фрицем!
Тщетно я подмигивал и корчил умоляющие рожи — Юра уже вошёл в роль.
— Вбегаем мы с Владиком в блиндаж, а он кричит: «Отдай автомат, он на меня записан, спроси у гвардии ефрейтора товарища Чайкина! Это, — кричит, — настоящее воровство — чужие автоматы хватать. Креста, — кричит, — на тебе нет!»
— Враньё все это, не верьте ему! — вспылил я.
— Враньё? — страшно обиделся Беленький. — Отродясь не врал, Владик свидетель. Фриц, было такое?
Держась обеими руками за голову, немец послушно пробормотал что-то вроде «Гитлер капут». Юра удовлетворённо кивнул и поплел такое, что в блиндаже стоял сплошной рёв. В дальнейшем эта история, обрастая новыми измышлениями, распространилась, но и я не остался в долгу: через несколько дней мне удалось отплатить младшему сержанту Беленькому той же монетой.
— Не расстраивайся, — вытирая слезы, сказал Ряшенцев. — Витя, отдай ему свой автомат, пусть таскает, пока твоя рука не заживёт. С пистолетом повоюешь.
— Вот спасибо! — обрадовался я. — И рожки тоже.
— Может, и штаны тебе отдать? — проворчал Виктор, отдавая всё-таки рожки. — Учти, он у меня пристрелянный, шкуру спущу!
— Есть учесть насчёт шкуры! — вытянулся я.
— Тише, — Ряшенцев прислушался. — Рыбалко пошёл, ребята!
Мы выскочили из блиндажа. Через Нейсе по понтонному мосту переправлялись танки. Один за другим они сползали на берег и с рёвом устремлялись вперёд.
— Теперь и дальше наступать можно, — весело произнёс Ряшенцев и побежал к Макарову за распоряжениями.
Подошёл Митрофанов. Лицо его кривилось.
— Пашку Соломина убило. На мине подорвался…
Так вот чей предсмертный крик я слышал, когда бежал за Володей! Мне снова стало зябко. Бедный Пашка, он так гордился тем, что оказался лучшим стрелком роты… Обидно погибнуть в первом же бою…
— Тебя ранило? — обеспокоенно спросил Митрофанов, показывая на небольшое кровавое пятно, расплывшееся у колена.
— Пустяки, — небрежно сказал я. — Ударился о ствол пулемёта. Не о чём говорить.
— Держи, Мишка!
Володя протянул мне длинный кинжал в коричневых ножнах с витиеватой готической надписью на клинке: «Дойчланд юбер аллее».
— Спасибо, Володя! Между прочим, меня слегка царапнуло.
Володя мельком взглянул на ссадину.
— До свадьбы заживёт. Так не забывай, что, кроме автомата, у тебя есть кинжал и лопатка, И держись меня, скоро начнётся.
— Как начнётся? — удивился я. — А сейчас что было?
— Настоящего ещё не было, — Володя улыбнулся. — Настоящее, Мишка, будет малость посерьёзнее. Пока время есть — давай покурим.
— Началось! — прокричал мне Володя, и я не услышал, а понял, что он хотел сообщить.
Небо, разорванное в клочья, трясущаяся в судорогах земля, вой, скрежет, тысячи громов и молний! Спустя много лет я прочитал, что первая артиллерийская подготовка, свидетелем которой мне довелось стать, оказалась едва ли не самой мощной в истории войн. Ребята что-то кричали, смешно раскрывая и закрывая рты, но никто и не пытался понять друг друга, мы, кажется, мгновенно оглохли, потеряли счёт залпам, которые слились в один непрерывный грохот, в эту удивительную, оптимистическую симфонию войны — для тех, кто заказывает музыку. Немцы, как мы убедились два часа спустя, были о ней другого мнения.
Разрывы снарядов отдалились — артиллерия уже молотила немцев в глубине обороны, над Нейсе пролетели штурмовики, ставя дымовую завесу, и передний край на том берегу окутался молочной пеленой. Мы начали спускаться к реке, куда сапёры потащили лодки.
— Налетай, расхватывай! — дурачился молодой сапёр. — Распашные, три рубля за час!
Посреди реки разорвался снаряд.
— Вертай обратно, стреляют! — заорал Кузин.
— Где стреляют, где стреляют? — засуетился Юра Беленький и погрозил в сторону немцев кулаком. — Безобразие! В человека попасть могли!
Все рассмеялись — слишком весёлым, нервным смехом.
— Шальной, — успокоил Кузина Виктор. — По лодкам, славяне!
Ветер отогнал дымовую завесу, и немецкие траншеи оказались перед нами как на ладони. Но как они были не похожи на те, которые я наблюдал в стереотрубу! Откуда-то застрочил одинокий пулемёт, над головами засвистали пули.
— Пригнитесь! — приказал Володя, изо всех сил работая вёслами.
Сильный толчок — лодка врезалась в берег.
— Быстрей, быстрей! — торопил Володя.
— За мной! Вперёд! — надрывно кричал Ряшенцев.
Задыхаясь от волнения и не видя перед собой ничего, кроме Володиной спины, я побежал, перепрыгивая через скрюченные куски колючей проволоки, воронки. Весь берег был перепахан и разбит, кругом валялись искорёженные куски бетона с торчащей арматурой, толстые бревна из блиндажей, вырванные с корнем бронеколпаки, полузасыпанные землёй трупы фашистов.
— А-а-а!
Кто-то подорвался на мине, к нему бежал санитар.
— А-а-а!
Предсмертный крик — ножом по сердцу. Послышалась дробная пулемётная очередь — недобитые немцы оживали. Мы попрыгали в траншею.
— Впе-ере-ед!
На бруствере во весь рост стоял комбат Макаров, размахивая пистолетом.
Я задыхался, мне мешало нестерпимо бьющееся сердце, прилипшая к телу рубашка и крупные капли пота, стекавшие на глаза из-под пилотки. Все, чем я жил до сих пор, полетело ко всем чертям, в жизни осталась одна цель: не отстать от Володи. Сзади разорвалась граната, я на ходу обернулся, больно ударился о торчащий из груды рыхлой земли ствол пулемёта и с размаху полетел на дно траншеи. Быть может, это меня спасло: автоматная очередь свалила двух бегущих за мной бойцов.
Все дальнейшее я вижу отчётливо и ясно, словно просматриваю кадры документального фильма.
Рослого немца, выскочившего из хода сообщения, Володя уложил ударом приклада по каске и тут же закричал:
— Ложи-ись!
Из открытой двери блиндажа вылетели две гранаты с длинными деревянными ручками. Одну из них подхватил Володя и швырнул обратно. Другая взорвалась, и Виктор Чайкин, матерясь, схватился за левую руку. Не сговариваясь, Юра Беленький и Володя одновременно бросили в блиндаж гранаты, а Владик Регинин, просунув в дверь вытянутый в руке автомат, дал длинную очередь. Вслед за Володей я вбежал в блиндаж. На полу лежало несколько немцев. Один из них, в дальнем углу, был жив и, приподнявшись, трясущейся рукой наводил на Володю пистолет.
— Володя! — заорал я и нажал на спуск. Заело! Я швырнул автомат в немца и промахнулся, а Володя ударом ноги вышиб из его руки пистолет. Немец уронил голову на пол и затих.
— Здесь порядочек! — Володя улыбнулся, поднял пистолет и выскочил из блиндажа. — И здесь тоже, выходи спокойно!
Я устремился за ним и столкнулся лицом к лицу с комбатом Макаровым.
— Куда дел оружие? — вытирая пот со лба, жёстко спросил комбат.
Я ахнул и бросился в блиндаж за своим автоматом.
И здесь произошла сцена, которая стала достоянием всей роты и принесла мне весьма досадную известность.
Немец, у которого Володя выбил пистолет, сидел на полу, ошалело поводя окровавленной головой. В руках у него был мой автомат. Увидев меня, немец поднял его на уровень моего живота и оскалился. Сердце у меня остановилось.
Щёлк! — осечка.
Щёлк! — осечка!
Я бросился к немцу и схватил руками ствол.
— Отдай автомат! — заорал я. — Отдай!
На крик вбежали Юра Беленький и Владик Регинин. Быстро оценив ситуацию, Юра ухмыльнулся.
— Погоди, сейчас разберёмся, — успокоил он меня. — Это твой автомат?
— Мой!
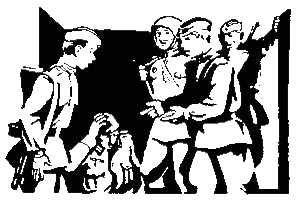
Немец пытался поднять руки, но снова потерял сознание.
— Ещё немножко, и я сам бы отобрал, — осознав глупость ситуации, сообщил я.
— Не беспокойся, — ядовито проговорил Юра, похлопав меня по плечу, — мы люди свои, трепаться не будем, за пределы полка не выйдет!
В блиндаж ввалились потный и довольный Ряшенцев, Володя и Чайкины. Рана у Виктора оказалась пустяковой, кость не была задета, и отец бинтовал руку сына, ругая его на чём свет стоит. Виктор послушно поддакивал, исподтишка нам подмигивая.
— Наше дело сделано, подождём танков, — весело сказал Ряшенцев, садясь за стол, — Жив, трижды обстрелянный?
— Меня спас! — засмеялся Володя, подбрасывая на руке «вальтер». — Эх!.. — Володя бережно взял в руки покрытый блестящим перламутром аккордеон. — Достанется же кому-то музыка… Уж давно умолкли танки, а тако-ого не забыть, и с тех пор на ту поля-янку ходит девушка грустить… Не переправились обозники, дал бы кому-нибудь на сохранение… Часто та-ам она-а встречает утра розовый рассвет, речь танкиста вспо-оминает…
— Не расстраивайся, брось его, — посоветовал Ряшенцев. — Степан Петрович, немец-то живой, посмотри его. Немецкий знаешь, Полунин?
— Я английский в школе учил.
— Жаль, я тоже не очень… — покачал головой Ряшенцев и спросил немца, которому Чайкин-старший перебинтовывал голову: — Гитлер капут, значит?
— Капут, капут, — охотно поддержал немец. — Их бин арбейтер.
— Знаем мы таких рабочих, — с усмешкой сказал Володя. — Ладно, можешь не класть в штаны, никто тебя шлёпать не будет.
— Везучий немец, доживёт до конца. — Юра сплюнул. — А ну покажи.
Вконец расстроенный, я протянул ему свой автомат, из которого, как легко было понять, мне так и не удалось сделать ни единого выстрела: затвор покорёжило осколком, а другой осколок ухитрился закупорить ствол.
— Да, тринадцатой зарубке не бывать, — с искренним соболезнованием проговорил Юра и похлопал меня по плечу. — Все равно молодец, отстоял своё оружие в борьбе с полудохлым фрицем!
Тщетно я подмигивал и корчил умоляющие рожи — Юра уже вошёл в роль.
— Вбегаем мы с Владиком в блиндаж, а он кричит: «Отдай автомат, он на меня записан, спроси у гвардии ефрейтора товарища Чайкина! Это, — кричит, — настоящее воровство — чужие автоматы хватать. Креста, — кричит, — на тебе нет!»
— Враньё все это, не верьте ему! — вспылил я.
— Враньё? — страшно обиделся Беленький. — Отродясь не врал, Владик свидетель. Фриц, было такое?
Держась обеими руками за голову, немец послушно пробормотал что-то вроде «Гитлер капут». Юра удовлетворённо кивнул и поплел такое, что в блиндаже стоял сплошной рёв. В дальнейшем эта история, обрастая новыми измышлениями, распространилась, но и я не остался в долгу: через несколько дней мне удалось отплатить младшему сержанту Беленькому той же монетой.
— Не расстраивайся, — вытирая слезы, сказал Ряшенцев. — Витя, отдай ему свой автомат, пусть таскает, пока твоя рука не заживёт. С пистолетом повоюешь.
— Вот спасибо! — обрадовался я. — И рожки тоже.
— Может, и штаны тебе отдать? — проворчал Виктор, отдавая всё-таки рожки. — Учти, он у меня пристрелянный, шкуру спущу!
— Есть учесть насчёт шкуры! — вытянулся я.
— Тише, — Ряшенцев прислушался. — Рыбалко пошёл, ребята!
Мы выскочили из блиндажа. Через Нейсе по понтонному мосту переправлялись танки. Один за другим они сползали на берег и с рёвом устремлялись вперёд.
— Теперь и дальше наступать можно, — весело произнёс Ряшенцев и побежал к Макарову за распоряжениями.
Подошёл Митрофанов. Лицо его кривилось.
— Пашку Соломина убило. На мине подорвался…
Так вот чей предсмертный крик я слышал, когда бежал за Володей! Мне снова стало зябко. Бедный Пашка, он так гордился тем, что оказался лучшим стрелком роты… Обидно погибнуть в первом же бою…
— Тебя ранило? — обеспокоенно спросил Митрофанов, показывая на небольшое кровавое пятно, расплывшееся у колена.
— Пустяки, — небрежно сказал я. — Ударился о ствол пулемёта. Не о чём говорить.
— Держи, Мишка!
Володя протянул мне длинный кинжал в коричневых ножнах с витиеватой готической надписью на клинке: «Дойчланд юбер аллее».
— Спасибо, Володя! Между прочим, меня слегка царапнуло.
Володя мельком взглянул на ссадину.
— До свадьбы заживёт. Так не забывай, что, кроме автомата, у тебя есть кинжал и лопатка, И держись меня, скоро начнётся.
— Как начнётся? — удивился я. — А сейчас что было?
— Настоящего ещё не было, — Володя улыбнулся. — Настоящее, Мишка, будет малость посерьёзнее. Пока время есть — давай покурим.
ТРИ ДНЯ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ
Наконец-то я понял, в чём главная трудность войны.
В беспредельной, ни с чем не сравнимой физической усталости. В такой усталости, когда уже перестаёшь думать о том, что тебя могут убить или ранить, когда тело, лишённое последних сил, подчиняется только командам, которые одни и воспринимаются воспалённым мозгом.
От Нейсе до Шпрее мы дошли за трое суток. За все эти дни мы спали не больше шести часов. Однажды, когда Володя меня разбудил, оказалось, что я заснул в луже. Апрельские ночи холодные, и по всем правилам я должен был подхватить бронхит или воспаление лёгких. Я даже ни разу не чихнул. Не потому, что у меня было богатырское здоровье, отнюдь нет, а потому, что на фронте солдатский организм приобретает ещё не изученный наукой иммунитет. Ибо когда люди гибнут на поле боя или эвакуируются после ранений в медсанбат, выбыть из строя по законной в гражданке простуде — значит опозорить себя и пасть в глазах товарищей.
В эти дни я увидел больше трагедий, чем за всю свою жизнь.
Я видел, как горели дорогие нашим сердцам тридцатьчетверки, как, дымя, неслись к земле «ястребки». Я видел, как автоматная очередь срезала комбата Макарова, как крупный осколок разорвал грудь Владика Регинина, так и не осуществившего свою мечту показать альбом с фронтовыми карикатурами Кукрыниксам. Я видел на столбах и на деревьях трупы повешенных эсесовцами немецких солдат — они не выдерживали, отступали и поэтому стали «изменниками отечества». Трое суток мы не выходили из боя.
Цепь этих дней рассыпалась на звенья разорванных, не связанных один с другим эпизодов. Теперь это меня не удивляет. Я видел бой «от сих до сих», на крохотных участках, многие тысячи которых сливались в линию фронта. Я не знал, что делается в пятидесяти, ста шагах от нас, и это было закономерно, потому что солдатский кругозор — считанные метры перед тобой и вокруг тебя. Кругозор определил степень ответственности: я отвечал за свою жизнь и жизнь непосредственно окружавших меня товарищей, как и они — за мою. И если фронт неумолимо двигался к Берлину, если могучую лавину советских войск уже ничто не могло остановить, то наши отдельные солдатские жизни могли оборваться в любую секунду: они зависели от слепых случайностей.
Из первого настоящего боя мне в память почему-то особенно сильно врезалась одна деталь.
 Когда мы побежали за танками, у меня распустилась обмотка. Я заметил это лишь тогда, когда упал, зацепившись за что-то. И ещё я заметил испуганные глаза Володи, обернувшегося на мой крик: он подумал, что меня ранило. Володя помог распутать обмотку и впервые за время нашей дружбы коротко и грубо меня обругал, но я нисколько на него не обиделся. Пригибаясь, стреляя на ходу в белый свет, мы бежали за танками, многие падали и не поднимались, а мы продолжали бежать. Танк, за стальной спиной которого мы укрывались, вдруг завертелся на месте, выпуская из-под себя быстро уползающую гусеницу, а из люков с автоматами в руках выпрыгнули два танкиста.
Когда мы побежали за танками, у меня распустилась обмотка. Я заметил это лишь тогда, когда упал, зацепившись за что-то. И ещё я заметил испуганные глаза Володи, обернувшегося на мой крик: он подумал, что меня ранило. Володя помог распутать обмотку и впервые за время нашей дружбы коротко и грубо меня обругал, но я нисколько на него не обиделся. Пригибаясь, стреляя на ходу в белый свет, мы бежали за танками, многие падали и не поднимались, а мы продолжали бежать. Танк, за стальной спиной которого мы укрывались, вдруг завертелся на месте, выпуская из-под себя быстро уползающую гусеницу, а из люков с автоматами в руках выпрыгнули два танкиста.
— Живы остальные? — на бегу спросил Володя.
— Живы, пушка целая, пусть стреляют!
— Айда с нами!
Переднюю траншею уже утюжили танки, а над дальней, второй, поливая её огнём, проносились ИЛы.
— За Ро-о-дину!
— Ура-а-а!
Мы ворвались в траншею, в ней повсюду валялись убитые, изувеченные немцы. Только из амбразуры полуразрушенного дота неожиданно загавкал пулемёт, и Володя швырнул в разорванный бетон одну за другой гранаты.
— Впере-ед!
Направо занимался пожаром сосновый лес, его и предстояло брать нашему полку. Здесь, кажется, стреляло каждое дерево — лес был до отказа насыщен немцами. Самое опасное — врытые в землю бронеколпаки: гранаты их не брали, а танки не всегда замечали. И ещё мины, выскакивавшие из земли и осыпавшие солдат шрапнелью. И хитро замаскированные дзоты и в траншеях и окопчиках немцы, сражавшиеся с яростью обречённых.
Лес мы очищали сутки. Мы продвигались от дерева к дереву, падали, стреляли, бросали гранаты и отвоёвывали метр за метром короткими перебежками. Потом мы научились делать так: помогали артиллеристам протаскивать орудия, и они расстреливали бронеколпаки и дзоты прямой наводкой. Много людей погибло в этом лесу.
Комбат Макаров погиб так.
Мы атаковали одинокий домик лесника — здесь находился штаб немецкой части. Немцы, четыре офицера, отстреливались до последнего патрона: рожки в их автоматах и обоймы пистолетов оказались пустыми. Эти четверо убили нескольких наших товарищей, но командир полка приказал любой ценой взять штабных «языков», и это спасло немцам жизнь. А комбату стоило жизни.
Он первым вбежал в домик, и ему досталась последняя очередь из автомата.
Юра Беленький, перепрыгнув через тело Макарова, ударом приклада раздробил убийце челюсть. Но немец, наверное, живёт и сейчас со вставными зубами и думать забыл о могучем, богатырского сложения сибиряке-комбате, который спас ему, проклятому фашисту, жизнь и поэтому погиб за три недели до конца войны.
Теперь я знаю, что это чушь — будто перед мысленным взором гибнущего человека проходит вся его жизнь.
Когда немец пытался пристрелить меня в блиндаже, я так растерялся, что вовсе ни о чём и не думал.
Когда Володя попал ботинком в треснувший пень и никак не мог высвободить ногу, в трех метрах от него плюхнулась на траву граната с деревянной ручкой. Она не взорвалась, и Володя остался жив. Я спросил его, о чём он успел передумать в эти секунды. Володя удивлённо пожал плечами.
— Материл ботинок, — откровенно признался он.
Я потом задавал такие вопросы многим товарищам. Почти каждый фронтовик когда-нибудь был на волосок от гибели, но никто мне не ответил, что в роковое мгновенье перед его глазами проносились картины детства, или свадьбы, или первого поцелуя с любимой.
А через несколько минут погиб Кузин — из-за своей жадности. Он зашнырял по домику и выволок во двор роскошный кожаный чемодан.
В беспредельной, ни с чем не сравнимой физической усталости. В такой усталости, когда уже перестаёшь думать о том, что тебя могут убить или ранить, когда тело, лишённое последних сил, подчиняется только командам, которые одни и воспринимаются воспалённым мозгом.
От Нейсе до Шпрее мы дошли за трое суток. За все эти дни мы спали не больше шести часов. Однажды, когда Володя меня разбудил, оказалось, что я заснул в луже. Апрельские ночи холодные, и по всем правилам я должен был подхватить бронхит или воспаление лёгких. Я даже ни разу не чихнул. Не потому, что у меня было богатырское здоровье, отнюдь нет, а потому, что на фронте солдатский организм приобретает ещё не изученный наукой иммунитет. Ибо когда люди гибнут на поле боя или эвакуируются после ранений в медсанбат, выбыть из строя по законной в гражданке простуде — значит опозорить себя и пасть в глазах товарищей.
В эти дни я увидел больше трагедий, чем за всю свою жизнь.
Я видел, как горели дорогие нашим сердцам тридцатьчетверки, как, дымя, неслись к земле «ястребки». Я видел, как автоматная очередь срезала комбата Макарова, как крупный осколок разорвал грудь Владика Регинина, так и не осуществившего свою мечту показать альбом с фронтовыми карикатурами Кукрыниксам. Я видел на столбах и на деревьях трупы повешенных эсесовцами немецких солдат — они не выдерживали, отступали и поэтому стали «изменниками отечества». Трое суток мы не выходили из боя.
Цепь этих дней рассыпалась на звенья разорванных, не связанных один с другим эпизодов. Теперь это меня не удивляет. Я видел бой «от сих до сих», на крохотных участках, многие тысячи которых сливались в линию фронта. Я не знал, что делается в пятидесяти, ста шагах от нас, и это было закономерно, потому что солдатский кругозор — считанные метры перед тобой и вокруг тебя. Кругозор определил степень ответственности: я отвечал за свою жизнь и жизнь непосредственно окружавших меня товарищей, как и они — за мою. И если фронт неумолимо двигался к Берлину, если могучую лавину советских войск уже ничто не могло остановить, то наши отдельные солдатские жизни могли оборваться в любую секунду: они зависели от слепых случайностей.
Из первого настоящего боя мне в память почему-то особенно сильно врезалась одна деталь.

— Живы остальные? — на бегу спросил Володя.
— Живы, пушка целая, пусть стреляют!
— Айда с нами!
Переднюю траншею уже утюжили танки, а над дальней, второй, поливая её огнём, проносились ИЛы.
— За Ро-о-дину!
— Ура-а-а!
Мы ворвались в траншею, в ней повсюду валялись убитые, изувеченные немцы. Только из амбразуры полуразрушенного дота неожиданно загавкал пулемёт, и Володя швырнул в разорванный бетон одну за другой гранаты.
— Впере-ед!
Направо занимался пожаром сосновый лес, его и предстояло брать нашему полку. Здесь, кажется, стреляло каждое дерево — лес был до отказа насыщен немцами. Самое опасное — врытые в землю бронеколпаки: гранаты их не брали, а танки не всегда замечали. И ещё мины, выскакивавшие из земли и осыпавшие солдат шрапнелью. И хитро замаскированные дзоты и в траншеях и окопчиках немцы, сражавшиеся с яростью обречённых.
Лес мы очищали сутки. Мы продвигались от дерева к дереву, падали, стреляли, бросали гранаты и отвоёвывали метр за метром короткими перебежками. Потом мы научились делать так: помогали артиллеристам протаскивать орудия, и они расстреливали бронеколпаки и дзоты прямой наводкой. Много людей погибло в этом лесу.
Комбат Макаров погиб так.
Мы атаковали одинокий домик лесника — здесь находился штаб немецкой части. Немцы, четыре офицера, отстреливались до последнего патрона: рожки в их автоматах и обоймы пистолетов оказались пустыми. Эти четверо убили нескольких наших товарищей, но командир полка приказал любой ценой взять штабных «языков», и это спасло немцам жизнь. А комбату стоило жизни.
Он первым вбежал в домик, и ему досталась последняя очередь из автомата.
Юра Беленький, перепрыгнув через тело Макарова, ударом приклада раздробил убийце челюсть. Но немец, наверное, живёт и сейчас со вставными зубами и думать забыл о могучем, богатырского сложения сибиряке-комбате, который спас ему, проклятому фашисту, жизнь и поэтому погиб за три недели до конца войны.
Теперь я знаю, что это чушь — будто перед мысленным взором гибнущего человека проходит вся его жизнь.
Когда немец пытался пристрелить меня в блиндаже, я так растерялся, что вовсе ни о чём и не думал.
Когда Володя попал ботинком в треснувший пень и никак не мог высвободить ногу, в трех метрах от него плюхнулась на траву граната с деревянной ручкой. Она не взорвалась, и Володя остался жив. Я спросил его, о чём он успел передумать в эти секунды. Володя удивлённо пожал плечами.
— Материл ботинок, — откровенно признался он.
Я потом задавал такие вопросы многим товарищам. Почти каждый фронтовик когда-нибудь был на волосок от гибели, но никто мне не ответил, что в роковое мгновенье перед его глазами проносились картины детства, или свадьбы, или первого поцелуя с любимой.
А через несколько минут погиб Кузин — из-за своей жадности. Он зашнырял по домику и выволок во двор роскошный кожаный чемодан.
