Страница:
Фривейского узнавали. Военные козыряли ему, штатские, еще издали содрав котелок, почтительно торопились пожать руку личному секретарю премьера.
– Объявляю второй заезд, – прокричал в громадный мегафон ведущий. – Вместо Смарагда, объявленного в программе, пойдет Изидра под управлением жокея Рооша.
– Изидра ничего, – прилаживая бинокль, сказал Фривейский, – пожалуй, я буду ставить на нее.
– Не советую.
– Отчего?
– Она стоит в первой четверти.
– Откуда такие сведения?
– Слишком резва. Молодость я ценю в женщинах, в лошадях мне ближе опытность.
– Ах вы, повеса, – улыбнулся Фривейский, не отрываясь от бинокля. – Но какие стати, послушайте! Нет, нет, я играю Изидру.
– Пари?
– Зря вы… Имейте в виду – выиграю.
– Может быть. И тем не менее. Я сегодня буду три раза играть на пари и четыре раза на тотализаторе.
– Отчего такая странная цифра?
– В сумме получается семь, а семерка похожа на лебедя.
– Исаев, вы пишете стихи?
– Не вгоняйте меня в краску.
– Сколько ставите против меня?
– Десять долларов.
– Не сходите с ума. Пять – от силы. Мне жаль вас. На кого вы?
– Я сыграю на Савредону.
– Господа, – обратился Фривейский к двум генералам из генштаба, сидевшим рядом, – прошу вас быть свидетелями того, как я отговаривал Исаева от пари.
Фривейский отошел к окошкам тотализатора и поставил деньги на свою лошадь. Исаев видел, как крепко были зажаты билеты в маленькой и потной руке секретаря правительства. Не жарко, а у него все одно испаринка на висках проступила. Это значит – волнуется Фривейский. А как же ему не волноваться? Он не купец, у него доходы только от кабинетной работы.
Прозвучал колокол. Кони приняли старт. Ипподром сначала исподволь, сдержанно, а потом все ровней и ровней начал шуметь – поддерживали фаворитов: каждый своего. Лица некоторых зрителей застыли, другие враз употели до серебряной испарины на лбу, третьи орут что есть мочи. Исаев аж на стул вскочил, вопит, руками над головой машет; Фривейский, наоборот, вдавился в свое кресло, сжался комочком.
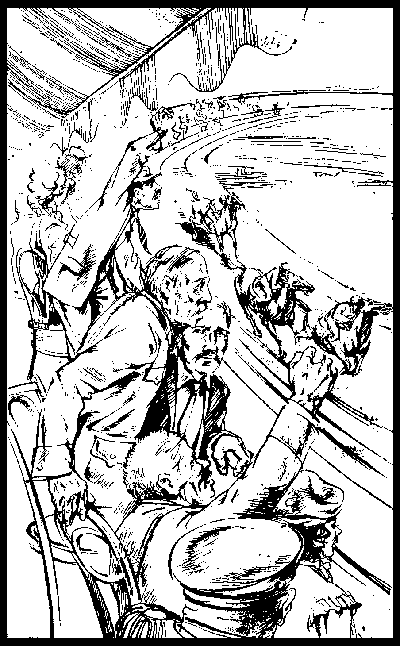 Казалось, что лошади еле-еле бегут – так обманчиво видится с трибуны все происходящее на гаревой дорожке. И то, что жокеи стегают по крупам взмокших лошадей, и то, что коляски их раскачивает из стороны в сторону, словно челноки на волне – так стремительна скорость, набранная, за три первые четверти круга, и то, что они гортанно кричат на лошадей злыми голосами, – все это кажется декоративным, как и средневековые наряды наездников.
Казалось, что лошади еле-еле бегут – так обманчиво видится с трибуны все происходящее на гаревой дорожке. И то, что жокеи стегают по крупам взмокших лошадей, и то, что коляски их раскачивает из стороны в сторону, словно челноки на волне – так стремительна скорость, набранная, за три первые четверти круга, и то, что они гортанно кричат на лошадей злыми голосами, – все это кажется декоративным, как и средневековые наряды наездников.
Первой пришла Изидра. Фривейский вытер лицо тугим платком голландского полотна.
– Ну-с, – сказал он тонким голосом, – денежки просим на ладошку!
– Алчны вы.
– Ух, алчен! – хохотнул Фривейский. – Господа, извольте засвидетельствовать от сплетен – я предупреждал Исаева и отговаривал от пари.
Генералы завистливо смотрели на Фривейского, который всеми силами старался скрыть радость. Но она прет из него: деньги, выигранные на бегах, – особые деньги, они будто сухое шампанское – легки, игристы, хмельны.
– Послушайте, Макс, – впервые за все время знакомства назвал его Фривейский по имени, – а вы, оказывается, игрок?!
– Вы близки к истине, – усмешливо ответил Исаев.
– Ну, продолжим наши игры?
– Я ставлю на Реганду-вторую.
– Это кляча. Снова проиграете.
– Пари! – предложил Исаев.
В это время к Фривейскому подбежал толстенький мальчик в гольфах – пальцы потные с обгрызенными розовыми ногтями в дешевых перстнях. Мальчик трется возле конюшен, продает фаворита. Аполлинэр говорил, что мальчик порой уносит по тысяче и больше. Наклонившись к Фривейскому, мальчик что-то быстро прошептал тому на ухо.
– Да? – переспросил Фривейский. – Точно?
Мальчик шепнул что-то еще, быстрое, и убежал к кассам тотализатора. Фривейский, побледнев, достал из кармана толстую пачку ассигнаций и заторопился следом.
– Фаворита получил, – услыхал Исаев презрительный шепот генералов у себя за спиной.
Фривейский вернулся быстро и сел на краешек стула.
– Так как же быть с пари? – спросил Исаев. – Или бойтесь?
– Мне неловко обыгрывать вас. Но вообще стоит проучить за дерзость: в другой раз не будете своевольничать; на ипподроме меня следует слушаться. Тысячу долларов в пари берете? И ни центом меньше.
Генералы почтительно рассмеялись. Исаев молчал.
– То-то… Испугались, Макс?
– Отчего! Нет. Пари принято, Алекс.
Исаев поднялся и, чувствуя спиной, как трое смотрят на него, пошел к тотализатору и поставил на Реганду.
– Она ж ни разу не приходила, – сказала тихонько кассирша, – да и жокей был в запое. Смотрите, молодой человек, может, не стоит…
Она два раза видела, эта кассирша, как мальчики, проиграв деньги, занятые у маньчжурских гангстеров, дававших в рост, стрелялись здесь, прямо на трибунах. Люди продолжали ставить на лошадей, они даже не замечали самоубийц… А те, у кого уже было все решено, лежали в пыли и оловянно смотрели на подметки тех, кто вытягивался и дрожал на мысочках, замерев в последнее мгновение перед финишем.
На первой четверти, всего через восемь секунд после старта, Реганда, выступавшая под управлением жокея Аполлинэра, сбоила. Лошадь повело в сторону, она стала на дыбы, и жокей с трудом удержался в коляске.
«Ничего, – подумал Исаев. – Ничего. Проиграв тысячу, я приобрету, Фривейского. Где только тысячу достать? У меня-то двести… Мальчик, который шепнул Фривейскому имя фаворита, конечно, ничего про сон Аполлинэра не знает, да и я сам не до конца понял: был ли это действительно сон или жокей давал мне понять, на кого ставить. Ничего, проиграть Фривейскому сейчас – это значит выиграть его чуть позже. Он труслив, потому что за ним нечисто, и он все время в страхе. Выиграв у меня такие большие деньги, он будет чувствовать себя обязанным мне, он станет побаиваться меня, он поймет, что я озлобился, он станет умасливать меня. Люди с проколом в биографии стараются всех своих врагов сделать друзьями. Поэтому-то они и погибают в конце концов… Что и говорить, выигрыш Аполлинэра мне был бы сейчас более кстати, тогда б я очень быстро все решил с Фривейским… Что ж… Терпение… Посмотрим, как будет дальше… Во всяком случае, я играю беспроигрышную партию: придет ли первым фаворит или моя Реганда – он уже в контакте со мной, он уже мой „приятель“. В крайнем случае с проигрышем выручит Чен…»
Остальные лошади ушли вперед, раскачиваются перед глазами спокойно, медленно. И в этом размеренном раскачивании – обреченность, которая обычно сопутствует поражению в заезде. Надо это спокойствие и размеренность поломать. Он знает, надо дать волю инстинктам, сейчас надо смотреть на мир, и на гаревую дорожку, и на круп лошади, и на тех, кто впереди, красными глазами. И дышать надо с хрипом и присвистом – как зверь на бегу.
И вот метр за метром, секунда за секундой начинает совершаться невозможное. Аполлинэр нагоняет остальных лошадей, которые пока идут кучей без фаворита. Аполлинэр обходит всех по крайней дорожке, приближается к финишу первым.
Рев на ипподроме сменился тишиной. Только слышно об землю копыта: цок-цок, цок-цок…
Дзеньк! – колокол бьет у финиша.
Рев на ипподроме возник сразу, словно все раньше замолкли на одно мгновенье, задержав в себе крик по сигналу невидимой дирижерской палочки.
– У-а-а! А-а-ау! – ревел ипподром, и у всех на лицах было изумление и даже какая-то радость. Люди были свидетелями чуда. Такого не бывало ни разу, чтобы сбоившая лошадь, никогда не считавшаяся фаворитом, могла обойти всех по самому краю и снять громадный выигрыш. Слава богу, что никто не ставил на нее, а то сразу миллионером стал бы такой человек. Это разве и успокаивает людей: проиграл – зато и все остальные тоже проиграли. Нет более ненавидимого человека на ипподроме, как счастливчик, снявший крупный куш. Даже подлипалы, которые моментально окружают его, даже они, угодливо глядя ему в лицо, ожидая кутежа, будут ненавидеть его, не говоря уже о тех, кто горд и горе привык ни с кем не делить.
Исаев осторожно потер переносье большим пальцем левой руки и посмотрел на Фривейского. Тот был желт, как высушенный лимон. Что может сделать мгновенье с человеком?! Под глазами у него залегли кругляши черного цвета. Глаза запали, а руки, лежащие на коленях без сил, казались ссохшимися, старческими.
Генералы переглянулись, затаив радость: крупный проигрыш соседа здесь, на бегах, так же приятен, как ненавистен его выигрыш.
Фривейский взял котелок и сказал глухо:
– Честь имею, господин Исаев. У меня заболела голова, пойду отлеживаться, темечко напекло.
Он поднялся, чтобы уйти, и столкнулся лицом к лицу с генералами. А они ждут. Это разве не понятно, чего они ждут? Они его унижения ждут, вот что они больше всего хотят видеть. Это главное зрелище – в перерыве между бегами.
– В данный момент я стеснен в средствах и просил бы вас отсрочить платеж моего долга, Максим…
Исаев уперся в него стальными своими глазами и, вместо того чтобы, как ожидал Фривейский, ответить «что вы, что вы», деловито поинтересовался:
– На сколько?
«Боже ты мой, какая гнуснейшая история! Завтра же разойдется слушок по армии, эти вороны непременно разнесут».
– Я просил бы вас перенести это на завтра.
– Ну и прекрасно, Алекс. А то оставайтесь? Может, еще какие веселые истории случатся?
– Голова, – ответил Фривейский. – У меня бывают страшные мигрени. Благодарю вас, всего хорошего, господа.
Один из генералов пошутил:
– Стреляться пошел.
После следующего заезда Исаев, получив громадный выигрыш, укатил с генералами на автомобиле в «Версаль» и задал там такой ужин, о котором немедленно заговорили в городе.
КВАРТИРА ФРИВЕЙСКОГО
УЛИЦЫ ВЛАДИВОСТОКА
ДАЙРЕН
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА МЕЖДУ ДВР И ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ
– Объявляю второй заезд, – прокричал в громадный мегафон ведущий. – Вместо Смарагда, объявленного в программе, пойдет Изидра под управлением жокея Рооша.
– Изидра ничего, – прилаживая бинокль, сказал Фривейский, – пожалуй, я буду ставить на нее.
– Не советую.
– Отчего?
– Она стоит в первой четверти.
– Откуда такие сведения?
– Слишком резва. Молодость я ценю в женщинах, в лошадях мне ближе опытность.
– Ах вы, повеса, – улыбнулся Фривейский, не отрываясь от бинокля. – Но какие стати, послушайте! Нет, нет, я играю Изидру.
– Пари?
– Зря вы… Имейте в виду – выиграю.
– Может быть. И тем не менее. Я сегодня буду три раза играть на пари и четыре раза на тотализаторе.
– Отчего такая странная цифра?
– В сумме получается семь, а семерка похожа на лебедя.
– Исаев, вы пишете стихи?
– Не вгоняйте меня в краску.
– Сколько ставите против меня?
– Десять долларов.
– Не сходите с ума. Пять – от силы. Мне жаль вас. На кого вы?
– Я сыграю на Савредону.
– Господа, – обратился Фривейский к двум генералам из генштаба, сидевшим рядом, – прошу вас быть свидетелями того, как я отговаривал Исаева от пари.
Фривейский отошел к окошкам тотализатора и поставил деньги на свою лошадь. Исаев видел, как крепко были зажаты билеты в маленькой и потной руке секретаря правительства. Не жарко, а у него все одно испаринка на висках проступила. Это значит – волнуется Фривейский. А как же ему не волноваться? Он не купец, у него доходы только от кабинетной работы.
Прозвучал колокол. Кони приняли старт. Ипподром сначала исподволь, сдержанно, а потом все ровней и ровней начал шуметь – поддерживали фаворитов: каждый своего. Лица некоторых зрителей застыли, другие враз употели до серебряной испарины на лбу, третьи орут что есть мочи. Исаев аж на стул вскочил, вопит, руками над головой машет; Фривейский, наоборот, вдавился в свое кресло, сжался комочком.
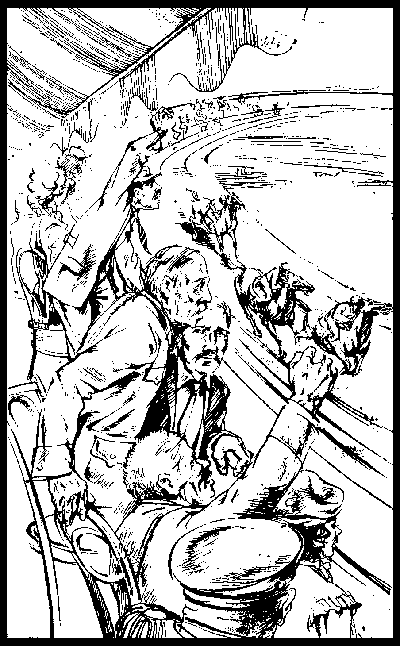
Первой пришла Изидра. Фривейский вытер лицо тугим платком голландского полотна.
– Ну-с, – сказал он тонким голосом, – денежки просим на ладошку!
– Алчны вы.
– Ух, алчен! – хохотнул Фривейский. – Господа, извольте засвидетельствовать от сплетен – я предупреждал Исаева и отговаривал от пари.
Генералы завистливо смотрели на Фривейского, который всеми силами старался скрыть радость. Но она прет из него: деньги, выигранные на бегах, – особые деньги, они будто сухое шампанское – легки, игристы, хмельны.
– Послушайте, Макс, – впервые за все время знакомства назвал его Фривейский по имени, – а вы, оказывается, игрок?!
– Вы близки к истине, – усмешливо ответил Исаев.
– Ну, продолжим наши игры?
– Я ставлю на Реганду-вторую.
– Это кляча. Снова проиграете.
– Пари! – предложил Исаев.
В это время к Фривейскому подбежал толстенький мальчик в гольфах – пальцы потные с обгрызенными розовыми ногтями в дешевых перстнях. Мальчик трется возле конюшен, продает фаворита. Аполлинэр говорил, что мальчик порой уносит по тысяче и больше. Наклонившись к Фривейскому, мальчик что-то быстро прошептал тому на ухо.
– Да? – переспросил Фривейский. – Точно?
Мальчик шепнул что-то еще, быстрое, и убежал к кассам тотализатора. Фривейский, побледнев, достал из кармана толстую пачку ассигнаций и заторопился следом.
– Фаворита получил, – услыхал Исаев презрительный шепот генералов у себя за спиной.
Фривейский вернулся быстро и сел на краешек стула.
– Так как же быть с пари? – спросил Исаев. – Или бойтесь?
– Мне неловко обыгрывать вас. Но вообще стоит проучить за дерзость: в другой раз не будете своевольничать; на ипподроме меня следует слушаться. Тысячу долларов в пари берете? И ни центом меньше.
Генералы почтительно рассмеялись. Исаев молчал.
– То-то… Испугались, Макс?
– Отчего! Нет. Пари принято, Алекс.
Исаев поднялся и, чувствуя спиной, как трое смотрят на него, пошел к тотализатору и поставил на Реганду.
– Она ж ни разу не приходила, – сказала тихонько кассирша, – да и жокей был в запое. Смотрите, молодой человек, может, не стоит…
Она два раза видела, эта кассирша, как мальчики, проиграв деньги, занятые у маньчжурских гангстеров, дававших в рост, стрелялись здесь, прямо на трибунах. Люди продолжали ставить на лошадей, они даже не замечали самоубийц… А те, у кого уже было все решено, лежали в пыли и оловянно смотрели на подметки тех, кто вытягивался и дрожал на мысочках, замерев в последнее мгновение перед финишем.
На первой четверти, всего через восемь секунд после старта, Реганда, выступавшая под управлением жокея Аполлинэра, сбоила. Лошадь повело в сторону, она стала на дыбы, и жокей с трудом удержался в коляске.
«Ничего, – подумал Исаев. – Ничего. Проиграв тысячу, я приобрету, Фривейского. Где только тысячу достать? У меня-то двести… Мальчик, который шепнул Фривейскому имя фаворита, конечно, ничего про сон Аполлинэра не знает, да и я сам не до конца понял: был ли это действительно сон или жокей давал мне понять, на кого ставить. Ничего, проиграть Фривейскому сейчас – это значит выиграть его чуть позже. Он труслив, потому что за ним нечисто, и он все время в страхе. Выиграв у меня такие большие деньги, он будет чувствовать себя обязанным мне, он станет побаиваться меня, он поймет, что я озлобился, он станет умасливать меня. Люди с проколом в биографии стараются всех своих врагов сделать друзьями. Поэтому-то они и погибают в конце концов… Что и говорить, выигрыш Аполлинэра мне был бы сейчас более кстати, тогда б я очень быстро все решил с Фривейским… Что ж… Терпение… Посмотрим, как будет дальше… Во всяком случае, я играю беспроигрышную партию: придет ли первым фаворит или моя Реганда – он уже в контакте со мной, он уже мой „приятель“. В крайнем случае с проигрышем выручит Чен…»
* * *
– Ну же! – кричал Аполлинэр и хлестал лошадь по крупу. – Ну! Ну!Остальные лошади ушли вперед, раскачиваются перед глазами спокойно, медленно. И в этом размеренном раскачивании – обреченность, которая обычно сопутствует поражению в заезде. Надо это спокойствие и размеренность поломать. Он знает, надо дать волю инстинктам, сейчас надо смотреть на мир, и на гаревую дорожку, и на круп лошади, и на тех, кто впереди, красными глазами. И дышать надо с хрипом и присвистом – как зверь на бегу.
И вот метр за метром, секунда за секундой начинает совершаться невозможное. Аполлинэр нагоняет остальных лошадей, которые пока идут кучей без фаворита. Аполлинэр обходит всех по крайней дорожке, приближается к финишу первым.
Рев на ипподроме сменился тишиной. Только слышно об землю копыта: цок-цок, цок-цок…
Дзеньк! – колокол бьет у финиша.
Рев на ипподроме возник сразу, словно все раньше замолкли на одно мгновенье, задержав в себе крик по сигналу невидимой дирижерской палочки.
– У-а-а! А-а-ау! – ревел ипподром, и у всех на лицах было изумление и даже какая-то радость. Люди были свидетелями чуда. Такого не бывало ни разу, чтобы сбоившая лошадь, никогда не считавшаяся фаворитом, могла обойти всех по самому краю и снять громадный выигрыш. Слава богу, что никто не ставил на нее, а то сразу миллионером стал бы такой человек. Это разве и успокаивает людей: проиграл – зато и все остальные тоже проиграли. Нет более ненавидимого человека на ипподроме, как счастливчик, снявший крупный куш. Даже подлипалы, которые моментально окружают его, даже они, угодливо глядя ему в лицо, ожидая кутежа, будут ненавидеть его, не говоря уже о тех, кто горд и горе привык ни с кем не делить.
Исаев осторожно потер переносье большим пальцем левой руки и посмотрел на Фривейского. Тот был желт, как высушенный лимон. Что может сделать мгновенье с человеком?! Под глазами у него залегли кругляши черного цвета. Глаза запали, а руки, лежащие на коленях без сил, казались ссохшимися, старческими.
Генералы переглянулись, затаив радость: крупный проигрыш соседа здесь, на бегах, так же приятен, как ненавистен его выигрыш.
Фривейский взял котелок и сказал глухо:
– Честь имею, господин Исаев. У меня заболела голова, пойду отлеживаться, темечко напекло.
Он поднялся, чтобы уйти, и столкнулся лицом к лицу с генералами. А они ждут. Это разве не понятно, чего они ждут? Они его унижения ждут, вот что они больше всего хотят видеть. Это главное зрелище – в перерыве между бегами.
– В данный момент я стеснен в средствах и просил бы вас отсрочить платеж моего долга, Максим…
Исаев уперся в него стальными своими глазами и, вместо того чтобы, как ожидал Фривейский, ответить «что вы, что вы», деловито поинтересовался:
– На сколько?
«Боже ты мой, какая гнуснейшая история! Завтра же разойдется слушок по армии, эти вороны непременно разнесут».
– Я просил бы вас перенести это на завтра.
– Ну и прекрасно, Алекс. А то оставайтесь? Может, еще какие веселые истории случатся?
– Голова, – ответил Фривейский. – У меня бывают страшные мигрени. Благодарю вас, всего хорошего, господа.
Один из генералов пошутил:
– Стреляться пошел.
После следующего заезда Исаев, получив громадный выигрыш, укатил с генералами на автомобиле в «Версаль» и задал там такой ужин, о котором немедленно заговорили в городе.
КВАРТИРА ФРИВЕЙСКОГО
Фривейский сидел за круглым столом в маленькой гостиной и тупо смотрел в одну точку перед собой. Жидкие волосы прилипли к мокрому лбу, а голова у него все время делала чуть заметные движения из стороны в сторону, словно детская игрушка с пружинкой вместо шеи.
Когда в передней зазвенел тоненький электрический звонок, Фривейский, вздрогнув, поднялся из-за стола, суетливо причесал волосы, нетвердо подошел к двери и хрипло спросил:
– Кто?
– Я, – ответил Исаев.
Фривейский несколько мгновений медлил, а потом открыл дверь и замер на пороге. Исаев сразу понял, что секретарь правительства пьян. Он отодвинул его плечом, закрыл за собой дверь и прошел в комнаты – без приглашения.
– Алекс, – начал сыпать Исаев пьяной скороговоркой, – зря вы на меня сердитесь. Я могу обидеться. И стану болтуном и сплетником, начну болтать, что помощник Меркулова – уголовный преступник и растратчик, из-под суда удрал. Нет?
– Макс! – выбросил руку, словно защищаясь, Фривейский.
– Что?
– Макс…
– Э, ерунда, вы реагируете на сплетни, будто я говорю правду. У вас нет соды? Мучает изжога, сил нет. Почему вы не подходили к телефону? Мы прекрасно проводим время. Вчера в «Цыпочке» давали потроха под белым вином, господи, какая прелесть! Я к вам на минуту, Алекс, я вам подвез денег – вернете их мне на людях, сейчас поедем к цыганам. Машенька-волшебница поет – холодом морозит, глаза-жуки, чудо-девка… Как раз тысячу долларов я привез, чтобы слухи не ползли.
Максим Максимович достал из заднего кармана брюк пачку зелененьких бумажек – завитой Вашингтон смотрит сухо и непреклонно, на губах презрительная усмешка.
– Ах, доллары, доллары, хорошая валюта, где угодно ходит, не то что наша российская дребедень. Вот, пожалуйста, здесь тысяча, а могу одолжить столько же, я в выигрыше. Одна просьба, – болтал Исаев, подталкивая деньги растерянному Фривейскому, – я тут слыхал, что доблестные жандармы собираются выпустить целехонькими с нашей земли тех подпольщиков-большевиков, которые попали нам в руки после блистательной операции Гиацинтова, когда он взял Васильева и многих других. Так вот, я достаточно воевал с красными, и, если мою кровь решат разменивать на либеральные жесты, я стану принимать свои меры. Мне, как патриоту и газетчику, необходим открытый, беспощадный суд над арестованными большевиками. Пусть они предстанут перед судом, пусть будет процесс. Если этого не произойдет, если ваш шеф решит играть в либерального дедушку, я буду жаловаться в Берлин, моим друзьям из Высшего монархического совета.
– Чего вы, собственно, хотите? – тихо спросил Фривейский. – Я как-то понять ничего не могу.
– Хитрите, Алекс, хитрите.
– Давайте отнесем этот разговор на завтра.
– Нет, зачем же? Мы сегодня должны все обрешить, Алекс. Я не шантажист какой, у меня душа нараспашку, вы меня знаете. Будь я продажным гадом, стал бы вас прижимать: мол, устрой мне хороший заказ, не то затребую из Верхнеудинска твое дело…
– Перестаньте! Мне гадостно слушать эти сплетни, распускаемые негодяями…
– А мне как противно их слышать! Но ведь то, что противно нам с вами, – интересно быдлу. Особенно если документы подложить. Да что это я, собственно, несу ахинею, пьян, пьян, стыд.
– Никак не пойму, что вам от меня надо, Макс?
– А ничего. Дружбы. Только лишь.
– Вы дьявол.
– Если бы… А в Монархическом совете о вас очень хорошего мнения, и мне позволено вам об этом сказать. Ну, поехали, Алекс, поехали.
Когда в передней зазвенел тоненький электрический звонок, Фривейский, вздрогнув, поднялся из-за стола, суетливо причесал волосы, нетвердо подошел к двери и хрипло спросил:
– Кто?
– Я, – ответил Исаев.
Фривейский несколько мгновений медлил, а потом открыл дверь и замер на пороге. Исаев сразу понял, что секретарь правительства пьян. Он отодвинул его плечом, закрыл за собой дверь и прошел в комнаты – без приглашения.
– Алекс, – начал сыпать Исаев пьяной скороговоркой, – зря вы на меня сердитесь. Я могу обидеться. И стану болтуном и сплетником, начну болтать, что помощник Меркулова – уголовный преступник и растратчик, из-под суда удрал. Нет?
– Макс! – выбросил руку, словно защищаясь, Фривейский.
– Что?
– Макс…
– Э, ерунда, вы реагируете на сплетни, будто я говорю правду. У вас нет соды? Мучает изжога, сил нет. Почему вы не подходили к телефону? Мы прекрасно проводим время. Вчера в «Цыпочке» давали потроха под белым вином, господи, какая прелесть! Я к вам на минуту, Алекс, я вам подвез денег – вернете их мне на людях, сейчас поедем к цыганам. Машенька-волшебница поет – холодом морозит, глаза-жуки, чудо-девка… Как раз тысячу долларов я привез, чтобы слухи не ползли.
Максим Максимович достал из заднего кармана брюк пачку зелененьких бумажек – завитой Вашингтон смотрит сухо и непреклонно, на губах презрительная усмешка.
– Ах, доллары, доллары, хорошая валюта, где угодно ходит, не то что наша российская дребедень. Вот, пожалуйста, здесь тысяча, а могу одолжить столько же, я в выигрыше. Одна просьба, – болтал Исаев, подталкивая деньги растерянному Фривейскому, – я тут слыхал, что доблестные жандармы собираются выпустить целехонькими с нашей земли тех подпольщиков-большевиков, которые попали нам в руки после блистательной операции Гиацинтова, когда он взял Васильева и многих других. Так вот, я достаточно воевал с красными, и, если мою кровь решат разменивать на либеральные жесты, я стану принимать свои меры. Мне, как патриоту и газетчику, необходим открытый, беспощадный суд над арестованными большевиками. Пусть они предстанут перед судом, пусть будет процесс. Если этого не произойдет, если ваш шеф решит играть в либерального дедушку, я буду жаловаться в Берлин, моим друзьям из Высшего монархического совета.
– Чего вы, собственно, хотите? – тихо спросил Фривейский. – Я как-то понять ничего не могу.
– Хитрите, Алекс, хитрите.
– Давайте отнесем этот разговор на завтра.
– Нет, зачем же? Мы сегодня должны все обрешить, Алекс. Я не шантажист какой, у меня душа нараспашку, вы меня знаете. Будь я продажным гадом, стал бы вас прижимать: мол, устрой мне хороший заказ, не то затребую из Верхнеудинска твое дело…
– Перестаньте! Мне гадостно слушать эти сплетни, распускаемые негодяями…
– А мне как противно их слышать! Но ведь то, что противно нам с вами, – интересно быдлу. Особенно если документы подложить. Да что это я, собственно, несу ахинею, пьян, пьян, стыд.
– Никак не пойму, что вам от меня надо, Макс?
– А ничего. Дружбы. Только лишь.
– Вы дьявол.
– Если бы… А в Монархическом совете о вас очень хорошего мнения, и мне позволено вам об этом сказать. Ну, поехали, Алекс, поехали.
Н о т а
Министерства иностранных дел Дальневосточной Республики
председателю японской делегации на Дайренской конференции Мацусима
Милостивый государь, Правительством Дальневосточной Республики получено сообщение, что в 20-х числах сего месяца в г. Владивостоке происходило совещание, на котором разрешался вопрос о покупке Китайско-Восточной железной дорогой у Уссурийской дороги значительного количества железнодорожного имущества и о передаче всей Уссурийской дороги в ведение Китайско-Восточной дороги.
В этом сообщении указывается, что в означенном совещании участвовали управляющий Китайско-Восточной дорогой инженер Остроумов, инженер Калина, инженер Стивенс и с другой стороны представители так называемого меркуловского правительства. Совещание пришло к соглашению о том, что Китайско-Восточная железная дорога получает от С. Меркулова 2000 скатов вагонных колес и 50000 резиновых тормозных рукавов, – всего стоимостью 700 тысяч американских долларов. Кроме того, совещание выяснило готовность С. Меркулова передать Уссурийскую железную дорогу Китайско-Восточной дороге за единовременную уплату в пользу С. Меркулова 2 миллионов мексиканских долларов.
Правительство Дальневосточной Республики констатирует еще раз совершенно беззаконную и хищническую растрату принадлежащего Дальневосточной Республике имущества, непрерывно практикуемую со стороны безответственных лиц, вроде упомянутого С. Меркулова и других, захвативших при помощи русских контрреволюционных офицерских отрядов южную часть Приморской области и производящих там совершенно незаконные распродажи имущества Дальневосточной Республики.
В районе действия этих лиц в Южном Приморье в настоящее время имеются японские военные отряды, и, таким образом, беззаконные действия этих лиц происходят до некоторой степени под защитой японских властей и, очевидно, с ведома последних. Таким образом, ответственность за расхищение имущества Дальневосточной Республики падает также на японские власти и на японские интервенционистские отряды, которые своим присутствием на территории Южного Приморья дают возможность упомянутым лицам производить хищения для своих личных целей.
Заявляя свой решительный протест по поводу хищений, производимых названным Меркуловым и другими лицами в Южном Приморье путем незаконных сделок, Правительство Дальневосточной Республики не может не возложить общей ответственности за действия этих лиц и материальной ответственности за последствия этих действий на японских военных и гражданских представителей в Южном Приморье.
Я. Янсон.
УЛИЦЫ ВЛАДИВОСТОКА
Сегодня, в день престольного праздника, валит разодетый веселый люд по Светланке – вниз, из церкви. Лица у людей чистые, умиротворенные. И такое спокойствие во всем и благостность и так чист осенний воздух, что все горести и печали кажутся нереальными сейчас, в этот солнечный, прекрасный час.
И вдруг откуда-то издалека, поначалу обрывочно и миражно, но с каждой минутой все явственнее, начинает звучать величавая похоронная музыка. Люди прислушиваются, но порой с океана налетает ветер, и тогда музыки не слышно и кажется, что ее вовсе не было, а просто послышалось, как воспоминание о пережитом, об отступлении, о разгромах и разлуках.
Но нет: вот она снова – торжественная и грозная музыка похоронного марша. И такая в ней мощь, будто самые большие оркестры города соединились. Кого же хоронят? По музыке – не иначе как генерала, но в газетах ничего не было, вроде бы все начальство живо и здорово, а чумных – тех жгут, а не хоронят.
Гиацинтов снял трубку телефона:
– Автомобиль к подъезду.
Сейчас он поедет на Эгершельдское кладбище. Там, замерев в каре, стоят ощетинившиеся штыками солдаты, которые должны расстрелять тех, кто придет хоронить Васильева. Завершение первой части операции «Золотая рыбка», по теперешней ситуации, будет означать великую победу.
Тыл станет чист и крепок. Остальных, которые в тюрьме, «выдворить» через Гродеково в Китай – либеральный жест, освобождение политических противников. А в Гродекове «возмущенный казачий народ» расправится, несмотря на «сопротивление властей», с руководителями подполья. Но это уже не будет вина Меркуловых или Гиацинтова, это «святая воля народа», который ничего не прощает.
Катафалк, запряженный шестеркой лошадей, медленно плывет по улицам. Оркестр идет по мостовой следом за катафалком. И – никого следом за оркестром. Ни единого человека.
А Васильев лежит в гробу, лицо измученное, и все равно улыбка на нем.
Гремит похоронный марш.
Что ж, товарищ Васильев, прости тех, кто не пришел. Не могут они прийти. Но кто же те люди на тротуарах в кургузых одежонках, что, просачиваясь ручейками сквозь разодетую толпу, спешат по улицам за гробом? Это ж твои братья по классу, товарищ Васильев, идут за тобой следом, скрываясь в праздничной престольной сутолоке. Те, кто из церкви, – улыбчивы, нарядны, веселы, а кто навстречу им, следом за катафалком, – скорбны, и лица их в машинной копоти, и в глазах слезы.
Они рядом с тобой, они провожают тебя в последний путь, они вокруг, и много их, не зря Гиацинтов их боится, он умный, он понимает, кого следует ему бояться. А за оркестром – никого, пустая мостовая…
В кладбищенские ворота, под дула ружей и под грохот оркестра, к черной провальной яме могилы, которая кажется маленькой и жалкой и похожа на ранку в большом и добром теле земли, подъезжает один катафалк, запряженный шестеркой великолепных лошадей. А людей нет, никого нет…
Гиацинтов, замерев у ворот, в бешенстве сломал стек. Воронье кричало, кружась над верхушкой деревьев. И листья опадали медленно, словно бы страшась соприкосновения с промерзшей, бурой землей.
И вдруг откуда-то издалека, поначалу обрывочно и миражно, но с каждой минутой все явственнее, начинает звучать величавая похоронная музыка. Люди прислушиваются, но порой с океана налетает ветер, и тогда музыки не слышно и кажется, что ее вовсе не было, а просто послышалось, как воспоминание о пережитом, об отступлении, о разгромах и разлуках.
Но нет: вот она снова – торжественная и грозная музыка похоронного марша. И такая в ней мощь, будто самые большие оркестры города соединились. Кого же хоронят? По музыке – не иначе как генерала, но в газетах ничего не было, вроде бы все начальство живо и здорово, а чумных – тех жгут, а не хоронят.
Гиацинтов снял трубку телефона:
– Автомобиль к подъезду.
Сейчас он поедет на Эгершельдское кладбище. Там, замерев в каре, стоят ощетинившиеся штыками солдаты, которые должны расстрелять тех, кто придет хоронить Васильева. Завершение первой части операции «Золотая рыбка», по теперешней ситуации, будет означать великую победу.
Тыл станет чист и крепок. Остальных, которые в тюрьме, «выдворить» через Гродеково в Китай – либеральный жест, освобождение политических противников. А в Гродекове «возмущенный казачий народ» расправится, несмотря на «сопротивление властей», с руководителями подполья. Но это уже не будет вина Меркуловых или Гиацинтова, это «святая воля народа», который ничего не прощает.
Катафалк, запряженный шестеркой лошадей, медленно плывет по улицам. Оркестр идет по мостовой следом за катафалком. И – никого следом за оркестром. Ни единого человека.
А Васильев лежит в гробу, лицо измученное, и все равно улыбка на нем.
Гремит похоронный марш.
Что ж, товарищ Васильев, прости тех, кто не пришел. Не могут они прийти. Но кто же те люди на тротуарах в кургузых одежонках, что, просачиваясь ручейками сквозь разодетую толпу, спешат по улицам за гробом? Это ж твои братья по классу, товарищ Васильев, идут за тобой следом, скрываясь в праздничной престольной сутолоке. Те, кто из церкви, – улыбчивы, нарядны, веселы, а кто навстречу им, следом за катафалком, – скорбны, и лица их в машинной копоти, и в глазах слезы.
Они рядом с тобой, они провожают тебя в последний путь, они вокруг, и много их, не зря Гиацинтов их боится, он умный, он понимает, кого следует ему бояться. А за оркестром – никого, пустая мостовая…
В кладбищенские ворота, под дула ружей и под грохот оркестра, к черной провальной яме могилы, которая кажется маленькой и жалкой и похожа на ранку в большом и добром теле земли, подъезжает один катафалк, запряженный шестеркой великолепных лошадей. А людей нет, никого нет…
Гиацинтов, замерев у ворот, в бешенстве сломал стек. Воронье кричало, кружась над верхушкой деревьев. И листья опадали медленно, словно бы страшась соприкосновения с промерзшей, бурой землей.
ДАЙРЕН
– Итак, – говорит глава японской делегации Мацусима, открывая заседание конференции после перерыва, – императорское правительство Японии, несмотря на отказ представителей Дальневосточной республики найти способ загладить свою моральную вину перед жертвами красного террора, тем не менее сочло возможным продолжать переговоры, поскольку для нас нет выше интересов, чем интересы всеобщего мира. Я начну с оглашения наших условий.
Он достает лист желтой с разводами бумаги и торжественно разворачивает его. Отставив бумагу на вытянутую руку, он начинает читать.
– «ДВР обязана уничтожить весь военный флот и никогда его впредь не заводить на Тихом океане. Необходимо срыть все укрепления и впредь их не строить. Необходимо разрешить японским судам плавание по рекам ДВР под японским флагом. Следует позволить японским гражданам передвигаться по территории ДВР, не испрашивая на то разрешения МИДа ДВР. Следует разрешить японским гражданам покупать землю ДВР, а также следует властям ДВР особо благоприятствовать японским гражданам в промышленности, горном деле, торговле. Владивосток должен быть объявлен вольным городом с международными гарантиями. На территории ДВР никогда не должен быть введен коммунистический режим. Таковы в общих чертах наши предложения. Если они будут приняты, тогда японское правительство торжественно обещает вывести свои оккупационные войска в тот день и час, когда это будет целесообразно и логично».
– Больше это похоже на условия безоговорочной капитуляции, – говорит Петров.
– Каково мнение наших друзей военных? – любезно улыбаясь, спрашивает Мацусима, надев очки, и смотрит в упор на Блюхера.
– Такие вопросы, мне кажется, могут быть решены только разговором орудий.
– Мнение господина Блюхера выражает официальную точку зрения?
– Личную.
– Господин председатель русской делегации, нам бы хотелось выслушать официальную точку зрения.
– По-видимому, – говорит Петров, – нам будет необходим перерыв.
– На месяц, – подсказывает Мархлевский.
– Так долго? – удивляется японский дипломат.
– Трудности дороги, бандиты и хунхузы, – отвечает Петров зло. – Если вам мешает бушующее море, то нам – бушующая суша.
– Мы не можем ждать месяц вашего ответа.
– Мы ведь могли ждать три недели вашего ответа.
– Не три недели, а две недели и пять дней.
– Вот и вы подождите две недели и пять дней, – предлагает Василий Константинович, – надо ж уступать друг другу, не так ли?
– Ну что ж, – говорит Мацусима, – мы подождем три недели. Это крайний срок. Если вы откажетесь принять наши предложения, мы будем вынуждены решать это с другим русским правительством, которое существует на территории ДВР.
– На территории ДВР существует одно правительство – говорит Блюхер.
– Слепота – болезнь досадная – отвечает Мацусима, – но если у человека есть глаза, а он не хочет видеть или, еще хуже, боится видеть, тогда это уже не болезнь, а крах. Объявляется перерыв в работе высокой конференции.
Он достает лист желтой с разводами бумаги и торжественно разворачивает его. Отставив бумагу на вытянутую руку, он начинает читать.
– «ДВР обязана уничтожить весь военный флот и никогда его впредь не заводить на Тихом океане. Необходимо срыть все укрепления и впредь их не строить. Необходимо разрешить японским судам плавание по рекам ДВР под японским флагом. Следует позволить японским гражданам передвигаться по территории ДВР, не испрашивая на то разрешения МИДа ДВР. Следует разрешить японским гражданам покупать землю ДВР, а также следует властям ДВР особо благоприятствовать японским гражданам в промышленности, горном деле, торговле. Владивосток должен быть объявлен вольным городом с международными гарантиями. На территории ДВР никогда не должен быть введен коммунистический режим. Таковы в общих чертах наши предложения. Если они будут приняты, тогда японское правительство торжественно обещает вывести свои оккупационные войска в тот день и час, когда это будет целесообразно и логично».
– Больше это похоже на условия безоговорочной капитуляции, – говорит Петров.
– Каково мнение наших друзей военных? – любезно улыбаясь, спрашивает Мацусима, надев очки, и смотрит в упор на Блюхера.
– Такие вопросы, мне кажется, могут быть решены только разговором орудий.
– Мнение господина Блюхера выражает официальную точку зрения?
– Личную.
– Господин председатель русской делегации, нам бы хотелось выслушать официальную точку зрения.
– По-видимому, – говорит Петров, – нам будет необходим перерыв.
– На месяц, – подсказывает Мархлевский.
– Так долго? – удивляется японский дипломат.
– Трудности дороги, бандиты и хунхузы, – отвечает Петров зло. – Если вам мешает бушующее море, то нам – бушующая суша.
– Мы не можем ждать месяц вашего ответа.
– Мы ведь могли ждать три недели вашего ответа.
– Не три недели, а две недели и пять дней.
– Вот и вы подождите две недели и пять дней, – предлагает Василий Константинович, – надо ж уступать друг другу, не так ли?
– Ну что ж, – говорит Мацусима, – мы подождем три недели. Это крайний срок. Если вы откажетесь принять наши предложения, мы будем вынуждены решать это с другим русским правительством, которое существует на территории ДВР.
– На территории ДВР существует одно правительство – говорит Блюхер.
– Слепота – болезнь досадная – отвечает Мацусима, – но если у человека есть глаза, а он не хочет видеть или, еще хуже, боится видеть, тогда это уже не болезнь, а крах. Объявляется перерыв в работе высокой конференции.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА МЕЖДУ ДВР И ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ
Она была установлена, эта тридцатикилометровая нейтральная зона по реке Бикину, как некая прокладка между красными войсками и оккупационной армией Японии вкупе с белыми корпусами меркуло-семеновцев. Здесь, в нейтральной зоне, было пусто и тихо, хотя земля была вспахана и коровы мычали на выгонах. Но тихо было потому, что люди жили в неведении о завтрашнем дне. «Нейтральная зона» – слова-то иностранные, мужику их не понять, а не может в наши дни так быть, чтобы долго мир был и кровь не лилась. Вот и затаились тут люди – все ждали: когда же? И дождались.
Через день после объявления перерыва в работе Дайренской конференции японские пограничники были убраны со своих постов, проволочные заграждения местами сняты, а ночью через нейтральную зону пошла белая армия – бесчисленными колоннами пехоты, конницей, батареями, бронепоездами.
Дороги, схваченные первым осенним ледком, гулки, луна светит – окаянная, зыбкая, близкая к земле. Холодно. Пар над колоннами курится белыми облачками. А крестьяне стоят, замерев, возле своих домов. Торопится белая армия, с марша на бег переходит. Надо за ночь пройти нейтральную зону, а под утро ударить по красным так, чтобы покатились без остановки – к Москве.
И едва лишь засветлело на востоке, едва лишь алая полоска рассвета зажгла синим отсветом кроны деревьев, как меркуловская кавалерия с лихим улюлюканьем ринулась на красные позиции.
Никто в Чите и Хабаровске не ожидал такой откровенной провокации. Был договор, по которому Япония торжественно гарантировала безопасность границы по нейтральной зоне.
Никто пока еще не знал здесь, что сразу же после объявления перерыва на конференции в Дайрене японские дипломаты, связавшись по прямому проводу с Токио, потребовали немедленного проведения в жизнь той акции, которая была заранее, еще прошлой весной, запланирована в генштабе. Генерал Тачибана, получив той же ночью директивы из Токио, посетил премьер-министра Меркулова, вручил ему памятную записку японского правительства, договор о займе в два миллиона иен на расширение торговли и в мягкой, но весьма определенной форме дал понять, что выступление белых войск должно произойти в течение ближайших суток. Меркулов, которого сдерживали от выступления сами же японцы, рассчитывая «уломать» ДВР мирным путем в Дайрене, был рад этому ночному разговору, памятной записке, составленной в весьма уважительных тонах, и договору о займе. Меркулов сам позвонил к генералу Молчанову, главнокомандующему белой армии, разбудил его, извинился за то, что пришлось поднять с постели, и попросил незамедлительно приехать в резиденцию правительства. Молчанов спросонья никак не мог найти левый сапог, долго лазал по полу и глядел под кроватью, пока наконец не обнаружил сапог в прихожей, под зеркалом. Он ходил по квартире, зевал, тянулся и в темноте искал свои вещи: раздеваясь, генерал обычно расхаживал по квартире и потом никогда не помнил, где и что оставил с вечера. Одевшись, Молчанов подставил голову под холодную воду, только тогда наконец очухался и, присев на краешек ванны, понял: неспроста этот ночной звонок. По-видимому, началось. Да, вероятно, это долгожданное начало.
Через день после объявления перерыва в работе Дайренской конференции японские пограничники были убраны со своих постов, проволочные заграждения местами сняты, а ночью через нейтральную зону пошла белая армия – бесчисленными колоннами пехоты, конницей, батареями, бронепоездами.
Дороги, схваченные первым осенним ледком, гулки, луна светит – окаянная, зыбкая, близкая к земле. Холодно. Пар над колоннами курится белыми облачками. А крестьяне стоят, замерев, возле своих домов. Торопится белая армия, с марша на бег переходит. Надо за ночь пройти нейтральную зону, а под утро ударить по красным так, чтобы покатились без остановки – к Москве.
И едва лишь засветлело на востоке, едва лишь алая полоска рассвета зажгла синим отсветом кроны деревьев, как меркуловская кавалерия с лихим улюлюканьем ринулась на красные позиции.
Никто в Чите и Хабаровске не ожидал такой откровенной провокации. Был договор, по которому Япония торжественно гарантировала безопасность границы по нейтральной зоне.
Никто пока еще не знал здесь, что сразу же после объявления перерыва на конференции в Дайрене японские дипломаты, связавшись по прямому проводу с Токио, потребовали немедленного проведения в жизнь той акции, которая была заранее, еще прошлой весной, запланирована в генштабе. Генерал Тачибана, получив той же ночью директивы из Токио, посетил премьер-министра Меркулова, вручил ему памятную записку японского правительства, договор о займе в два миллиона иен на расширение торговли и в мягкой, но весьма определенной форме дал понять, что выступление белых войск должно произойти в течение ближайших суток. Меркулов, которого сдерживали от выступления сами же японцы, рассчитывая «уломать» ДВР мирным путем в Дайрене, был рад этому ночному разговору, памятной записке, составленной в весьма уважительных тонах, и договору о займе. Меркулов сам позвонил к генералу Молчанову, главнокомандующему белой армии, разбудил его, извинился за то, что пришлось поднять с постели, и попросил незамедлительно приехать в резиденцию правительства. Молчанов спросонья никак не мог найти левый сапог, долго лазал по полу и глядел под кроватью, пока наконец не обнаружил сапог в прихожей, под зеркалом. Он ходил по квартире, зевал, тянулся и в темноте искал свои вещи: раздеваясь, генерал обычно расхаживал по квартире и потом никогда не помнил, где и что оставил с вечера. Одевшись, Молчанов подставил голову под холодную воду, только тогда наконец очухался и, присев на краешек ванны, понял: неспроста этот ночной звонок. По-видимому, началось. Да, вероятно, это долгожданное начало.
