Страница:
Он разлил чуть зеленоватый спирт по граненым стаканам, разрезал на две части несколько больших луковиц, присолил их и подвинул – большую Ванюшину, а поменьше и с прозеленью посредине – Меркулову. Молча чокнувшись, выпили. Потом по-лошадиному мотали головами, нюхали лук, утирали заслезившиеся глаза.
– Ну, с чем приехали? – спросил Семенов. – Манускрипт привезли от этого… как его… премьера вашего?
– Нет. Не привезли, – ответил Меркулов. – Устное предложение.
– Вываливай.
– Правительство жалует вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерией Русской освободительной армии.
– Тут нищих нет.
– Григорий Михайлович, да неужто общее наше дело вас не волнует? – тихо спросил Ванюшин. – Ну, что вы как на базаре? Мы к вам пришли, мы вас просим – включайтесь в борьбу, мы вам приносим звание, которого у вас не было, вы ведь всего-навсего полковник, мы даем вам пост, который почетен и мужествен, а вы торгуетесь, как купчишка.
– Так, спутник ваш, министр иностранных дел, он из этого племени, – впервые за весь разговор улыбнулся Семенов, – они сами с братцем из купчишек. Иль нет, Николай Дионисьевич?
– Уж если мы из купчишек, – серьезно ответил Меркулов, – так вы, дорогой атаман, из таких густопсовых мужиков, что мы друг от друга недалеки. Происхождением куражиться – забота аристократов, а мы с братом – плебеи и, право, горды этим!
– Ладно, – сказал атаман после минуты молчания. – Бронепоезд дам и конников подброшу, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мои семеновцы-молодцы горазды. А там решим, кем мне идти: кобылами заправлять, либо людишками командовать. В газетенке, понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали вдосталь саблями во славу оружия российского. Про меня можешь не писать, я не гордый, я здесь тихо живу, как в Тульчине.
– Что это такое? – спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина.
Тот ответил:
– Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса.
СТАВКА ПОД ХАБАРОВСКОМ
ЧИТА
РАСПОЛОЖЕНИЕ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
ШТАБ КАВБРИГАДЫ
ГЕНШТАБ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ
РАЙКОМ КОМСОМОЛА
– Ну, с чем приехали? – спросил Семенов. – Манускрипт привезли от этого… как его… премьера вашего?
– Нет. Не привезли, – ответил Меркулов. – Устное предложение.
– Вываливай.
– Правительство жалует вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерией Русской освободительной армии.
– Тут нищих нет.
– Григорий Михайлович, да неужто общее наше дело вас не волнует? – тихо спросил Ванюшин. – Ну, что вы как на базаре? Мы к вам пришли, мы вас просим – включайтесь в борьбу, мы вам приносим звание, которого у вас не было, вы ведь всего-навсего полковник, мы даем вам пост, который почетен и мужествен, а вы торгуетесь, как купчишка.
– Так, спутник ваш, министр иностранных дел, он из этого племени, – впервые за весь разговор улыбнулся Семенов, – они сами с братцем из купчишек. Иль нет, Николай Дионисьевич?
– Уж если мы из купчишек, – серьезно ответил Меркулов, – так вы, дорогой атаман, из таких густопсовых мужиков, что мы друг от друга недалеки. Происхождением куражиться – забота аристократов, а мы с братом – плебеи и, право, горды этим!
– Ладно, – сказал атаман после минуты молчания. – Бронепоезд дам и конников подброшу, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мои семеновцы-молодцы горазды. А там решим, кем мне идти: кобылами заправлять, либо людишками командовать. В газетенке, понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали вдосталь саблями во славу оружия российского. Про меня можешь не писать, я не гордый, я здесь тихо живу, как в Тульчине.
– Что это такое? – спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина.
Тот ответил:
– Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса.
СТАВКА ПОД ХАБАРОВСКОМ
Несутся конники Семенова на красные позиции, размахивают над головами саблями и визжат – дико, по-звериному, так, что мороз леденит кожу. А следом за ними – шеренги каппелевцев: бегут – штыки наперевес. И в прозрачной дымке над Амуром им виден Хабаровск на высоком берегу реки, весь в солнце, церкви светятся, небо высокое, а солнце в нем синеватое, крохотное, морозное.
Бойцы поднимаются из окопов, бегут с винтовками наперевес: русские на русских, мужики на мужиков, братья на братьев, отцы на сыновей.
Идет рукопашный бой. То один, то другой бросает винтарь в сторону и по-русски решает свою судьбу: на кулаках. Молчаливый идет бой, только сипят люди или слезливо матерятся, но это уже предсмертно, в последний раз это.
Солнце село за тучи, пришли сумерки, а потом упала ночь, исчирканная короткими вспышками редких выстрелов.
Ревут паровозы, кричат женщины и дети, облепившие вагоны: из Хабаровска уходят последние составы.
Постышев и бойцы медленно отступают, прикрывая последние эшелоны, уходящие со станции. Слышно, как где-то близко урчат танки, в городе визжат конники – здесь им не с руки, тут рельсы, кони ноги поломают, – видно, как в городе один за другим возникают пожары – поднимаются белыми языками пламени, швыряет их по ветру, и кажется, будто хотят они поджечь унылое зимнее небо.
В занятом Хабаровске пьяный разгул победителей. В кабаках – крики казаков, вопли женщин, которых семеновцы затаскивают в подворотни; звенят стекла, крошатся зеркала в парикмахерских и оседают на пол пенными черными водопадами.
Ванюшин видит, как бьют старика еврея и таскают его за седые пейсы, он видит, как трое семеновцев сдирают шубку с гимназистки и рвут на ней юбчонку, он видит, как на фонаре болтается повешенный, а на груди у него табличка: «Учитель Широких – красный прихвостень». Он видит, как двое пьяных семеновцев методично бьют по щекам мужчину в касторовой шубе, судя по всему присяжного поверенного, и приговаривают:
– Рожу отъел, падлючий твой рот! Хлебало салом затекло!
– Перестаньте! – кричит Ванюшин. – Вы все сошли с ума! Перестаньте!
Один из казаков оборачивается и нетерпеливо перетягивает Ванюшина нагайкой через все лицо.
– А ну тикай, пока тебе в зад шомпол не воткнули, лярва!
Ванюшин выскакивает на улицу и сломя голову несется к реке. Снова – вопли избитых, пьяные крики казаков, шальные выстрелы, пожары и – ставни, ставни, ставни. Все окна закрываются ставнями. Город словно слепнет на глазах, словно прячет свое лицо от победителей – озверевших, окровавленных, страшных.
На громадном лесном складе, который разбросан прямо на берегу реки, сейчас оживленно. Несколько купцов, те, кто постарше, в поддевках и картузах, а которые помоложе – все на американский манер с коротких пальтишках и гетрах, окружив Меркулова, ходят среди громадных штабелей леса. Сколько же здесь леса! И мачтового, и строительного, и под спички, и кругляков на топку, и распиленного под шпалы, и заготовленного под доски, – золото вокруг, бесценный клад здесь захвачен.
Шуба у Меркулова распахнута, глаза блестят, он указывает нескольким приказчикам на штабеля леса и говорит:
– Это братнино, и это тоже братнино. И это тоже. Все кварталы с наших заимок пришли, тут на семьсот тысяч долларов должно быть, завтра проверим, а сейчас поставьте охрану из трезвых солдат. Если хоть одну спичку здесь бросят – к стенке!
Ванюшин подбегает к Меркулову, хватает его за рукав, не может никак отдышаться, хрипит:
– Послушайте, в городе резня! Надо немедленно пустить вашу охрану на улицы, чтобы навести порядок! Творится ужас!
– Не может быть, – рассеянно отвечает Меркулов. – Экое, право слово, безобразие. Сейчас что-нибудь придумаем. Слышите, как древесиной пахнет, а? Понюхайте, понюхайте – божественный запах. Нет ничего слаще запаха убитого дерева.
– Коля! – шепчет Ванюшин, и в глазах его играет отблеск пожаров, полыхающих в городе. – При чем здесь лес?! В городе творится ужас! Мы так все погубим. Какие, к черту, общенациональные задачи и манифесты? Опомнитесь…
– Да, да, вы правы, – отвечает Меркулов, а сам зажимает пальцы, считая штабеля, – сейчас едем. А с другой стороны, чего вы хотите? Народный гнев не знает границ… Господа, отчего вы не пометили на кедрачах, что мы не в Токио, а к американцам эту партию запродали? Синим крестиком надо, а вы желтым ставите. Как же так невнимательно, господа?
Ванюшин медленно отступает от Меркулова, поворачивается и, расстегнув шубу, бредет по городу, объятому пожарами.
Бойцы поднимаются из окопов, бегут с винтовками наперевес: русские на русских, мужики на мужиков, братья на братьев, отцы на сыновей.
Идет рукопашный бой. То один, то другой бросает винтарь в сторону и по-русски решает свою судьбу: на кулаках. Молчаливый идет бой, только сипят люди или слезливо матерятся, но это уже предсмертно, в последний раз это.
Солнце село за тучи, пришли сумерки, а потом упала ночь, исчирканная короткими вспышками редких выстрелов.
Ревут паровозы, кричат женщины и дети, облепившие вагоны: из Хабаровска уходят последние составы.
Постышев и бойцы медленно отступают, прикрывая последние эшелоны, уходящие со станции. Слышно, как где-то близко урчат танки, в городе визжат конники – здесь им не с руки, тут рельсы, кони ноги поломают, – видно, как в городе один за другим возникают пожары – поднимаются белыми языками пламени, швыряет их по ветру, и кажется, будто хотят они поджечь унылое зимнее небо.
В занятом Хабаровске пьяный разгул победителей. В кабаках – крики казаков, вопли женщин, которых семеновцы затаскивают в подворотни; звенят стекла, крошатся зеркала в парикмахерских и оседают на пол пенными черными водопадами.
Ванюшин видит, как бьют старика еврея и таскают его за седые пейсы, он видит, как трое семеновцев сдирают шубку с гимназистки и рвут на ней юбчонку, он видит, как на фонаре болтается повешенный, а на груди у него табличка: «Учитель Широких – красный прихвостень». Он видит, как двое пьяных семеновцев методично бьют по щекам мужчину в касторовой шубе, судя по всему присяжного поверенного, и приговаривают:
– Рожу отъел, падлючий твой рот! Хлебало салом затекло!
– Перестаньте! – кричит Ванюшин. – Вы все сошли с ума! Перестаньте!
Один из казаков оборачивается и нетерпеливо перетягивает Ванюшина нагайкой через все лицо.
– А ну тикай, пока тебе в зад шомпол не воткнули, лярва!
* * *
Ванюшин бежит через три ступени на второй этаж гостиницы, в люкс к Меркулову. Охранник говорит, что Николай Дионисьевич на лесных складах возле Амура.Ванюшин выскакивает на улицу и сломя голову несется к реке. Снова – вопли избитых, пьяные крики казаков, шальные выстрелы, пожары и – ставни, ставни, ставни. Все окна закрываются ставнями. Город словно слепнет на глазах, словно прячет свое лицо от победителей – озверевших, окровавленных, страшных.
На громадном лесном складе, который разбросан прямо на берегу реки, сейчас оживленно. Несколько купцов, те, кто постарше, в поддевках и картузах, а которые помоложе – все на американский манер с коротких пальтишках и гетрах, окружив Меркулова, ходят среди громадных штабелей леса. Сколько же здесь леса! И мачтового, и строительного, и под спички, и кругляков на топку, и распиленного под шпалы, и заготовленного под доски, – золото вокруг, бесценный клад здесь захвачен.
Шуба у Меркулова распахнута, глаза блестят, он указывает нескольким приказчикам на штабеля леса и говорит:
– Это братнино, и это тоже братнино. И это тоже. Все кварталы с наших заимок пришли, тут на семьсот тысяч долларов должно быть, завтра проверим, а сейчас поставьте охрану из трезвых солдат. Если хоть одну спичку здесь бросят – к стенке!
Ванюшин подбегает к Меркулову, хватает его за рукав, не может никак отдышаться, хрипит:
– Послушайте, в городе резня! Надо немедленно пустить вашу охрану на улицы, чтобы навести порядок! Творится ужас!
– Не может быть, – рассеянно отвечает Меркулов. – Экое, право слово, безобразие. Сейчас что-нибудь придумаем. Слышите, как древесиной пахнет, а? Понюхайте, понюхайте – божественный запах. Нет ничего слаще запаха убитого дерева.
– Коля! – шепчет Ванюшин, и в глазах его играет отблеск пожаров, полыхающих в городе. – При чем здесь лес?! В городе творится ужас! Мы так все погубим. Какие, к черту, общенациональные задачи и манифесты? Опомнитесь…
– Да, да, вы правы, – отвечает Меркулов, а сам зажимает пальцы, считая штабеля, – сейчас едем. А с другой стороны, чего вы хотите? Народный гнев не знает границ… Господа, отчего вы не пометили на кедрачах, что мы не в Токио, а к американцам эту партию запродали? Синим крестиком надо, а вы желтым ставите. Как же так невнимательно, господа?
Ванюшин медленно отступает от Меркулова, поворачивается и, расстегнув шубу, бредет по городу, объятому пожарами.
ЧИТА
Последние месяцы рабочий день Блюхера начинался в пять утра. Он просыпался без будильника и делал гимнастику, мылся ледяной водой до пояса, отфыркивался, как конь, лупил себя ладонями по загривку, по груди и по плечам, чтобы заиграла кровь. Одевался, тщательно брился, менял подворотничок, – с ночи он обязательно наглаживал себе смену и больше дня один подворотничок не носил, надраивал сапоги с высокими – бутылочками – голенищами и входил к себе в кабинет – сверкающий, свежий и спокойный.
Его сотрудники, ложившиеся спать так же, как и главком, в два-три часа – только после прибытия последних сводок с фронта, просыпались с трудом и долго не могли подняться из-за того, что болел затылок и в веках была тяжесть. Блюхер сам ходил по кабинетам – теперь все жили в штабе, на казарменном положении, – грохочуще смеялся и срывал рыжие, замученные дезинфекциями одеяла со своих людей, а иногда еще брызгал холодной водой из алюминиевой кружки.
Подняв своих помощников, Блюхер шел к прямому проводу, разговаривал с командующим Восточным фронтом Серышевым и комиссаром Постышевым, просматривал сообщения за ночь, заходил в комнату, обитую цинком, – там помещался особый отдел разведывательного управления, с полчаса сидел в управлении тыла. Сейчас главное значение Блюхер придавал организации снабжения дивизий, готовившихся к отправке на фронт. Ездил в Дальбюро ЦК, докладывал положение на фронте и уже потом шел к себе в кабинет, чтобы принять посетителей перед тем, как отправиться в части, на полигоны и в правительство: чуть ли не каждый день Совет министров заседал в экстренном порядке, обсуждая положение под Хабаровском.
Войдя в кабинет к Василию Константиновичу, он поклонился ему – сдержанно и спокойно, сел в кресло, не спеша вытянул ноги, хрустнул длинными, плоскими пальцами и сказал:
– Мистер Блюхер, я понимаю вашу занятость и поэтому весьма признателен за согласие принять меня. Америка – я имею в виду не только большой бизнес, но вообще широкое общественное мнение – интересуется тем, как вы объясните поражение ваших армий.
– Мне нравится, что вы не крутите, – ответил Блюхер, достав из вазочки несколько остро отточенных цветных карандашей. – Мне нравится, что вы ставите вопрос в лоб. Я отвечу вам. В связи с переговорами в Дайрене мы не предпринимали чрезвычайных мер по охране нашей границы вдоль нейтральной полосы по Иману, потому что, по условиям перемирия двадцатого года, за эту границу отвечали японцы. И еще – мы знали о существовании сильнейших белых группировок вдоль наших границ с Китаем и Монголией, откуда до Читы – рукой подать. Следовательно, мы обязаны были держать чересчур громоздкую пограничную армию для защиты тылов.
– Простите, господин министр, но сейчас вам тем не менее пришлось оголить тылы? По сообщению японских телеграфных агентств, вы сняли все пограничные войска и перебросили их под Хабаровск.
– Вам нужно официальное подтверждение? – улыбнулся Блюхер.
– О нет! Официальные подтверждения мы привыкли получать неофициальным путем.
– Но это уже путь не журналистики, а разведки.
– Две стороны одной медали, министр, если говорить честно.
– Мне не хочется обсуждать эту тему. Вопросы, представляющие военную тайну, несколько отличны от тех дискуссий по вопросам длины юбок, которые с таким блеском ведутся на страницах ваших газет.
– У нас достаточные запасы бумаги…
– Бумага – не ум, ею можно запастись впрок, – ответил Блюхер.
Кэбб захохотал, щелкнул пальцами и сказал:
– У нас это называется – «один ноль, впереди мистер Блюхер».
– Итак, продолжаю. Мы были убеждены, что, пока ведутся в Дайрене переговоры, нет надобности в исключительных мерах по охране границы по Иману, ибо международные гарантии, которые столь широковещательно дала Япония, казались нам вполне серьезными. Увы, мы ошиблись. Японцы пропустили белые армии через свои границы, нападение было неожиданно, отсюда – временный успех белых войск.
– Сдачу Бикина, Хабаровска, Ина вы считаете случайностью? Потерю тысячи километров вы называете временной?
– Да.
– Вы убеждены в вашей победе?
– Конечно.
– На чем зиждется ваша убежденность?
– Я слишком хорошо знаю, что несут с собой белые войска. Так же как ливень предшествует зною, так и эта победа белых – канун их окончательной гибели.
– Вы говорите, словно пророк.
– У меня слишком веселый характер для этой должности.
– Последний вопрос: мир хочет узнать правду о переговорах в Дайрене.
– Я думаю, мы заключим с Японией торговый договор.
– А чем собираетесь торговать?
– По преимуществу зубными щетками.
– Кто кому будет продавать зубные щетки?
– Друг другу. Они нам синенького цвета, а мы им фиолетовые.
– Надеюсь, если я передам в Нью-Йорк это сообщение, меня не выдворят из Читы за разглашение военной тайны?
– Только не спутайте цвета. Если вы напишете, что мы будем продавать Токио красные зубные щетки, обязательно выдворят.
– Вопрос не для печати – позволите?
– Пожалуйста.
– Как вы относитесь к японцам?
– Я глубоко уважаю эту нацию – художников, строителей и поэтов.
– Последний вопрос: нам известно, что вы обязываете комсостав армии изучать английский язык. Что вы имели в виду, издавая этот приказ?
– Я действительно издал такой приказ. После нашей победы мы проведем широкую демобилизацию, и многие из командиров станут инженерами, дипломатами, торговыми работниками. Им придется общаться с вашими людьми, а я не очень верю искусству переводчиков. Я даже думаю, что, если бы каждый человек на земле знал хотя бы два языка, войны в будущем были бы исключены из жизни общества.
– Вы говорите о будущем, когда ни одна страна мира не признает ни ваше, ни ленинское правительство? Вы говорите об этом, когда белые войска разгромили ваши армии под Хабаровском?
– Именно.
– Вы говорите, как верующий.
– Довольно сложно объяснить разницу между понятиями «верующий» и «уверенный». Тем не менее запишите это себе в книжечку и порасспросите ваших русских друзей из нашей эсеровской оппозиции.
– Благодарю вас, мистер Блюхер.
– Всего хорошего, мистер Кэбб.
…Через пять минут после того, как Кэбб покинул здание штаба, Блюхер пригласил к себе сотрудников особого отдела разведупра и предложил разработать тщательный план по дезинформации противника, с тем чтобы у белых создалось впечатление о новой переброске погранвойск с китайской границы к Хабаровску.
Его сотрудники, ложившиеся спать так же, как и главком, в два-три часа – только после прибытия последних сводок с фронта, просыпались с трудом и долго не могли подняться из-за того, что болел затылок и в веках была тяжесть. Блюхер сам ходил по кабинетам – теперь все жили в штабе, на казарменном положении, – грохочуще смеялся и срывал рыжие, замученные дезинфекциями одеяла со своих людей, а иногда еще брызгал холодной водой из алюминиевой кружки.
Подняв своих помощников, Блюхер шел к прямому проводу, разговаривал с командующим Восточным фронтом Серышевым и комиссаром Постышевым, просматривал сообщения за ночь, заходил в комнату, обитую цинком, – там помещался особый отдел разведывательного управления, с полчаса сидел в управлении тыла. Сейчас главное значение Блюхер придавал организации снабжения дивизий, готовившихся к отправке на фронт. Ездил в Дальбюро ЦК, докладывал положение на фронте и уже потом шел к себе в кабинет, чтобы принять посетителей перед тем, как отправиться в части, на полигоны и в правительство: чуть ли не каждый день Совет министров заседал в экстренном порядке, обсуждая положение под Хабаровском.
* * *
Первым, кто оказался в приемной военмина и главкома, был Мэрвин Кэбб, представляющий в ДВР американское телеграфное агентство.Войдя в кабинет к Василию Константиновичу, он поклонился ему – сдержанно и спокойно, сел в кресло, не спеша вытянул ноги, хрустнул длинными, плоскими пальцами и сказал:
– Мистер Блюхер, я понимаю вашу занятость и поэтому весьма признателен за согласие принять меня. Америка – я имею в виду не только большой бизнес, но вообще широкое общественное мнение – интересуется тем, как вы объясните поражение ваших армий.
– Мне нравится, что вы не крутите, – ответил Блюхер, достав из вазочки несколько остро отточенных цветных карандашей. – Мне нравится, что вы ставите вопрос в лоб. Я отвечу вам. В связи с переговорами в Дайрене мы не предпринимали чрезвычайных мер по охране нашей границы вдоль нейтральной полосы по Иману, потому что, по условиям перемирия двадцатого года, за эту границу отвечали японцы. И еще – мы знали о существовании сильнейших белых группировок вдоль наших границ с Китаем и Монголией, откуда до Читы – рукой подать. Следовательно, мы обязаны были держать чересчур громоздкую пограничную армию для защиты тылов.
– Простите, господин министр, но сейчас вам тем не менее пришлось оголить тылы? По сообщению японских телеграфных агентств, вы сняли все пограничные войска и перебросили их под Хабаровск.
– Вам нужно официальное подтверждение? – улыбнулся Блюхер.
– О нет! Официальные подтверждения мы привыкли получать неофициальным путем.
– Но это уже путь не журналистики, а разведки.
– Две стороны одной медали, министр, если говорить честно.
– Мне не хочется обсуждать эту тему. Вопросы, представляющие военную тайну, несколько отличны от тех дискуссий по вопросам длины юбок, которые с таким блеском ведутся на страницах ваших газет.
– У нас достаточные запасы бумаги…
– Бумага – не ум, ею можно запастись впрок, – ответил Блюхер.
Кэбб захохотал, щелкнул пальцами и сказал:
– У нас это называется – «один ноль, впереди мистер Блюхер».
– Итак, продолжаю. Мы были убеждены, что, пока ведутся в Дайрене переговоры, нет надобности в исключительных мерах по охране границы по Иману, ибо международные гарантии, которые столь широковещательно дала Япония, казались нам вполне серьезными. Увы, мы ошиблись. Японцы пропустили белые армии через свои границы, нападение было неожиданно, отсюда – временный успех белых войск.
– Сдачу Бикина, Хабаровска, Ина вы считаете случайностью? Потерю тысячи километров вы называете временной?
– Да.
– Вы убеждены в вашей победе?
– Конечно.
– На чем зиждется ваша убежденность?
– Я слишком хорошо знаю, что несут с собой белые войска. Так же как ливень предшествует зною, так и эта победа белых – канун их окончательной гибели.
– Вы говорите, словно пророк.
– У меня слишком веселый характер для этой должности.
– Последний вопрос: мир хочет узнать правду о переговорах в Дайрене.
– Я думаю, мы заключим с Японией торговый договор.
– А чем собираетесь торговать?
– По преимуществу зубными щетками.
– Кто кому будет продавать зубные щетки?
– Друг другу. Они нам синенького цвета, а мы им фиолетовые.
– Надеюсь, если я передам в Нью-Йорк это сообщение, меня не выдворят из Читы за разглашение военной тайны?
– Только не спутайте цвета. Если вы напишете, что мы будем продавать Токио красные зубные щетки, обязательно выдворят.
– Вопрос не для печати – позволите?
– Пожалуйста.
– Как вы относитесь к японцам?
– Я глубоко уважаю эту нацию – художников, строителей и поэтов.
– Последний вопрос: нам известно, что вы обязываете комсостав армии изучать английский язык. Что вы имели в виду, издавая этот приказ?
– Я действительно издал такой приказ. После нашей победы мы проведем широкую демобилизацию, и многие из командиров станут инженерами, дипломатами, торговыми работниками. Им придется общаться с вашими людьми, а я не очень верю искусству переводчиков. Я даже думаю, что, если бы каждый человек на земле знал хотя бы два языка, войны в будущем были бы исключены из жизни общества.
– Вы говорите о будущем, когда ни одна страна мира не признает ни ваше, ни ленинское правительство? Вы говорите об этом, когда белые войска разгромили ваши армии под Хабаровском?
– Именно.
– Вы говорите, как верующий.
– Довольно сложно объяснить разницу между понятиями «верующий» и «уверенный». Тем не менее запишите это себе в книжечку и порасспросите ваших русских друзей из нашей эсеровской оппозиции.
– Благодарю вас, мистер Блюхер.
– Всего хорошего, мистер Кэбб.
…Через пять минут после того, как Кэбб покинул здание штаба, Блюхер пригласил к себе сотрудников особого отдела разведупра и предложил разработать тщательный план по дезинформации противника, с тем чтобы у белых создалось впечатление о новой переброске погранвойск с китайской границы к Хабаровску.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
Блюхер в сопровождении командиров быстро идет через плац к конюшням, огороженным высоким забором. Оттуда доносится тоскливое ржание. Блюхер – злой и хмурый, на лбу – складки, глаза спрятаны под бровями. В громадный огороженный двор, где сейчас стоит добрая сотня лошадей, купленных для бригады у крестьян, он почти вбегает.
– Почему кони не в конюшнях?
– Полно, ставить некуда.
– Почему не построили временных?
– Завтра переведем конский запас в Балку, там есть пустые помещения.
– Почему завтра? Почему не сегодня?
Он не слушает ответа, досадливо машет рукой и начинает осматривать лошадей. Делает он это медленно, близко заглядывает в конские морды, щупает мускулатуру груди и нос. Он переходит от одной лошади к другой и очень вдумчиво, тщательно изучает каждую. Коннице белых надо противопоставить красную конницу, иначе пехоте не выдержать. И орудиям надо придать лошадей – они мертвы без конницы.
– Куда вы думаете определить эту, каурую? – спрашивает Блюхер сопровождающих его командиров.
– В пятую батарею.
– Понятно… Извольте сказать, каковы требования к вьючным лошадям для артиллерии?
– Какие требования?
– Те, которые разосланы по частям неделю назад. Вы их видели?
– Так точно.
– Помните?
– Да.
– Извольте повторить.
– Я помню в общих чертах…
– Придется напомнить частности. Вьючная лошадь для артчастей должна быть с широкой грудью, на коротких ногах, плотного склада, круторебрая, с крепким копытным рогом, с прямой короткой спиной, без старых ссадин на спине и с невысокой правильной холкой, – вдалбливая каждое слово в собеседников, отчеканил Блюхер. – А разве эта лошадь в артиллерию годится? На ней хоронить хорошо, а не воевать. Определите ее в обоз.
Блюхер идет дальше, осматривая коней.
– А это что такое? – спрашивает он. – Каких лошадей мы вообще не берем в армию?
– С порчеными копытами.
– Еще?
– С сжатой пяткой.
– Еще?
– Вислоухих.
– Еще?
Молчат командиры, смотрят под ноги, мнутся.
– Ай-яй-яй, – качает головой Василий Константинович, – нехорошо иметь девичью память, граждане комэски и комкавполками. А если у коня передние ноги значительно выгнуты назад в коленях?
– Не годится, если гнуты в коленях, – гудят командиры.
– Да я знаю, что не годится. А вот этот конь? У него ноги, как луки. Зачем его взяли?
– Недоглядка.
– Прошляпили, гражданин министр.
– Люблю самокритику, – говорит Блюхер хмуро, – только не в военных организациях, а в лавках головных уборов. Этого коня выбраковать.
Главком идет дальше. Он придирчиво осматривает каждую лошадь, смотрит, как подкована, заглядывает в зубы, пробует на ощупь мышцы ног. И вдруг возле забора он видит кобылу с огромными страдальческими глазами, а возле нее рыженького жеребенка. Тот жмется к матери, испуганно смотрит молочными еще, с голубизной, глазенками на людей, которые приближаются. Кобыла притирает сына к забору, стараясь спрятать его от людских взоров.
– Ах ты, маленький, – ласково говорит Василий Константинович. – Ах ты, красавец мой нежный…
Он осторожно тянет руку к жеребенку. Кобыла настороженно следит за его рукой и переступает задними ногами – часто-часто, словно собираясь взбрыкнуть.
– Василий Константинович, – опасливо говорят командиры, – как бы она не зашибла…
– Да разве она зашибет, – по-прежнему ласково говорит Блюхер, – она ж видит, что мы к нему с лаской, она только жестоких будет шибать…
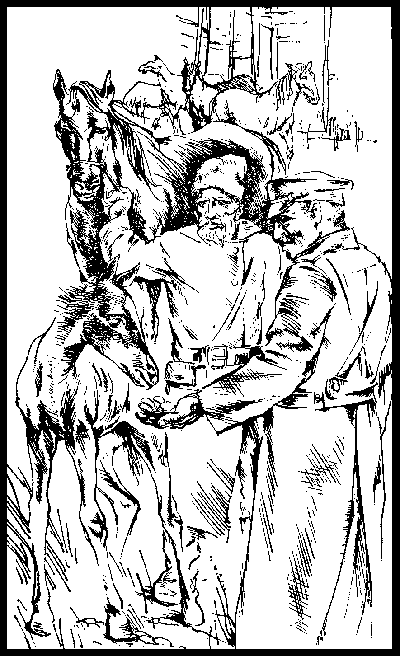 Он дотрагивается до головы жеребенка и легонько начинает почесывать его лоб, поглаживать за ушами, что-то тихое и нежное говорит ему, угощает четвертью сахарного кусочка. Жеребенок делает шаг от матери к Блюхеру и начинает тереться об его руку тоненькой шеей. Мать теперь уже не переступает задними ногами так часто, только все время опускает голову и трогает сына губами за спину. Жеребенок оглядывается на нее, не отходя от Блюхера, и тихонько покачивает головой, будто успокаивая ее.
Он дотрагивается до головы жеребенка и легонько начинает почесывать его лоб, поглаживать за ушами, что-то тихое и нежное говорит ему, угощает четвертью сахарного кусочка. Жеребенок делает шаг от матери к Блюхеру и начинает тереться об его руку тоненькой шеей. Мать теперь уже не переступает задними ногами так часто, только все время опускает голову и трогает сына губами за спину. Жеребенок оглядывается на нее, не отходя от Блюхера, и тихонько покачивает головой, будто успокаивая ее.
Василий Константинович берет лошадь за узду и ведет ее среди ржания и копытного перестука в конюшню. Следом за кобылой идет жеребенок.
– Разве можно брать лошадей с сосунками? – спрашивает Блюхер командиров после того, как поставил мать с сыном в стойло и насыпал им вволю сена. – Разве ж можно, дорогие граждане командиры?
– В приказе про это не сказано.
– Гражданин министр, там только сказано, чтоб явно жеребых маток не брать.
– Если б там было запрещено, разве б мы стали? Тоже ведь не звери, а люди.
– Эх-хе-хе, – задумчиво и грустно тянет Блюхер. – Ладно, впредь имейте в виду, люди… Пойдемте к вам в штаб, посмотрим, как обстоят дела с фуражом и боеприпасами.
– Почему кони не в конюшнях?
– Полно, ставить некуда.
– Почему не построили временных?
– Завтра переведем конский запас в Балку, там есть пустые помещения.
– Почему завтра? Почему не сегодня?
Он не слушает ответа, досадливо машет рукой и начинает осматривать лошадей. Делает он это медленно, близко заглядывает в конские морды, щупает мускулатуру груди и нос. Он переходит от одной лошади к другой и очень вдумчиво, тщательно изучает каждую. Коннице белых надо противопоставить красную конницу, иначе пехоте не выдержать. И орудиям надо придать лошадей – они мертвы без конницы.
– Куда вы думаете определить эту, каурую? – спрашивает Блюхер сопровождающих его командиров.
– В пятую батарею.
– Понятно… Извольте сказать, каковы требования к вьючным лошадям для артиллерии?
– Какие требования?
– Те, которые разосланы по частям неделю назад. Вы их видели?
– Так точно.
– Помните?
– Да.
– Извольте повторить.
– Я помню в общих чертах…
– Придется напомнить частности. Вьючная лошадь для артчастей должна быть с широкой грудью, на коротких ногах, плотного склада, круторебрая, с крепким копытным рогом, с прямой короткой спиной, без старых ссадин на спине и с невысокой правильной холкой, – вдалбливая каждое слово в собеседников, отчеканил Блюхер. – А разве эта лошадь в артиллерию годится? На ней хоронить хорошо, а не воевать. Определите ее в обоз.
Блюхер идет дальше, осматривая коней.
– А это что такое? – спрашивает он. – Каких лошадей мы вообще не берем в армию?
– С порчеными копытами.
– Еще?
– С сжатой пяткой.
– Еще?
– Вислоухих.
– Еще?
Молчат командиры, смотрят под ноги, мнутся.
– Ай-яй-яй, – качает головой Василий Константинович, – нехорошо иметь девичью память, граждане комэски и комкавполками. А если у коня передние ноги значительно выгнуты назад в коленях?
– Не годится, если гнуты в коленях, – гудят командиры.
– Да я знаю, что не годится. А вот этот конь? У него ноги, как луки. Зачем его взяли?
– Недоглядка.
– Прошляпили, гражданин министр.
– Люблю самокритику, – говорит Блюхер хмуро, – только не в военных организациях, а в лавках головных уборов. Этого коня выбраковать.
Главком идет дальше. Он придирчиво осматривает каждую лошадь, смотрит, как подкована, заглядывает в зубы, пробует на ощупь мышцы ног. И вдруг возле забора он видит кобылу с огромными страдальческими глазами, а возле нее рыженького жеребенка. Тот жмется к матери, испуганно смотрит молочными еще, с голубизной, глазенками на людей, которые приближаются. Кобыла притирает сына к забору, стараясь спрятать его от людских взоров.
– Ах ты, маленький, – ласково говорит Василий Константинович. – Ах ты, красавец мой нежный…
Он осторожно тянет руку к жеребенку. Кобыла настороженно следит за его рукой и переступает задними ногами – часто-часто, словно собираясь взбрыкнуть.
– Василий Константинович, – опасливо говорят командиры, – как бы она не зашибла…
– Да разве она зашибет, – по-прежнему ласково говорит Блюхер, – она ж видит, что мы к нему с лаской, она только жестоких будет шибать…
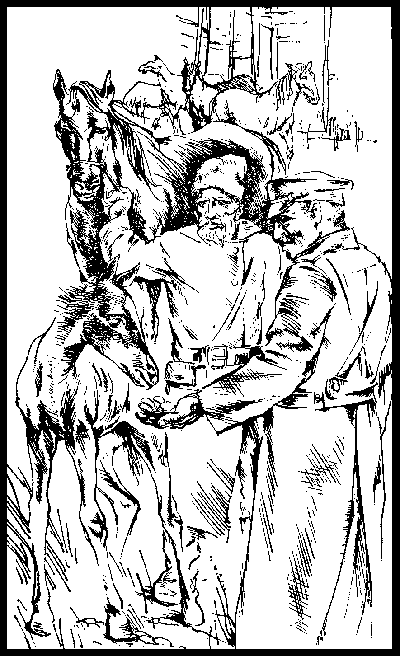
Василий Константинович берет лошадь за узду и ведет ее среди ржания и копытного перестука в конюшню. Следом за кобылой идет жеребенок.
– Разве можно брать лошадей с сосунками? – спрашивает Блюхер командиров после того, как поставил мать с сыном в стойло и насыпал им вволю сена. – Разве ж можно, дорогие граждане командиры?
– В приказе про это не сказано.
– Гражданин министр, там только сказано, чтоб явно жеребых маток не брать.
– Если б там было запрещено, разве б мы стали? Тоже ведь не звери, а люди.
– Эх-хе-хе, – задумчиво и грустно тянет Блюхер. – Ладно, впредь имейте в виду, люди… Пойдемте к вам в штаб, посмотрим, как обстоят дела с фуражом и боеприпасами.
ШТАБ КАВБРИГАДЫ
– Дайте мне список телефонов, – просит Блюхер, зажав телефонную трубку плечом возле уха, – надо позвонить в типографию.
– Пожалуйста, гражданин министр.
– Спасибо.
Блюхер быстро листает напечатанную на гектографе телефонную книжку штабных телефонов.
– Что такое инфористот? – удивленно спрашивает Блюхер.
– Информационно-исторический отдел, гражданин министр, – со снисходительной улыбкой объясняют Блюхеру.
– Вот в чем дело… А изопу? Что-нибудь связанное с художниками?
– Это фельдшерский изоляционный пункт.
– А что такое ВПН?
– Военный помощник начальника железной дороги.
– Ага… Ясно… – Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответят, и говорит: – Это Блюхер. Да, товарищ начальник телефонной станции, да, тот самый. У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде инфористот, изопу, пертелстан и так далее. Научитесь уважать родной язык.
Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой.
– «Изопу»! В типографию я позвоню позже, давайте посмотрим, что к вам поступало в последние дни из боеприпасов.
Ему приносят пачку приказов и рапортов. Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами – карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное.
– Кто рисовал на накладной?
– Я, гражданин министр, – отвечает один из командиров.
– Прочтите.
– «Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить два мешка для нужд кухни. Синельников».
– Это вы Синельников?
– Так точно.
– А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете? Нескромно эдакими буквищами свою фамилию рисовать. А теперь прочтите, что написано в накладной.
Командир Синельников, ставший совершенно пунцовым, пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции.
– Ну вот что, – говорит Блюхер, – приказываю впредь резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не «мешок для кухни», накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потрудиться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. Этому легко научиться, – усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить, – и на нем уж извольте чертить свое просвещенное мнение.
– Василий Константинович, – тихо говорит один из командиров, – да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил? Отступаем, крах грозит, Василий Константинович…
Блюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью:
– Дивлюсь на вас: исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен, а вы трещите, как дешевые агитаторы, и по-серьезному думать не хотите. На сколько времени хватит вам патронов, если сейчас, завтра, через неделю пойдем в наступление?
– На неделю хватит!
– На пять дней!
– У меня на три дня!
– На восемь соберу!
– На пять суток…
– На двое…
– Тьфу! – плюет Блюхер себе под ноги. – Противно слушать. «На пять дней»! Может, ты Меркуловых за день расколотишь? Аника-воин, слушать тошно!
Он поворачивается к окну и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить лозу сплеча.
– А как они у вас обучены? Ни черта лозу не берут; саблей, как дубиной машут, коней держат, будто молодожен – девку!
Блюхер выходит из штабной комнаты, идет на плац, берет у комэска коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет с упреждением в метр, рубит лозу остро, словно бритвой, осаживает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит:
– Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане командиры.
– Пожалуйста, гражданин министр.
– Спасибо.
Блюхер быстро листает напечатанную на гектографе телефонную книжку штабных телефонов.
– Что такое инфористот? – удивленно спрашивает Блюхер.
– Информационно-исторический отдел, гражданин министр, – со снисходительной улыбкой объясняют Блюхеру.
– Вот в чем дело… А изопу? Что-нибудь связанное с художниками?
– Это фельдшерский изоляционный пункт.
– А что такое ВПН?
– Военный помощник начальника железной дороги.
– Ага… Ясно… – Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответят, и говорит: – Это Блюхер. Да, товарищ начальник телефонной станции, да, тот самый. У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде инфористот, изопу, пертелстан и так далее. Научитесь уважать родной язык.
Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой.
– «Изопу»! В типографию я позвоню позже, давайте посмотрим, что к вам поступало в последние дни из боеприпасов.
Ему приносят пачку приказов и рапортов. Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами – карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное.
– Кто рисовал на накладной?
– Я, гражданин министр, – отвечает один из командиров.
– Прочтите.
– «Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить два мешка для нужд кухни. Синельников».
– Это вы Синельников?
– Так точно.
– А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете? Нескромно эдакими буквищами свою фамилию рисовать. А теперь прочтите, что написано в накладной.
Командир Синельников, ставший совершенно пунцовым, пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции.
– Ну вот что, – говорит Блюхер, – приказываю впредь резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не «мешок для кухни», накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потрудиться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. Этому легко научиться, – усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить, – и на нем уж извольте чертить свое просвещенное мнение.
– Василий Константинович, – тихо говорит один из командиров, – да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил? Отступаем, крах грозит, Василий Константинович…
Блюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью:
– Дивлюсь на вас: исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен, а вы трещите, как дешевые агитаторы, и по-серьезному думать не хотите. На сколько времени хватит вам патронов, если сейчас, завтра, через неделю пойдем в наступление?
– На неделю хватит!
– На пять дней!
– У меня на три дня!
– На восемь соберу!
– На пять суток…
– На двое…
– Тьфу! – плюет Блюхер себе под ноги. – Противно слушать. «На пять дней»! Может, ты Меркуловых за день расколотишь? Аника-воин, слушать тошно!
Он поворачивается к окну и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить лозу сплеча.
– А как они у вас обучены? Ни черта лозу не берут; саблей, как дубиной машут, коней держат, будто молодожен – девку!
Блюхер выходит из штабной комнаты, идет на плац, берет у комэска коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет с упреждением в метр, рубит лозу остро, словно бритвой, осаживает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит:
– Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане командиры.
ГЕНШТАБ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ
Над столом, устланном картами, склонились двое: заместитель начальника оперативного отдела Гржимальский и Блюхер.
– Повторяю, – говорит Василий Константинович, – постепенную концентрацию войск в прифронтовой полосе я считаю нецелесообразной.
– Но Мольтке считал это целесообразным.
– В том случае, если он был уверен в превосходстве своих сил. А мы уверены в превосходстве сил противника. И поэтому мы двинем на фронт мощный кулак сразу после того, как вся предварительная работа закончится здесь. Понятно?
– Дальнейшее ожидание, Василий Константинович, деморализует войска. Моя жена в свое время ставила спектакли в Офицерском собрании. У них был термин – «передержать» спектакль. Пусть лучше несколько недодержать – поможет энтузиазм, напор, горение… Передержка опаснее тем, что опускаются руки.
– Станислав Иванович, фронт – не спектакль, здесь стреляют не из игрушечных пистолетов.
– Любопытная ситуация, – грустно улыбается Гржимальский, – если бы мы, кадровики, решили саботировать, то лучшей позиции, чем ваша, Василий Константинович, не сыщешь. Все вокруг ропщут, ищут измену, считают, что это мы вас удерживаем от немедленных боевых операций…
– Кто именно?
– Увольте от точного ответа, потому что это я считаю доносительством. Поверьте благородному слову: многие.
Блюхер отходит к окну, останавливается, прячет руки за спину, медленно отвечает:
– «Мы ленивы и не любопытны». Помните Пушкина? Но мы еще склонны невежество прикрывать презрительной усмешкой обожравшегося культурой Фауста. Соскоблите с иного «Азбуку коммунизма» – и перед вами предстанет абсолютно голенький человек. А что касается «многих», недовольных моей медлительностью, то вы заблуждаетесь. Недовольных в штабе я знаю по фамилиям и знаю, что их недовольство идет от преданности нашим идеалам и оно мне сейчас, если хотите, выгодно. Да, да, это великолепная дезинформация, которая фиксируется во Владивостоке, и она столь правдива, что ей нельзя не верить. Понимаете?
– Вы дьявольский хитрец, Василий Константинович.
– Ну и слава богу. Какие у вас соображения по службе бронепоездов?
– По-видимому, дуэль двух бронесил в конечном итоге решит очень многое. Кто сможет пережать и оттеснить противника по линии железной дороги, тот окажется победителем.
– Какие меры вы считаете необходимыми для этого в стадии подготовительного периода?
– Здесь я предлагаю широкую деятельность…
Блюхер усмехается и, оторвав голову от карт, говорит:
– У индусов есть мудрые слова: «Горе тому народу, правители которого слишком деятельны». Как бы нам не уподобиться этим правителям, а?
– Повторяю, – говорит Василий Константинович, – постепенную концентрацию войск в прифронтовой полосе я считаю нецелесообразной.
– Но Мольтке считал это целесообразным.
– В том случае, если он был уверен в превосходстве своих сил. А мы уверены в превосходстве сил противника. И поэтому мы двинем на фронт мощный кулак сразу после того, как вся предварительная работа закончится здесь. Понятно?
– Дальнейшее ожидание, Василий Константинович, деморализует войска. Моя жена в свое время ставила спектакли в Офицерском собрании. У них был термин – «передержать» спектакль. Пусть лучше несколько недодержать – поможет энтузиазм, напор, горение… Передержка опаснее тем, что опускаются руки.
– Станислав Иванович, фронт – не спектакль, здесь стреляют не из игрушечных пистолетов.
– Любопытная ситуация, – грустно улыбается Гржимальский, – если бы мы, кадровики, решили саботировать, то лучшей позиции, чем ваша, Василий Константинович, не сыщешь. Все вокруг ропщут, ищут измену, считают, что это мы вас удерживаем от немедленных боевых операций…
– Кто именно?
– Увольте от точного ответа, потому что это я считаю доносительством. Поверьте благородному слову: многие.
Блюхер отходит к окну, останавливается, прячет руки за спину, медленно отвечает:
– «Мы ленивы и не любопытны». Помните Пушкина? Но мы еще склонны невежество прикрывать презрительной усмешкой обожравшегося культурой Фауста. Соскоблите с иного «Азбуку коммунизма» – и перед вами предстанет абсолютно голенький человек. А что касается «многих», недовольных моей медлительностью, то вы заблуждаетесь. Недовольных в штабе я знаю по фамилиям и знаю, что их недовольство идет от преданности нашим идеалам и оно мне сейчас, если хотите, выгодно. Да, да, это великолепная дезинформация, которая фиксируется во Владивостоке, и она столь правдива, что ей нельзя не верить. Понимаете?
– Вы дьявольский хитрец, Василий Константинович.
– Ну и слава богу. Какие у вас соображения по службе бронепоездов?
– По-видимому, дуэль двух бронесил в конечном итоге решит очень многое. Кто сможет пережать и оттеснить противника по линии железной дороги, тот окажется победителем.
– Какие меры вы считаете необходимыми для этого в стадии подготовительного периода?
– Здесь я предлагаю широкую деятельность…
Блюхер усмехается и, оторвав голову от карт, говорит:
– У индусов есть мудрые слова: «Горе тому народу, правители которого слишком деятельны». Как бы нам не уподобиться этим правителям, а?
РАЙКОМ КОМСОМОЛА
Заседает комиссия по мобилизации членов Союза молодежи в экипажи бронепоездов. Среди райкомовских ребят – Блюхер. В кабинет заходит вихрастый паренек.
