Страница:
Но окрестные жители, подобравшись к шахте, еще слышали голоса глубоко внизу, а когда белые, взяв Алапаевск, извлекли тела мучеников, то оказалось, что голова одного из мальчиков была перевязана платком Елизаветы Федоровны… Там, в кромешной тьме, истекая кровью, прощаясь с жизнью, она находила в себе силы утешать и ухаживать…
Как и когда снесли памятник, поставленный на месте убийства великого князя, прекрасное произведение замечательного художника?
Вот что рассказывал комендант Кремля:
«Наступило 1 мая 1918 г. …Члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались к 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных установлений.
Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом шутливо погрозил пальцем:
– Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо, – и указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича.
Я сокрушенно вздохнул.
– Правильно, говорю, Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.
– Ишь ты, нашел причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? – обратился Владимир Ильич к окружающим.
Со всех сторон его поддержали дружные голоса.
– Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.
Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.
– А ну, дружно! – задорно скомандовал Владимир Ильич Ленин.
Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник.
– Долой его с глаз, на свалку! – продолжал распоряжаться Владимир Ильич.
Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду».
Чудов монастырь разрушили в 1929 г., и часть его заняло здание для военной школы, а усыпальницу великого князя обнаружили при ремонте проезжей части в 1985 г. под автомобильной стоянкой, примерно напротив середины фасада бывшей школы. Тогда все засыпали и заасфальтировали и велели обо всем молчать. В 1995 г. останки великого князя были найдены снова: по сообщению печати, в предполагаемом месте пробурили 20 скважин, ввели миниатюрную видеокамеру и в конце концов обнаружили точное место склепа. Останки великого князя в 1995 г. были перенесены в Новоспасский монастырь, где поставлена копия васнецовского памятника.
Памятник Александру II
Чудов монастырь
Как и когда снесли памятник, поставленный на месте убийства великого князя, прекрасное произведение замечательного художника?
Вот что рассказывал комендант Кремля:
«Наступило 1 мая 1918 г. …Члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались к 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных установлений.
Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом шутливо погрозил пальцем:
– Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо, – и указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича.
Я сокрушенно вздохнул.
– Правильно, говорю, Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.
– Ишь ты, нашел причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? – обратился Владимир Ильич к окружающим.
Со всех сторон его поддержали дружные голоса.
– Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.
Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.
– А ну, дружно! – задорно скомандовал Владимир Ильич Ленин.
Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник.
– Долой его с глаз, на свалку! – продолжал распоряжаться Владимир Ильич.
Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду».
Чудов монастырь разрушили в 1929 г., и часть его заняло здание для военной школы, а усыпальницу великого князя обнаружили при ремонте проезжей части в 1985 г. под автомобильной стоянкой, примерно напротив середины фасада бывшей школы. Тогда все засыпали и заасфальтировали и велели обо всем молчать. В 1995 г. останки великого князя были найдены снова: по сообщению печати, в предполагаемом месте пробурили 20 скважин, ввели миниатюрную видеокамеру и в конце концов обнаружили точное место склепа. Останки великого князя в 1995 г. были перенесены в Новоспасский монастырь, где поставлена копия васнецовского памятника.
Памятник Александру II
Если новые хозяева не пощадили древних сооружений Кремля, то тем более они не пожалели еще сравнительно недавних, не имевших в их глазах никакой ценности.
Как только большевики переселились в старую столицу, они начали разрушать памятники царям. В Кремле их руки протянулись прежде всего к памятнику царю-освободителю Александру II.
Стоял памятник на исключительно выгодном для обозрения месте: на склоне кремлевского холма, обращенного к Москве-реке, и отовсюду из Замоскворечья виднелась колоннада и высокая шатровая сень над статуей Александра II. Его установили недалеко от Малого Николаевского дворца, где в среду на Святой неделе 17 апреля 1818 г. у великого князя Николая Павловича, ставшего наследником престола после кончины его брата императора Александра I, и его супруги Александры Федоровны родился сын, названный Александром. Александр Николаевич стал вторым, после Петра Великого, российским императором, родившимся в Москве. Только через три недели состоялся обряд крещения в Михайлоархангельской церкви Чудова монастыря, проведенный архиепископом Августином. Младенца возложили на раку митрополита Алексия, прося его заступничества в жизни, но это не помогло, и император кончил ужасной смертью от руки террориста, когда еще был в расцвете сил и полон новых замыслов – тогда готовилось некое подобие конституции.
На рождение Александра его будущий воспитатель В.А. Жуковский сложил такие стихи «по случаю»:
В продолжение почти 10 лет шли подготовительные работы: одних конкурсов провели целых три! Представили более сотни проектов и никак не могли решить, какой из них будет принят, и только после того, как сам Александр III, который живо интересовался памятником, решительно вмешался, дело сдвинулось. Как-то гостивший в Гатчинском дворце сын поэта художник Павел Жуковский предложил императору свой проект. Александру III он понравился, но ему хотелось усилить в нем русские черты, и он рекомендовал привлечь архитектора Николая Султанова, ставшего известным после многих работ по реставрации и восстановлению старинных зданий. Их совместный проект, представленный в 1890 г., с фигурой Александра II, работы скульптора Александра Опекушина, получил одобрение, и уже летом того же года начались земляные работы, которые со многими осложнениями продолжались около трех лет. На месте сооружения каждый день в тяжелых условиях трудились сотни землекопов, оснащенных лишь тачками. Как писал корреспондент газеты «Русское слово», «золотистый песок погружается в большие тачки, пудов в 30 (почти полтонны! – Авт.), каждая с песком, и эти грузные тачки влекут быстро наверх, по мосткам, человека по три, по четыре при каждой тачке, влекут к общей горе вынутой земли». При выемке грунта обнаружили множество ценных предметов – чернильницы, пеналы и даже гусиное перо – ведь на этом месте находились здания приказов. Фундамент закладывали на материковой скале. «Только это, – как писали тогда, – может придать ему вековую прочность».
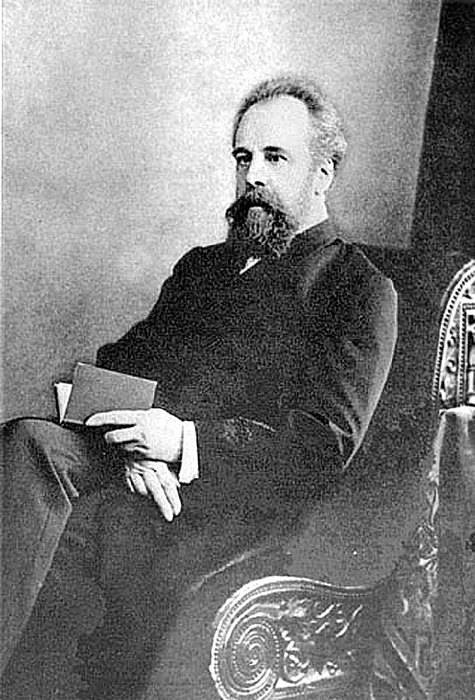
Сергей Михайлович Третьяков
Закладка памятника происходила 14 мая 1893 г. в присутствии Александра III, императрицы Марии Федоровны и наследника Николая Александровича, который и не предполагал, что он через год станет императором и впоследствии будет открывать воздвигнутый памятник. Торжественное открытие состоялось 16 августа 1898 г. За два дня до этого газеты сообщали, что 14 августа все работы по отделке статуи закончены, временные постройки разобраны, помост перед памятником «устилается сукном цвета бордо» и московские улицы украшаются к приезду царской четы и почетных гостей: «…на балконах и подъездах устанавливаются бюсты Их Императорских Величеств, утопающие в зелени и цветах. На Лубянском фонтане спешно заканчивается цветочное убранство; эта декорация будет единственною во всей Москве по своей роскоши и замыслу».
В воскресение 16 августа Москва готовилась к торжественному событию – уже в восемь часов утра прогремели пять пушечных выстрелов с Тайницкой башни, народ рано начал собираться не только в Кремле, но и напротив, на Софийской набережной, «которая была сплошь усеяна обывателями столицы». В два часа дня император и свита в составе крестного хода из Чудова монастыря подошли к памятнику, митрополит Московский отслужил молебен, возгласил вечную память Александру II, в это время спала пелена и загремели пушки, которые произвели под «Преображенский марш» салютационную пальбу – 360 выстрелов, окутав все дымом. Торжество открытия завершилось парадом войск, во главе которых шел, обнажив саблю, сам Николай II. В течение этого дня «публика долго толпилась у памятника, любуясь величественным монументом».
Памятник представлял собой мемориальный комплекс, состоявший из собственно самой статуи императора, шатровой сени над ней, большой галереи и массивного основания. Статуя во весь рост, отлитая из темной бронзы, стояла на прямоугольном пьедестале с надписью: «Императору Александру II любовию народа». Все сооружение являлось выдающимся произведением прикладного искусства. Возвышавшаяся над статуей шатровая сень была облицована темно-розовым финляндским гранитом и украшена бронзой с позолотой; кровля шатра сделана из бронзовых листов, вызолоченных через огонь и залитых темно-зеленой эмалью. На сводах сквозной арочной галереи, окружавшей с трех сторон сень со статуей, помещались 33 мозаичных портрета русских государей, начиная от Владимира и кончая отцом Александра императором Николаем I, выполненные в Венеции по эскизам художника П.В. Жуковского. По фризу колоннады можно было прочесть: «Сооружен доброхотным иждивением русского народа».
Памятник вызвал разные отзывы, и в том числе отрицательные. Вот эпиграмма, приведенная в горьковской «Жизни Клима Самгина»:
Этот памятник разрушили одним из первых. По воспоминаниям, Ленин нашел необходимым именно его удалить, считая, что на его месте надо поставить памятник Льву Толстому. «Где отлучали Толстого от церкви? – спросил он меня (В.Д. Бонч-Бруевича, управлявшего делами Совнаркома. – Авт.). – В Успенском соборе… – Вот и хорошо, самое подходящее его убрать (он показал на памятник Александру II), а здесь поставить хорошую статую Льва Толстого, обращенную к Успенскому собору. Это будет как раз кстати».
Летом 1918 г. статуи Александра уже не было (сень дожила до конца 1920-х гг.). В дневнике одного москвича, опубликованном за границей, 3 сентября 1918 г. было записано: «Ехал вчера на трамвае по Каменному мосту и – увы! – видел оттуда, что памятники Александрам Второму и Третьему уже разорены…» И далее он добавляет: «Какие же суетники эти советские работники! Снятие памятников, флаги, красноармейские звезды, телеграммы Ленину, бюллетени о его болезни, ведь это „буржуазные“ замашки. Не сказать ли им в таком случае: „Врач – исцелися сам“?»
Весной 1924 г. намеревались начать разборку сени, а остатки памятника разобрали летом 1925 г.
Как только большевики переселились в старую столицу, они начали разрушать памятники царям. В Кремле их руки протянулись прежде всего к памятнику царю-освободителю Александру II.
Стоял памятник на исключительно выгодном для обозрения месте: на склоне кремлевского холма, обращенного к Москве-реке, и отовсюду из Замоскворечья виднелась колоннада и высокая шатровая сень над статуей Александра II. Его установили недалеко от Малого Николаевского дворца, где в среду на Святой неделе 17 апреля 1818 г. у великого князя Николая Павловича, ставшего наследником престола после кончины его брата императора Александра I, и его супруги Александры Федоровны родился сын, названный Александром. Александр Николаевич стал вторым, после Петра Великого, российским императором, родившимся в Москве. Только через три недели состоялся обряд крещения в Михайлоархангельской церкви Чудова монастыря, проведенный архиепископом Августином. Младенца возложили на раку митрополита Алексия, прося его заступничества в жизни, но это не помогло, и император кончил ужасной смертью от руки террориста, когда еще был в расцвете сил и полон новых замыслов – тогда готовилось некое подобие конституции.
На рождение Александра его будущий воспитатель В.А. Жуковский сложил такие стихи «по случаю»:
История строительства памятника подробно исследована известным историком В.Ф. Козловым. Уже 8 марта 1881 г., на седьмой день после покушения, московский городской голова С.М. Третьяков предложил построить памятник в Кремле, что было поддержано гласными Московской городской думы. Памятник строился на деньги, собранные по всей России в продолжение многих лет, и подписка достигла огромной суммы – 1 миллион 762 тысяч рублей.
С душой на все прекрасное готовый,
Наставленный; достойным счастья быть,
Великое с величием сносить,
Не трепетать, встречая рок суровый…
В продолжение почти 10 лет шли подготовительные работы: одних конкурсов провели целых три! Представили более сотни проектов и никак не могли решить, какой из них будет принят, и только после того, как сам Александр III, который живо интересовался памятником, решительно вмешался, дело сдвинулось. Как-то гостивший в Гатчинском дворце сын поэта художник Павел Жуковский предложил императору свой проект. Александру III он понравился, но ему хотелось усилить в нем русские черты, и он рекомендовал привлечь архитектора Николая Султанова, ставшего известным после многих работ по реставрации и восстановлению старинных зданий. Их совместный проект, представленный в 1890 г., с фигурой Александра II, работы скульптора Александра Опекушина, получил одобрение, и уже летом того же года начались земляные работы, которые со многими осложнениями продолжались около трех лет. На месте сооружения каждый день в тяжелых условиях трудились сотни землекопов, оснащенных лишь тачками. Как писал корреспондент газеты «Русское слово», «золотистый песок погружается в большие тачки, пудов в 30 (почти полтонны! – Авт.), каждая с песком, и эти грузные тачки влекут быстро наверх, по мосткам, человека по три, по четыре при каждой тачке, влекут к общей горе вынутой земли». При выемке грунта обнаружили множество ценных предметов – чернильницы, пеналы и даже гусиное перо – ведь на этом месте находились здания приказов. Фундамент закладывали на материковой скале. «Только это, – как писали тогда, – может придать ему вековую прочность».
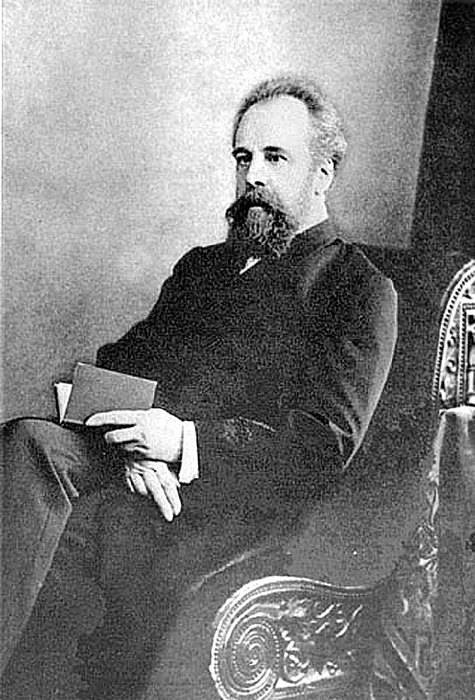
Сергей Михайлович Третьяков
Закладка памятника происходила 14 мая 1893 г. в присутствии Александра III, императрицы Марии Федоровны и наследника Николая Александровича, который и не предполагал, что он через год станет императором и впоследствии будет открывать воздвигнутый памятник. Торжественное открытие состоялось 16 августа 1898 г. За два дня до этого газеты сообщали, что 14 августа все работы по отделке статуи закончены, временные постройки разобраны, помост перед памятником «устилается сукном цвета бордо» и московские улицы украшаются к приезду царской четы и почетных гостей: «…на балконах и подъездах устанавливаются бюсты Их Императорских Величеств, утопающие в зелени и цветах. На Лубянском фонтане спешно заканчивается цветочное убранство; эта декорация будет единственною во всей Москве по своей роскоши и замыслу».
В воскресение 16 августа Москва готовилась к торжественному событию – уже в восемь часов утра прогремели пять пушечных выстрелов с Тайницкой башни, народ рано начал собираться не только в Кремле, но и напротив, на Софийской набережной, «которая была сплошь усеяна обывателями столицы». В два часа дня император и свита в составе крестного хода из Чудова монастыря подошли к памятнику, митрополит Московский отслужил молебен, возгласил вечную память Александру II, в это время спала пелена и загремели пушки, которые произвели под «Преображенский марш» салютационную пальбу – 360 выстрелов, окутав все дымом. Торжество открытия завершилось парадом войск, во главе которых шел, обнажив саблю, сам Николай II. В течение этого дня «публика долго толпилась у памятника, любуясь величественным монументом».
Памятник представлял собой мемориальный комплекс, состоявший из собственно самой статуи императора, шатровой сени над ней, большой галереи и массивного основания. Статуя во весь рост, отлитая из темной бронзы, стояла на прямоугольном пьедестале с надписью: «Императору Александру II любовию народа». Все сооружение являлось выдающимся произведением прикладного искусства. Возвышавшаяся над статуей шатровая сень была облицована темно-розовым финляндским гранитом и украшена бронзой с позолотой; кровля шатра сделана из бронзовых листов, вызолоченных через огонь и залитых темно-зеленой эмалью. На сводах сквозной арочной галереи, окружавшей с трех сторон сень со статуей, помещались 33 мозаичных портрета русских государей, начиная от Владимира и кончая отцом Александра императором Николаем I, выполненные в Венеции по эскизам художника П.В. Жуковского. По фризу колоннады можно было прочесть: «Сооружен доброхотным иждивением русского народа».
Памятник вызвал разные отзывы, и в том числе отрицательные. Вот эпиграмма, приведенная в горьковской «Жизни Клима Самгина»:
Один из лучших московских путеводителей, последний изданный в царской России, писал, что «сам памятник не производит художественного впечатления. В нем хороша только фигура императора, отлитая из бронзы, по проекту Опекушина. Сень над нею и галерея, в виде буквы П кругом нее, сооруженные по проекту художника П.В. Жуковского (сына поэта) и гражданского инженера Н.В. Султанова, – из очень дорогого материала, с массой позолоты, уже потускневшей, и венецианской мозаикой, – безвкусны и лишены какого бы то ни было идейного содержания. Это памятник лицу, а не деятелю, и обычные аксессуары памятников великим людям и крупным историческим деятелям здесь заменяются картинной галереей предков Александра II, начиная с Владимира Святого».
Нелепого строителя
Архинелепый план:
Царя-Освободителя
Поставить в кегельбан.
Этот памятник разрушили одним из первых. По воспоминаниям, Ленин нашел необходимым именно его удалить, считая, что на его месте надо поставить памятник Льву Толстому. «Где отлучали Толстого от церкви? – спросил он меня (В.Д. Бонч-Бруевича, управлявшего делами Совнаркома. – Авт.). – В Успенском соборе… – Вот и хорошо, самое подходящее его убрать (он показал на памятник Александру II), а здесь поставить хорошую статую Льва Толстого, обращенную к Успенскому собору. Это будет как раз кстати».
Летом 1918 г. статуи Александра уже не было (сень дожила до конца 1920-х гг.). В дневнике одного москвича, опубликованном за границей, 3 сентября 1918 г. было записано: «Ехал вчера на трамвае по Каменному мосту и – увы! – видел оттуда, что памятники Александрам Второму и Третьему уже разорены…» И далее он добавляет: «Какие же суетники эти советские работники! Снятие памятников, флаги, красноармейские звезды, телеграммы Ленину, бюллетени о его болезни, ведь это „буржуазные“ замашки. Не сказать ли им в таком случае: „Врач – исцелися сам“?»
Весной 1924 г. намеревались начать разборку сени, а остатки памятника разобрали летом 1925 г.
Чудов монастырь
Даже в Московском Кремле, каждая пядь которого полна исторических воспоминаний, Чудов монастырь стоял на особом счету – так много событий случилось здесь, так много знаменитых в русской истории лиц связано с ним.
Основан монастырь был сыном боярина Федора Бяконта, в юности ставшим монахом Богоявленского монастыря, а потом и московским митрополитом Алексием, управлявшим Московским княжеством при малолетнем князе Дмитрии, будущем Донском. Как повествуется в Житии митрополита, в 1357 г. его вызвала к себе в Орду мать хана Джанибека Тайдула, много лет скорбевшая глазами. Всякий вызов в Орду был тревожным – писали завещания, прощались с чадами и домочадцами, служили молебны. Когда митрополит в Успенском соборе совершал молебен перед отъездом, то случилось чудо – у гроба святого митрополита Петра «се от себя сама возгорелась свеча». Митрополит раздал молящимся часть этой свечи, а остальную взял с собой в Орду вместе с освященной водой.
В Орде он был торжественно встречен, введен в царские покои, там совершил молебен, возжег чудесную свечу, окропил глаза царицы святой водой, и… чудо свершилось – Тайдула прозрела. Все получили богатые дары, а митрополиту был подарен ордынский посольский (по другим источникам – конюшенный) двор в Кремле, где он устроил монастырь, а в 1365 г., как повествует летописец, «пресвященный Алексий, митрополит всея Руси, заложи церковь камену во имя святого архангела Михаила, честного его чуда, бывшаго в Хонех» (можно предполагать, что чудесное выздоровление Тайдулы произошло 6 сентября, в день празднования Чуда Архангела Михаила). Но вероятнее всего, что посвящение церкви определялось самим смыслом чуда, совершенного архангелом Михаилом, защитившим христианский храм от пытавшихся разрушить его язычников. Он явился с неба и остановил воды, направленные язычниками на храм, потом прорубил ущелье и увел воды туда. Отсюда название места – Хони, то есть погружение, потому что там воды погрузились в каменное ущелье. Митрополит Алексий этим посвящением подчеркивал значение сохранения православной церкви как оплота Московского государства. Церковь эта «милостию же Божиею и помощию святаго архаггела Михаила единаго лета и почата, и кончана, и священа бысть». Митрополит украсил новую церковь «и подписью, и иконами, и книгами, и златыми сосудами».

Патриарх Адриан
Сам митрополит Алексий скончался в 1378 г. и завещал положить его у алтарей построенной им церкви, но Дмитрий Донской не выполнил его волю и церковь простояла недолго – уже в 1431 г. во время службы «церковный верх… от ветхости весьма обвалился». Старый храм – одноглавый, с покрытием по трем закомарам – разобрали и выстроили новый, а во время подготовки фундамента нашли в земле нетленные мощи митрополита Алексия, которые и доныне сохраняются, но теперь уже не в Кремле, а в церкви Богоявления Господня, что в Елохове.
Новая церковь была меньше первоначальной, «обаче [однако] высока и зело пространна и прекрасна», но и она простояла не так долго. Великий князь Иван III Васильевич в 1501 г. указал разобрать обветшавшую церковь и построить новую. Через два года, в тот же день, 6 сентября, в день празднования Чуда в Хонех, церковь была торжественно освящена. Возможно, что ее, как и строившийся примерно в то же время Архангельский собор, возводили итальянские архитекторы. Считают, что неизвестный архитектор, создавший Чудовский собор, владел приемами итальянского Возрождения с таким же мастерством, как и Алевиз Новый.
Сам храм был очень красивым, его стройный и пропорциональный четверик украшен изящными декоративными элементами, несущими черты как ранней московской архитектуры, так и более поздних исканий. Капитальная «История русского искусства» так отозвалась об этом храме: «Собор Чудова монастыря был одним из тех первых памятников XVI в., в которых с наибольшей полнотой сказались черты новой московской архитектуры… В нем с наибольшим совершенством оказались использованными новые архитектурные формы, сложившиеся в Москве в результате глубоких идейных сдвигов и работы зодчих различных художественных направлений».
Чудовский собор явился образцом для многих русских построек XVI в. Он был красив и внутри – над алтарным престолом обращала на себя внимание резная деревянная позолоченная сень. Это чудесное произведение – «рукоделье раба Божия Петра Ремизова» – датировалось 1641 г.
В Чудовом монастыре находились и другие церкви: так, почти через 100 лет после кончины святого Алексия в основанном им монастыре возвели церковь, освященную во имя его, а строителем был архимандрит Геннадий, который очень почитал святого Алексия. Однажды «вниде ему в ум» почтить святого, и вскоре, около 1485 г., была построена Алексеевская церковь, в которую и были тогда перенесены мощи святого Алексия. В 1680 г. вместо этой церкви архимандрит Адриан, последний перед введением синодального управления всероссийский патриарх, заложил две новые церкви под одной кровлей, одна – во имя святого Алексия, а другая – во имя Благовещения Богородицы. Они соединялись аркой, под которой в серебряной раке покоились мощи святого Алексия, рядом лежал посох его, а за стеклом на стене находилось одеяние. Около Алексеевского храма в 1686 г. построили еще один – Андреевский, возможно по случаю умиротворения Стрелецкого бунта, когда патриарх вынес часть святых мощей апостола Андрея и призвал собравшихся бунтовщиков покориться, что они сделали, поцеловав святыню. Этот храм был, может быть, единственным в России, куда не разрешалось входить женщинам, – прежде в Чудовом монастыре было много монашествующих, все они во время богослужений заполняли церковь, и во избежание совращения неустойчивых к соблазну монахов вход женскому полу был строго воспрещен. Это запрещение по традиции оставалось в силе и до последних дней существования монастыря.
В Алексеевской церкви особенно хорош был иконостас, сделанный из бронзы в 1839 г. по рисунку М.Д. Быковского, а царские двери весом 11 пудов 30 фунтов (185 кг), работы знаменитой ювелирной фирмы Сазикова, сияли серебром. Церковь эта была еще и своеобразным воинским памятником: по указанию Николая I на ее стенах были развешаны трофеи Русско-персидской войны 1826–1828 гг.
В Алексеевскую церковь вело высокое псевдоготическое крыльцо, нелепо приделанное в 1780 г. к двухэтажному монастырскому корпусу по проекту М.Ф. Казакова (как писал путеводитель по Москве 1917 г., «прекрасное монастырское здание обезображено грубым крыльцом quasi-готического стиля»).
Под монастырским храмом Святого Алексия в 1906 г. устроили церковь-усыпальницу убитого террористом великого князя Сергея Александровича, освященную во имя преподобного Сергия Радонежского. Ее украшал замечательной работы резной белокаменный иконостас, иконы для которого написал художник К.П. Степанов. Из такого же белого мрамора изваяли надгробие, стоявшее в центре подземного храма. Там был и небольшой музей древностей, в котором находились ценные вещи из коллекции великого князя: иконы XVI и XVII вв., нательный крест XIV в. в серебряном ковчеге, а также личные вещи его. В храме находились носилки, на которых переносились останки Сергея Александровича, и гренадерская шинель, укрывавшая их.
Автором проекта храма-усыпальницы был архитектор В.П. Загорский, а внутренняя отделка производилась по замыслу и рисункам П.В. Жуковского.

Патриарх Филарет
Монастырь издавна был весьма почитаем – в церкви Чуда Архангела Михаила крестили многих младенцев из царского дома: детей Ивана Грозного, в частности в 1554 г. – царевича Федора, в 1629 г. патриарх Филарет крестил своего внука – будущего царя Алексея Михайловича, а в 1672 г. здесь был крещен и царевич Петр – впоследствии преобразователь России император Петр Великий. В 1818 г. в этой церкви состоялось крещение будущего царя-освободителя Александра II, родившегося неподалеку, в Малом Николаевском дворце.
Чудов монастырь памятен событиями, имевшими большое значение для истории русской церкви. Так, сюда был заключен митрополит Исидор, присланный в Москву из Константинополя в 1437 г. и давший согласие на унию – соединение восточного православия и западного католицизма. Когда митрополит во время церковной службы помянул папу римского, великий князь Василий II возмутился, громогласно назвал его «латинским прелестником» и велел запереть митрополита в Чудовом монастыре. В.О. Ключевский писал: «Если бы великий князь Василий Васильевич не обличал злокозненного врага, сатанина сына грека Исидора, олатынил бы он русскую церковь, исказил бы древнее благочестие, насажденное у нас святым князем Владимиром».
Исидору удалось бежать из монастыря, но великий князь приказал не преследовать его. «Исидор нощию исшед тайно, – рассказывает летописец, – и со учениками своими, с Чернцом Григорием и Афанасием, и побежал с Москвы ко Твери, а изо Твери к Литве, да и к Риму». В Риме он и умер в 1462 г.
С Чудовым монастырем связаны, может быть, наиболее драматичные события в русской истории, когда само существование Руси как самостоятельного, суверенного образования было под угрозой. Это было Смутное время, время разорения, «нестроения» и шатания всей Русской земли, после которого она вышла обновленной, строящейся и укрепляющейся.
Чудов монастырь оказался связанным с судьбой главных действующих лиц драмы Смутного времени: Лжедмитрием I, Василием Шуйским и патриархом Гермогеном, и если для первого Чудов монастырь был только одним из этапов в самом начале его головокружительной карьеры, то для двоих других он стал мрачным свидетелем их либо политической, либо физической смерти.
Было высказано много предположений о происхождении Лжедмитрия. По наиболее вероятному из них, он был сыном галицкого дворянина Богдана Отрепьева, стрелецкого сотника, погибшего в московской Немецкой слободе, вероятно в пьяной драке. Его сын Юрий попал в молодости к боярам Романовым, и, когда царь Борис Годунов обрушил свой гнев и преследования на них, Юрию Отрепьеву пришлось спасать свою жизнь в монастыре – он постригся в монахи под именем Григорий и, пользуясь протекцией, попал в кремлевский Чудов монастырь. Его заступники просили архимандрита, «чтоб его велел взять в монастырь и велел бы ему жити в келье у деда у своего у Замятни».
Знаменитая сцена из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», в которой Пимен произносит:
Долго на московском троне сидеть Григорию Отрепьеву не пришлось. Через десять месяцев в столице вспыхнуло восстание. «17 мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, – рассказывает Н.М. Карамзин, – восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии близ двора гостинаго, и в одно время загремел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь, с копьями, мечами, самопалами».
Лжедмитрий, спасаясь от толпы, выскочил в окно и разбился. Его принесли во дворец и уже там убили. Тело выволокли на Красную площадь и положили на Лобное место, где, как передает современник, «положили ему на брюхо гнусную маску (найденную в комнатах у Марины), дудку в рот, волынку под мышку и медную деньгу в руку, как бы в награду за игру его».
Возглавлял боярский заговор, свергнувший Лжедмитрия I, Василий Иванович Шуйский, «пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов». Его «выкрикнули» царем на Красной площади, и он оставался им четыре бурных года, с 1606 по 1610 г., в государстве, пораженном голодом, сотрясаемом восстаниями, осажденном интервентами.
В середине 1610 г. положение царя Василия стало критическим – его войска потерпели сокрушительное поражение в сражении с польскими войсками под деревней Клушино. С запада к Москве приближался гетман Станислав Жолкевский, с юга – Лжедмитрий II, а в самой Москве раздавались призывы расправиться с правительством. Глава заговорщиков Захар Ляпунов 17 июля 1610 г. собрал у Арбатских ворот дворян и детей боярских и объявил им о необходимости свести Шуйского с престола. После сходки на Красной площади толпа во главе с Ляпуновым отправилась в Кремль, захватила царя Василия и отвела в его городской дом, а вскоре туда, как рассказывает Н.М. Карамзин, «явились Захария Ляпунов, Князь Петр Засекин, несколько сановников с Чудовскими Иноками и Священниками и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая келию надежным преддверием гроба. „Нет! – сказал Василий с твердостью. – Никогда не буду Монахом“… Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слыхали уже ни единого слова от Василия». Его насильно постригли и отвезли в Иосифо-Волоколамский монастырь, а там он попал в руки гетмана Жолкевского, который и увез его в Польшу, предварительно сняв с него иноческое платье, «одев во изрядные ризы» – ведь польскому королю надо было видеть не монаха, а плененного русского царя. Там, в Польше, Шуйский и умер через два года.
В монастырском храме Чуда Михаила Архангела, в глубоких белокаменных подвалах, по преданию, был заключен патриарх Гермоген. Твердый защитник интересов православия, он не шел ни на какие компромиссы. Гермоген требовал крещения Марины Мнишек, чем и вызвал недовольство первого самозванца. Патриарх противился кандидатуре польского королевича Владислава на русский престол и, поддерживая Михаила Романова, выступал против боярских предложений о присяге королю Польши Сигизмунду III.
Основан монастырь был сыном боярина Федора Бяконта, в юности ставшим монахом Богоявленского монастыря, а потом и московским митрополитом Алексием, управлявшим Московским княжеством при малолетнем князе Дмитрии, будущем Донском. Как повествуется в Житии митрополита, в 1357 г. его вызвала к себе в Орду мать хана Джанибека Тайдула, много лет скорбевшая глазами. Всякий вызов в Орду был тревожным – писали завещания, прощались с чадами и домочадцами, служили молебны. Когда митрополит в Успенском соборе совершал молебен перед отъездом, то случилось чудо – у гроба святого митрополита Петра «се от себя сама возгорелась свеча». Митрополит раздал молящимся часть этой свечи, а остальную взял с собой в Орду вместе с освященной водой.
В Орде он был торжественно встречен, введен в царские покои, там совершил молебен, возжег чудесную свечу, окропил глаза царицы святой водой, и… чудо свершилось – Тайдула прозрела. Все получили богатые дары, а митрополиту был подарен ордынский посольский (по другим источникам – конюшенный) двор в Кремле, где он устроил монастырь, а в 1365 г., как повествует летописец, «пресвященный Алексий, митрополит всея Руси, заложи церковь камену во имя святого архангела Михаила, честного его чуда, бывшаго в Хонех» (можно предполагать, что чудесное выздоровление Тайдулы произошло 6 сентября, в день празднования Чуда Архангела Михаила). Но вероятнее всего, что посвящение церкви определялось самим смыслом чуда, совершенного архангелом Михаилом, защитившим христианский храм от пытавшихся разрушить его язычников. Он явился с неба и остановил воды, направленные язычниками на храм, потом прорубил ущелье и увел воды туда. Отсюда название места – Хони, то есть погружение, потому что там воды погрузились в каменное ущелье. Митрополит Алексий этим посвящением подчеркивал значение сохранения православной церкви как оплота Московского государства. Церковь эта «милостию же Божиею и помощию святаго архаггела Михаила единаго лета и почата, и кончана, и священа бысть». Митрополит украсил новую церковь «и подписью, и иконами, и книгами, и златыми сосудами».

Патриарх Адриан
Сам митрополит Алексий скончался в 1378 г. и завещал положить его у алтарей построенной им церкви, но Дмитрий Донской не выполнил его волю и церковь простояла недолго – уже в 1431 г. во время службы «церковный верх… от ветхости весьма обвалился». Старый храм – одноглавый, с покрытием по трем закомарам – разобрали и выстроили новый, а во время подготовки фундамента нашли в земле нетленные мощи митрополита Алексия, которые и доныне сохраняются, но теперь уже не в Кремле, а в церкви Богоявления Господня, что в Елохове.
Новая церковь была меньше первоначальной, «обаче [однако] высока и зело пространна и прекрасна», но и она простояла не так долго. Великий князь Иван III Васильевич в 1501 г. указал разобрать обветшавшую церковь и построить новую. Через два года, в тот же день, 6 сентября, в день празднования Чуда в Хонех, церковь была торжественно освящена. Возможно, что ее, как и строившийся примерно в то же время Архангельский собор, возводили итальянские архитекторы. Считают, что неизвестный архитектор, создавший Чудовский собор, владел приемами итальянского Возрождения с таким же мастерством, как и Алевиз Новый.
Сам храм был очень красивым, его стройный и пропорциональный четверик украшен изящными декоративными элементами, несущими черты как ранней московской архитектуры, так и более поздних исканий. Капитальная «История русского искусства» так отозвалась об этом храме: «Собор Чудова монастыря был одним из тех первых памятников XVI в., в которых с наибольшей полнотой сказались черты новой московской архитектуры… В нем с наибольшим совершенством оказались использованными новые архитектурные формы, сложившиеся в Москве в результате глубоких идейных сдвигов и работы зодчих различных художественных направлений».
Чудовский собор явился образцом для многих русских построек XVI в. Он был красив и внутри – над алтарным престолом обращала на себя внимание резная деревянная позолоченная сень. Это чудесное произведение – «рукоделье раба Божия Петра Ремизова» – датировалось 1641 г.
В Чудовом монастыре находились и другие церкви: так, почти через 100 лет после кончины святого Алексия в основанном им монастыре возвели церковь, освященную во имя его, а строителем был архимандрит Геннадий, который очень почитал святого Алексия. Однажды «вниде ему в ум» почтить святого, и вскоре, около 1485 г., была построена Алексеевская церковь, в которую и были тогда перенесены мощи святого Алексия. В 1680 г. вместо этой церкви архимандрит Адриан, последний перед введением синодального управления всероссийский патриарх, заложил две новые церкви под одной кровлей, одна – во имя святого Алексия, а другая – во имя Благовещения Богородицы. Они соединялись аркой, под которой в серебряной раке покоились мощи святого Алексия, рядом лежал посох его, а за стеклом на стене находилось одеяние. Около Алексеевского храма в 1686 г. построили еще один – Андреевский, возможно по случаю умиротворения Стрелецкого бунта, когда патриарх вынес часть святых мощей апостола Андрея и призвал собравшихся бунтовщиков покориться, что они сделали, поцеловав святыню. Этот храм был, может быть, единственным в России, куда не разрешалось входить женщинам, – прежде в Чудовом монастыре было много монашествующих, все они во время богослужений заполняли церковь, и во избежание совращения неустойчивых к соблазну монахов вход женскому полу был строго воспрещен. Это запрещение по традиции оставалось в силе и до последних дней существования монастыря.
В Алексеевской церкви особенно хорош был иконостас, сделанный из бронзы в 1839 г. по рисунку М.Д. Быковского, а царские двери весом 11 пудов 30 фунтов (185 кг), работы знаменитой ювелирной фирмы Сазикова, сияли серебром. Церковь эта была еще и своеобразным воинским памятником: по указанию Николая I на ее стенах были развешаны трофеи Русско-персидской войны 1826–1828 гг.
В Алексеевскую церковь вело высокое псевдоготическое крыльцо, нелепо приделанное в 1780 г. к двухэтажному монастырскому корпусу по проекту М.Ф. Казакова (как писал путеводитель по Москве 1917 г., «прекрасное монастырское здание обезображено грубым крыльцом quasi-готического стиля»).
Под монастырским храмом Святого Алексия в 1906 г. устроили церковь-усыпальницу убитого террористом великого князя Сергея Александровича, освященную во имя преподобного Сергия Радонежского. Ее украшал замечательной работы резной белокаменный иконостас, иконы для которого написал художник К.П. Степанов. Из такого же белого мрамора изваяли надгробие, стоявшее в центре подземного храма. Там был и небольшой музей древностей, в котором находились ценные вещи из коллекции великого князя: иконы XVI и XVII вв., нательный крест XIV в. в серебряном ковчеге, а также личные вещи его. В храме находились носилки, на которых переносились останки Сергея Александровича, и гренадерская шинель, укрывавшая их.
Автором проекта храма-усыпальницы был архитектор В.П. Загорский, а внутренняя отделка производилась по замыслу и рисункам П.В. Жуковского.

Патриарх Филарет
Монастырь издавна был весьма почитаем – в церкви Чуда Архангела Михаила крестили многих младенцев из царского дома: детей Ивана Грозного, в частности в 1554 г. – царевича Федора, в 1629 г. патриарх Филарет крестил своего внука – будущего царя Алексея Михайловича, а в 1672 г. здесь был крещен и царевич Петр – впоследствии преобразователь России император Петр Великий. В 1818 г. в этой церкви состоялось крещение будущего царя-освободителя Александра II, родившегося неподалеку, в Малом Николаевском дворце.
Чудов монастырь памятен событиями, имевшими большое значение для истории русской церкви. Так, сюда был заключен митрополит Исидор, присланный в Москву из Константинополя в 1437 г. и давший согласие на унию – соединение восточного православия и западного католицизма. Когда митрополит во время церковной службы помянул папу римского, великий князь Василий II возмутился, громогласно назвал его «латинским прелестником» и велел запереть митрополита в Чудовом монастыре. В.О. Ключевский писал: «Если бы великий князь Василий Васильевич не обличал злокозненного врага, сатанина сына грека Исидора, олатынил бы он русскую церковь, исказил бы древнее благочестие, насажденное у нас святым князем Владимиром».
Исидору удалось бежать из монастыря, но великий князь приказал не преследовать его. «Исидор нощию исшед тайно, – рассказывает летописец, – и со учениками своими, с Чернцом Григорием и Афанасием, и побежал с Москвы ко Твери, а изо Твери к Литве, да и к Риму». В Риме он и умер в 1462 г.
С Чудовым монастырем связаны, может быть, наиболее драматичные события в русской истории, когда само существование Руси как самостоятельного, суверенного образования было под угрозой. Это было Смутное время, время разорения, «нестроения» и шатания всей Русской земли, после которого она вышла обновленной, строящейся и укрепляющейся.
Чудов монастырь оказался связанным с судьбой главных действующих лиц драмы Смутного времени: Лжедмитрием I, Василием Шуйским и патриархом Гермогеном, и если для первого Чудов монастырь был только одним из этапов в самом начале его головокружительной карьеры, то для двоих других он стал мрачным свидетелем их либо политической, либо физической смерти.
Было высказано много предположений о происхождении Лжедмитрия. По наиболее вероятному из них, он был сыном галицкого дворянина Богдана Отрепьева, стрелецкого сотника, погибшего в московской Немецкой слободе, вероятно в пьяной драке. Его сын Юрий попал в молодости к боярам Романовым, и, когда царь Борис Годунов обрушил свой гнев и преследования на них, Юрию Отрепьеву пришлось спасать свою жизнь в монастыре – он постригся в монахи под именем Григорий и, пользуясь протекцией, попал в кремлевский Чудов монастырь. Его заступники просили архимандрита, «чтоб его велел взять в монастырь и велел бы ему жити в келье у деда у своего у Замятни».
Знаменитая сцена из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», в которой Пимен произносит:
происходит в келье Чудова монастыря. Григорий, проснувшись, рассказывает летописцу о смутившем его покой сне:
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя… —
Григорий, обуреваемый честолюбивыми помыслами, бежит из Чудова монастыря, попадает в Польшу и оттуда, поддерживаемый поляками, приходит во главе войска в Москву. Он овладевает троном, венчавшись на царство 21 июля 1605 г. в Успенском соборе Кремля.
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался…
Долго на московском троне сидеть Григорию Отрепьеву не пришлось. Через десять месяцев в столице вспыхнуло восстание. «17 мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, – рассказывает Н.М. Карамзин, – восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии близ двора гостинаго, и в одно время загремел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь, с копьями, мечами, самопалами».
Лжедмитрий, спасаясь от толпы, выскочил в окно и разбился. Его принесли во дворец и уже там убили. Тело выволокли на Красную площадь и положили на Лобное место, где, как передает современник, «положили ему на брюхо гнусную маску (найденную в комнатах у Марины), дудку в рот, волынку под мышку и медную деньгу в руку, как бы в награду за игру его».
Возглавлял боярский заговор, свергнувший Лжедмитрия I, Василий Иванович Шуйский, «пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов». Его «выкрикнули» царем на Красной площади, и он оставался им четыре бурных года, с 1606 по 1610 г., в государстве, пораженном голодом, сотрясаемом восстаниями, осажденном интервентами.
В середине 1610 г. положение царя Василия стало критическим – его войска потерпели сокрушительное поражение в сражении с польскими войсками под деревней Клушино. С запада к Москве приближался гетман Станислав Жолкевский, с юга – Лжедмитрий II, а в самой Москве раздавались призывы расправиться с правительством. Глава заговорщиков Захар Ляпунов 17 июля 1610 г. собрал у Арбатских ворот дворян и детей боярских и объявил им о необходимости свести Шуйского с престола. После сходки на Красной площади толпа во главе с Ляпуновым отправилась в Кремль, захватила царя Василия и отвела в его городской дом, а вскоре туда, как рассказывает Н.М. Карамзин, «явились Захария Ляпунов, Князь Петр Засекин, несколько сановников с Чудовскими Иноками и Священниками и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая келию надежным преддверием гроба. „Нет! – сказал Василий с твердостью. – Никогда не буду Монахом“… Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слыхали уже ни единого слова от Василия». Его насильно постригли и отвезли в Иосифо-Волоколамский монастырь, а там он попал в руки гетмана Жолкевского, который и увез его в Польшу, предварительно сняв с него иноческое платье, «одев во изрядные ризы» – ведь польскому королю надо было видеть не монаха, а плененного русского царя. Там, в Польше, Шуйский и умер через два года.
В монастырском храме Чуда Михаила Архангела, в глубоких белокаменных подвалах, по преданию, был заключен патриарх Гермоген. Твердый защитник интересов православия, он не шел ни на какие компромиссы. Гермоген требовал крещения Марины Мнишек, чем и вызвал недовольство первого самозванца. Патриарх противился кандидатуре польского королевича Владислава на русский престол и, поддерживая Михаила Романова, выступал против боярских предложений о присяге королю Польши Сигизмунду III.
