Страница:
И в душе Азефа возникло чувство, какое возникало к боевику, приготовленному для заклания: Азеф любовался «старичиной», любовался почти искренне, если не сказать – совсем искренне, потому что сам Азеф всегда ощущал свои «любования» искренними. Было нечто коварно-женственное в том чувстве, – с каким Азеф наблюдал Лопатина с его мощной статью, походкой чуть враскачку, открытым смехом, общительностью, бодростью, особенной лаской на лице, когда тот говорил с Волховским.
Привходящие обстоятельства заставили поторопиться.
Несмотря на сугубую секретность конференции, газеты тиснули заметки о таинственных сборищах в клубе Этического общества. Детективы Скотланд-ярда околачивались на улице, лезли в сад. Лондонские друзья предупредили Волховского: коль скоро все происходит без ведома британского кабинета, коль скоро Сент-Джемский кабинет в амурах с Зимним дворцом… Словом, надо было разбегаться. И Азеф заторопился, сказал Волховскому, что ему необходимо переговорить наедине с Германом Александровичем. Волховской, подумав, отвечал, что коли так, то пусть Иван Николаевич приходит завтра же в ресторанчик «Лайонс» у Британского музея, пусть приходит к одиннадцати и ждет до половины двенадцатого. Если Герман Александрович не появится… «Хорошо, хорошо», – сказал Азеф.
Азеф заказал портер.
Пришел Лопатин, коротко кивнул (ни разу во все дни конференции он с Азефом не обменялся даже и молчаливым поклоном), сел, положил на стол руки, и Азеф опять заметил, какие у Лопатина сильные запястья.
– Герман Александрович, – начал Азеф, ощущая себя как на проволоке, туго натянутой высоко над землей, – Герман Александрович, позвольте спросить: отчего для меня, бедного, такое исключение?
– Какое? – хмуро сказал Лопатин.
– Вы чрезвычайно общительны, а со мною ни слова. За что сия немилость?
– Сие называется антипатией, – ответил Лопатин и прищурился, в упор разглядывая Азефа.
Азеф усмехнулся очень миролюбиво, вроде бы принимая стариковскую капризность.
– Вы, Герман Александрович, – сказал он, – не из тех, с кем играют в прятки…
– Почему же? – колюче оборвал Лопатин. – Со мною игрывали в бо-ольшие прятки.
Азеф и колючесть принял беззлобно. Тугая проволока легонько подрагивала под ногами. Сорваться он мог, разбиться насмерть не мог. Относительность риска и безотносительность безнаказанности давали смесь, всегда ему желанную.
– В самом начале нашей конференции от вас не скрыли, что среди делегатов есть и сотрудники департамента полиции, – продолжал Азеф, балансируя, как канатоходец.
– А один делегат пытался обратить внимание ваших товарищей на наличие провокации в центре вашей партии, – ответил Лопатин, принимая пробный шар, пущенный «каннибалом».
– Так, – почти весело ответил Азеф. – Но было указание и на провокацию на местах. Помните? Очень даже подозревали московскую девицу, хотя и мандат правильный, и пароли назубок.
– Я б на месте этой девицы, – сказал Лопатин, – удалился. Возникают подозрения – отойди в сторону, пока не распогодится.
Азеф широко осклабился.
– А я этого и хотел, я это и пытался!
– Вы? – непритворно удивился Лопатин.
– Представьте, я, Герман Александрович. Вчера собрался Совет партии. Я говорю: меня подозревают – я ухожу.
– И что же?
– А то, Герман Александрович, что все поочередно высказались: «Пусть останется». Понимаете – все до единого! А как бы вы, именно вы, поступили на моем месте?
Лопатин ответил мгновенно:
– Я никогда не мог бы оказаться на вашем месте. Что ж до вас, именно до вас, то вам, несмотря на единогласное «пусть останется», следовало уйти.
– А я, благодарный за доверие, расцеловал всех своих соратников.
– Знаете, – сказал Лопатин, – был такой эксперимент. Имен называть не станем?
– Конечно, это ж азбука.
– Так вот. Совсем недавно, в Вильне, показывают мне групповую фотографию, одни сидят, другие стоят. Спрашивают: «А что, найдете провокатора?» Не скажу, чтоб в секунду, но… Словом, тычу: «Не этот ли?» Говорят: «А вы еще подумайте»… Ладно, думаю. И опять: «А все ж не этот ли?» Удивились: «Верно. Этот».
– Ясновиденье?
– Да нет. Вполне мог бы и промахнуться. А вот когда вы… Отчего вы, годами знающие друг друга, не умеете разгадать провокатора?
– Случается, что и умеем. Правда, не часто, но иногда умеем.
– Однако… – обронил Лопатин и долго не спускал глаз с Азефа.
– Меня, что ли? – спросил Азеф, не потупившись.
– Почему бы и нет?
 – Да ведь что же высосешь из сплетен маньяка Бурцева? – набычился Азеф. – Мне иногда даже жаль его – дело благое замыслил. Но не за тот кончик потянул. А впрочем, глядишь, чего-нибудь когда-нибудь вытянет… Но тут вот что. Хлебом полицию не корми, дай подпустить: се – провокатор, а не лев. Ну и воцаряется гнетущая подозрительность, разброд и шатанье в публике. И все же, увы: язва провокаторства поедом ест. А я, вы знаете, стоял у колыбели, здоровехонький народился младенец. А теперь… – Он махнул рукой. – Брошюрки писать, газетку редактировать – одно, а когда дело-то боевое… Не мне вам объяснять. Бывает, сам в себе усомнишься. Честное слово! А почему? Я вам искренне: иной раз как подумаешь, ну и выходит, что революция – это провокация, а провокация – это революция. Мы вот недавно были в Выборге, Натансон рассказывал про Нечаева, как Нечаев-то на революционную дорогу ставил. Это что, это как, это куда отнесешь? Со стороны глядя – ах, нехорошо, ах непорядочно. А дорога в колдобинах, дорога в рытвинах, боишься замараться – лежи колодой… – Безобразное лицо Азефа словно бы даже похорошело, озаренное грозным вдохновением. Лопатин, побледнев, теребил широкополую шляпу. Азеф, как бы смягчившись, прибавил печально: – Я читал, не помню где, но очень меткое: террор обнаруживает и глубокую нравственную боль, и глубокую нравственную распущенность. Тут… Как ее? В Древнем-то Риме была? Торпейская скала, что ли? С нее преступников в пропасть сбрасывали, вот я и думаю: все мы на скале Торпейской этой, то мы сбрасываем, то нас сбрасывают… Э, Герман Александрович, Герман Александрович, это ж двадцатый век, такая рулетка пошла, такие комбинации в «красном и черном»…
– Да ведь что же высосешь из сплетен маньяка Бурцева? – набычился Азеф. – Мне иногда даже жаль его – дело благое замыслил. Но не за тот кончик потянул. А впрочем, глядишь, чего-нибудь когда-нибудь вытянет… Но тут вот что. Хлебом полицию не корми, дай подпустить: се – провокатор, а не лев. Ну и воцаряется гнетущая подозрительность, разброд и шатанье в публике. И все же, увы: язва провокаторства поедом ест. А я, вы знаете, стоял у колыбели, здоровехонький народился младенец. А теперь… – Он махнул рукой. – Брошюрки писать, газетку редактировать – одно, а когда дело-то боевое… Не мне вам объяснять. Бывает, сам в себе усомнишься. Честное слово! А почему? Я вам искренне: иной раз как подумаешь, ну и выходит, что революция – это провокация, а провокация – это революция. Мы вот недавно были в Выборге, Натансон рассказывал про Нечаева, как Нечаев-то на революционную дорогу ставил. Это что, это как, это куда отнесешь? Со стороны глядя – ах, нехорошо, ах непорядочно. А дорога в колдобинах, дорога в рытвинах, боишься замараться – лежи колодой… – Безобразное лицо Азефа словно бы даже похорошело, озаренное грозным вдохновением. Лопатин, побледнев, теребил широкополую шляпу. Азеф, как бы смягчившись, прибавил печально: – Я читал, не помню где, но очень меткое: террор обнаруживает и глубокую нравственную боль, и глубокую нравственную распущенность. Тут… Как ее? В Древнем-то Риме была? Торпейская скала, что ли? С нее преступников в пропасть сбрасывали, вот я и думаю: все мы на скале Торпейской этой, то мы сбрасываем, то нас сбрасывают… Э, Герман Александрович, Герман Александрович, это ж двадцатый век, такая рулетка пошла, такие комбинации в «красном и черном»…
Он несся по натянутой проволоке, почти не балансируя, и подавленность Лопатина, молчание Лопатина, эти его сильные, с широкими запястьями руки, мнущие шляпу, были Азефу наградой упоительной, едкой и сладостной, и он уже был убежден, что «старичина» ужаснулся бездне, это ж тебе не Шлиссельбург, это ж все коту под хвост, хочешь – изобличай, хочешь – не изобличай, а все коту под хвост, и шабаш.
Азеф поднял кружку и, ощущая необыкновенную жажду, положив на край кружки вислую нижнюю губу, а верхней шевеля и причмокивая, с наслаждением тянул холодный вкусный портер. Весь еще в напряжении, он не сразу понял, отчего в какой-то миг вдруг и возникли где-то под ложечкой и тяжесть, и пустота, нет, не сразу понял, а только неприятно удивился голосу «старичины» – сухому, будничному и, кажется, даже скучающему.
– Отвечу по пунктам, хотя вы и вещали темно и сбивчиво, как оракул, – говорил Лопатин, оставив в покое шляпу и откинувшись к спинке стула. – Провокаторов большей частью не распознают потому, что те, кому это следовало бы делать, похожи на врачей, не думающих о тайне каждого организма, а лишь озабоченных выпиской рецепта. Рецепта, пригодного «вообще», ибо они заняты политикой «вообще». К человеку же «не вообще» они не восприимчивы, тут род презрения. Второе. Согласен – язва провокаторства. Но почему и откуда? Вы – заговорщик, ваша БО – заговорщицкая. А заговорщики без мундиров и заговорщики в мундирах, то бишь тайная полиция, поглощены шпионством, переплетены тесно. От заговорщика безмундирного до платного агента – скачок воробьиный. Особливо под угрозой тюрьмы или виселицы. Ну и при посулах денежных и прочих. Но язва-то, нет, гангрена, так вернее, гангрена есть следствие двух причин. Режим в России старческий, авантюризм в политике, авантюризм в придворной сфере, спекуляции, шантаж. Не машина даже, а просто-напросто сифилитическая развалина, вонючка, обреченная выгребной яме, но пока еще испускающая миазмы. Теперь другое. Заговор и заговорщики – отменный бульон для плесени. Кто ж не знает, что в потемках жульничать сподручнее? Вы поминали Нечаева. Я его знавал, мы были врагами, да вот первый брошу камень в того, кто зачислит Нечаева в провокаторы. Но он оставил трупный яд: беспардонное распоряжение чужими судьбами.
Говорил Лопатин буднично, спокойно, даже, кажется, скучающе, и по мере того, как он это говорил, Азеф утрачивал самое дорогое – сознание своей единственности.
– Ну а теперь, – сказал Лопатин уже не буднично, а презрительно, – вернемся к нашим баранам. Вернее, к свиньям… Есть, видите ли, люди с патологической охотой играть роль гениев зла. А вот французские полицейские, представьте, так определяют тех, кто служит и нашим и вашим: свинья, которая разом жрет из двух корыт. Только и всего, Азеф, только и всего: свинья.
В ресторанчике «Лайонс» сухо стучал кассовый аппарат. Сыром пахло, жаренным на сухарях, и портером. Закусывали в ресторанчике клерки, конторские барышни.
– Только и всего? – тоскливо переспросил Азеф.
Что-то похожее случилось в Петербурге, Катя и Бруно притащили к врачу. Врач выслушал, врач выстукал, эдакий дятел: «Угу-угу, вроде бы визитной карточки паралича». – «Доктор, – взмолился Бруно, – объясните, пожалуйста, Герману Александровичу, нельзя же так: на пятый этаж – не переводя духа!» – «Угу-угу, на пятый, угу-угу, нельзя… Характер, батенька, от такого характера не излечишь»…
Линолеум блестел, как лед, хотелось лечь, и не было сил подняться с кресла, одолеть страх перед этим линолеумом, натертым воском.
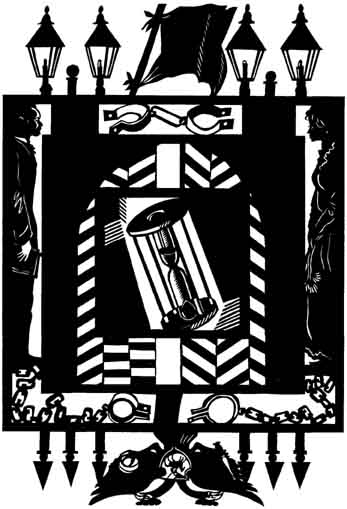
В больнице почти не топили. Стужа костенила огромный город. Лопатин умирал в больнице на Архиерейской, неподалеку от Петропавловской крепости. Ее шпиль очертил, как циркуль, круг жизни.
Умирая, он слышал грохот. Накатывало с Выборгской, мотор и броня. Накатило и опрокинуло Медного всадника. И вот уже над огромным городом трубило семь труб. А рядом, на Архиерейской, раздавалась пальба – в белой метели шел черный патруль: «Трах-тах-тах…»
– Что с тобой?! – вскрикнул Волховской, бледнея.
– А что со мной? – переспросил Лопатин и, как умываясь, провел ладонями по лицу. – Малость вздремнул.
Волховской недоверчиво покачал головой.
– Вот, – сказал он, – получил. Ты, значит, дал Бурцеву мой адрес?
– Чей же еще, – рассеянно ответил Лопатин, впиваясь в телеграмму: «Последний гвоздь вбит. Жду. Львович».
Нет, они не торжествовали. Ни Лопатин, ни Волховской.
– И эти слюнявые поцелуи, когда решено было: не уходи, Иван Николаевич, оставайся с нами, мы верим… – Волховской натянуто усмехнулся. – А ты видел, как он привечал одного из делегатов? Обратил внимание? Ну как же, как же… Мужик мужиком, позже всех из Расеюшки добрался, на подобных собраниях, видать, не бывал, ну, потерялся, ну, озирается, а каждый в спорах-разговорах, не до него. И только Азеф – вникни! вникни! – только он и занялся беднягой – отыскал местечко, усадил, потом в буфет повел, бутербродами кормил.
– Эдакие, – кивнул Лопатин, – предупредительны к «простым людям». Понять дают: а вы-де, образованные лимоны, коли и написали брошюрки, не командуйте, высосем да выбросим. Эдаким штучкам «не ндравятся феории».
– У Азефа, кажись, лишь одна в наличии: не вносите революцию в массы.
– А как же! Я ему давеча: в потемках жульничать сподручнее.
Они помолчали, наблюдая, как на улице чередою зажигались газовые фонари.
– И теперь ты?
– Да, – сказал Лопатин.
Волховской, собственно, и без «да» знал, что Герман поедет в Париж и доведет до конца «дело Азефа». О, нечего и говорить: эсеровские цекисты не тотчас спустят флаг, драка будет нешуточная, ведь это для них не конфуз, а крах.
– Можешь не сомневаться, с двухкорытным будет покончено.
– Да вот с двухкорытностью едва ли… – вздохнул Волховской. – Твоего «крестника» Нечаева давным-давно нет на белом свете… – Не в параллель Азефу помянул он Нечаева, а как бы подчеркивая, что иксы-игреки приходят-уходят, а явление-то остается, меняет оттенки, грим меняет, но, увы, остается.
– Есть умники, – сказал Лопатин, – утверждают, будто матушке-истории безразлично, какими средствами совершается то-то или то-то, ей важно лишь, что́ совершается. Ни Маркс, ни Энгельс не были учеными сухарями, а потому и не страдали беспечностью насчет средств. И если я теперь самозачисляюсь в юрисконсульты бурцевских разысканий, то я посильно исполняю их заветы. А занятие, ты понимаешь, не из веселых. Невелика радость положить остаток жизни на тех свиней, что вышли из человека. Вышли-то они вышли, ан нет-нет и возвращаются, вот какая, брат, штука.
– «Невеселое занятие», – задумчиво повторил Волховской. – Гм, «невеселое»? Ужасное, это ж в клоаке… А тебе уж не тридцать. Ты думаешь, я не заметил? Ну, когда пришел, думаешь, не заметил? Не ет, брат, сообразил, что тут с тобой творилось.
– Пустяки. Вздремнул малость.
– Это ты кому-нибудь другому очки втирай. – Волховской помолчал. Потом сказал: – Я слышал, шлюшинцы за мемуары взялись.
– Те-те-те, – улыбнулся Лопатин, – вот ты куда гнешь.
– А почему бы и нет? Ведь кто, как не ты, может и должен?
– Послушай, Феликс, я без шуток. Даю тебе честное слово, у меня нет и не будет ни малейшего желания занимать публику своей персоной.
– Верю, Герман. Верю и сожалею… И вот что на уме. Знаешь, я читал: на последней войне с турками, когда в Болгарию вошли, был доброволец, ни на кого не похожий, студент, кажется. Так он что же? Он собственным почином взялся в военном лагере нужники чистить, чтоб эпидемия не возникла. Гляжу на тебя и думаю: не ты ли этот доброволец?
– Ничего не скажешь, – усмехнулся Лопатин, – ароматная аналогия. Но, пожалуй, верная. Стало быть, благословясь, начнем.
Было уже поздно. Они закусили, напились чаю.
– Проводишь до подземки? – спросил Волховской.
– Ночуй здесь. Ночуй, как бывало. А завтра зайдем к тебе: позычу на дорогу пару белья. Так тоже бывало.
Волховской рассмеялся, молодо блестя глазами, ероша серебряные, с легкой синевою волосы.
– Эх, Герман, походный ты человек.
Я поклонник детективного жанра, но мне неохота снимать с полки документы о «двухкорытных свиньях».
В Кави жил писатель Амфитеатров. Огромный, черный, грузный, он работал как вол; говорили о нем: вот-де «писатель без выдумки», в ту пору это считалось вторым сортом, а теперь считается документализмом. В устной же речи был Амфитеатров, по одним свидетельствам, живописен и остроумен, по другим – тяжел и тускл. Впрочем, важно то, что в семействе Амфитеатровых, щедрых, как воры (эдак Лопатин над ними трунил), его принимали с радостью.
На вилле, а сказать попросту – в большом деревянном доме с верандами, Герман Александрович занимал комнату балконом и окнами в сад; сквозь деревья проглядывала тяжелая синь южного моря. В комнате, набитой книгами, был мозаичный плиточный пол, что почему-то очень нравилось Герману Александровичу.
Вообще многое тут пришлось ему по сердцу. И остро кремнистая дорога в ближайший городок, и сам городок с облупившимися домиками, увитыми виноградными лозами, и деревенская траттория, грубо размалеванная ангелами и голубками, и этот мыс в брызгах прибоя. Лопатин плавал далеко, испытывая, как в молодости, веселую и опасную тягу к горизонту.
И все же блистающий воздух, лимонные и оливковые рощи, маслянистая синь волн, вся эта праздничная картинность временами навевала неясное томление, переходящее в глухую тоску.
Он искал исцеленья в горах. Подъем на высоту дарил внутреннюю свободу. Отдыхая, Лопатин смотрел на откатившееся море. Отсюда, с высоты, казалось оно выпуклым и уже не густой синевы, а дымчато-лунным. Увы, приходилось начинать спуск, и счастье внутренней свободы, возможное только на вершинах, утрачивалось.
Поздней осенью высоко в горах Лопатина застигла метель. Где-то в стороне звонил колокол, указывая местоположение монастырской обители. Но Лопатин не хотел избавления от этих тяжелых слепящих вихрей, от бьющего в ноздри резкого и свежего запаха белых мятущихся хлопьев. Отирая рукавом лицо и бороду, он затаился в невнятном, радостно-тревожном предчувствии. И не то чтобы вспомнилось, а наяву открылось: и кружок латунного солнца в минуту шлиссельбургского испуга перед крутой переменой жизни, и месяц-серп в окошке холодной мансарды, перекатные сугробы в степи, мгла ревущего порога, рокот большого города… И все это слилось с неизъяснимым счастьем внутренней свободы – пора домой.
В лесу близ пруда черные птицы кричат: «Ой, ду-ду, дуду, дуду…» Никакой мистики, и вы, надеюсь, поняли это по мере чтения моих писем.
Но Лопатин, я знаю, Лопатин возвращается.
Привходящие обстоятельства заставили поторопиться.
Несмотря на сугубую секретность конференции, газеты тиснули заметки о таинственных сборищах в клубе Этического общества. Детективы Скотланд-ярда околачивались на улице, лезли в сад. Лондонские друзья предупредили Волховского: коль скоро все происходит без ведома британского кабинета, коль скоро Сент-Джемский кабинет в амурах с Зимним дворцом… Словом, надо было разбегаться. И Азеф заторопился, сказал Волховскому, что ему необходимо переговорить наедине с Германом Александровичем. Волховской, подумав, отвечал, что коли так, то пусть Иван Николаевич приходит завтра же в ресторанчик «Лайонс» у Британского музея, пусть приходит к одиннадцати и ждет до половины двенадцатого. Если Герман Александрович не появится… «Хорошо, хорошо», – сказал Азеф.
* * *
В ресторанчике «Лайонс» сухо пощелкивал кассовый аппарат. Пахло в ресторанчике «Лайонс» сыром, жаренным на сухарях, и пивом.Азеф заказал портер.
Пришел Лопатин, коротко кивнул (ни разу во все дни конференции он с Азефом не обменялся даже и молчаливым поклоном), сел, положил на стол руки, и Азеф опять заметил, какие у Лопатина сильные запястья.
– Герман Александрович, – начал Азеф, ощущая себя как на проволоке, туго натянутой высоко над землей, – Герман Александрович, позвольте спросить: отчего для меня, бедного, такое исключение?
– Какое? – хмуро сказал Лопатин.
– Вы чрезвычайно общительны, а со мною ни слова. За что сия немилость?
– Сие называется антипатией, – ответил Лопатин и прищурился, в упор разглядывая Азефа.
Азеф усмехнулся очень миролюбиво, вроде бы принимая стариковскую капризность.
– Вы, Герман Александрович, – сказал он, – не из тех, с кем играют в прятки…
– Почему же? – колюче оборвал Лопатин. – Со мною игрывали в бо-ольшие прятки.
Азеф и колючесть принял беззлобно. Тугая проволока легонько подрагивала под ногами. Сорваться он мог, разбиться насмерть не мог. Относительность риска и безотносительность безнаказанности давали смесь, всегда ему желанную.
– В самом начале нашей конференции от вас не скрыли, что среди делегатов есть и сотрудники департамента полиции, – продолжал Азеф, балансируя, как канатоходец.
– А один делегат пытался обратить внимание ваших товарищей на наличие провокации в центре вашей партии, – ответил Лопатин, принимая пробный шар, пущенный «каннибалом».
– Так, – почти весело ответил Азеф. – Но было указание и на провокацию на местах. Помните? Очень даже подозревали московскую девицу, хотя и мандат правильный, и пароли назубок.
– Я б на месте этой девицы, – сказал Лопатин, – удалился. Возникают подозрения – отойди в сторону, пока не распогодится.
Азеф широко осклабился.
– А я этого и хотел, я это и пытался!
– Вы? – непритворно удивился Лопатин.
– Представьте, я, Герман Александрович. Вчера собрался Совет партии. Я говорю: меня подозревают – я ухожу.
– И что же?
– А то, Герман Александрович, что все поочередно высказались: «Пусть останется». Понимаете – все до единого! А как бы вы, именно вы, поступили на моем месте?
Лопатин ответил мгновенно:
– Я никогда не мог бы оказаться на вашем месте. Что ж до вас, именно до вас, то вам, несмотря на единогласное «пусть останется», следовало уйти.
– А я, благодарный за доверие, расцеловал всех своих соратников.
– Знаете, – сказал Лопатин, – был такой эксперимент. Имен называть не станем?
– Конечно, это ж азбука.
– Так вот. Совсем недавно, в Вильне, показывают мне групповую фотографию, одни сидят, другие стоят. Спрашивают: «А что, найдете провокатора?» Не скажу, чтоб в секунду, но… Словом, тычу: «Не этот ли?» Говорят: «А вы еще подумайте»… Ладно, думаю. И опять: «А все ж не этот ли?» Удивились: «Верно. Этот».
– Ясновиденье?
– Да нет. Вполне мог бы и промахнуться. А вот когда вы… Отчего вы, годами знающие друг друга, не умеете разгадать провокатора?
– Случается, что и умеем. Правда, не часто, но иногда умеем.
– Однако… – обронил Лопатин и долго не спускал глаз с Азефа.
– Меня, что ли? – спросил Азеф, не потупившись.
– Почему бы и нет?

Он несся по натянутой проволоке, почти не балансируя, и подавленность Лопатина, молчание Лопатина, эти его сильные, с широкими запястьями руки, мнущие шляпу, были Азефу наградой упоительной, едкой и сладостной, и он уже был убежден, что «старичина» ужаснулся бездне, это ж тебе не Шлиссельбург, это ж все коту под хвост, хочешь – изобличай, хочешь – не изобличай, а все коту под хвост, и шабаш.
Азеф поднял кружку и, ощущая необыкновенную жажду, положив на край кружки вислую нижнюю губу, а верхней шевеля и причмокивая, с наслаждением тянул холодный вкусный портер. Весь еще в напряжении, он не сразу понял, отчего в какой-то миг вдруг и возникли где-то под ложечкой и тяжесть, и пустота, нет, не сразу понял, а только неприятно удивился голосу «старичины» – сухому, будничному и, кажется, даже скучающему.
– Отвечу по пунктам, хотя вы и вещали темно и сбивчиво, как оракул, – говорил Лопатин, оставив в покое шляпу и откинувшись к спинке стула. – Провокаторов большей частью не распознают потому, что те, кому это следовало бы делать, похожи на врачей, не думающих о тайне каждого организма, а лишь озабоченных выпиской рецепта. Рецепта, пригодного «вообще», ибо они заняты политикой «вообще». К человеку же «не вообще» они не восприимчивы, тут род презрения. Второе. Согласен – язва провокаторства. Но почему и откуда? Вы – заговорщик, ваша БО – заговорщицкая. А заговорщики без мундиров и заговорщики в мундирах, то бишь тайная полиция, поглощены шпионством, переплетены тесно. От заговорщика безмундирного до платного агента – скачок воробьиный. Особливо под угрозой тюрьмы или виселицы. Ну и при посулах денежных и прочих. Но язва-то, нет, гангрена, так вернее, гангрена есть следствие двух причин. Режим в России старческий, авантюризм в политике, авантюризм в придворной сфере, спекуляции, шантаж. Не машина даже, а просто-напросто сифилитическая развалина, вонючка, обреченная выгребной яме, но пока еще испускающая миазмы. Теперь другое. Заговор и заговорщики – отменный бульон для плесени. Кто ж не знает, что в потемках жульничать сподручнее? Вы поминали Нечаева. Я его знавал, мы были врагами, да вот первый брошу камень в того, кто зачислит Нечаева в провокаторы. Но он оставил трупный яд: беспардонное распоряжение чужими судьбами.
Говорил Лопатин буднично, спокойно, даже, кажется, скучающе, и по мере того, как он это говорил, Азеф утрачивал самое дорогое – сознание своей единственности.
– Ну а теперь, – сказал Лопатин уже не буднично, а презрительно, – вернемся к нашим баранам. Вернее, к свиньям… Есть, видите ли, люди с патологической охотой играть роль гениев зла. А вот французские полицейские, представьте, так определяют тех, кто служит и нашим и вашим: свинья, которая разом жрет из двух корыт. Только и всего, Азеф, только и всего: свинья.
В ресторанчике «Лайонс» сухо стучал кассовый аппарат. Сыром пахло, жаренным на сухарях, и портером. Закусывали в ресторанчике клерки, конторские барышни.
– Только и всего? – тоскливо переспросил Азеф.
* * *
Пока ехал подземкой, а потом шел, пока был в движенье, владело Лопатиным усталое, печальное спокойствие. Но вот эта светлая комната в тихом и чистом коттедже, белеет фаянсовый умывальник и розовеет ворох полотенец, а из длинных ящиков, подвешенных за распахнутыми окнами, меланхолически кивают ромашки, маргаритки, анютины глазки. Вот он вернулся, и едва ключ щелкнул в скважине, как сухо защелкал кассовый аппарат, сыром запахло и портером, вислая губа, словно б отдельно, независимо от лица, пришлепнулась к пивной кружке – чадно и душно сделалось Герману Александровичу, чувствуя позыв к рвоте, сел он в кресло, растерянный, недоумевающий, испуганный…Что-то похожее случилось в Петербурге, Катя и Бруно притащили к врачу. Врач выслушал, врач выстукал, эдакий дятел: «Угу-угу, вроде бы визитной карточки паралича». – «Доктор, – взмолился Бруно, – объясните, пожалуйста, Герману Александровичу, нельзя же так: на пятый этаж – не переводя духа!» – «Угу-угу, на пятый, угу-угу, нельзя… Характер, батенька, от такого характера не излечишь»…
Линолеум блестел, как лед, хотелось лечь, и не было сил подняться с кресла, одолеть страх перед этим линолеумом, натертым воском.
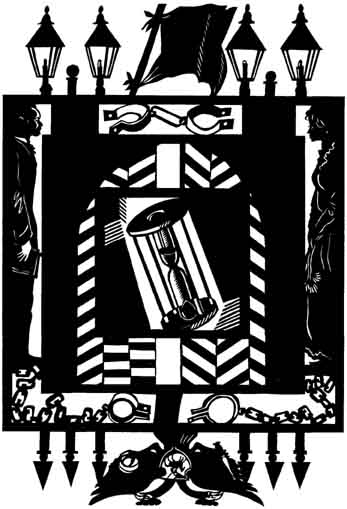
* * *
Его положили в десятую палату второго терапевтического отделения. Он знал, что теперь уж не вытянет. И сожалел о пуле. В счастливейший день, в долгожданный день рождения Российской республики, прошлогодний, – он был среди рабочих и солдат, под огнем из винтовок и пулеметов, – вот тогда-то и надо было умереть.В больнице почти не топили. Стужа костенила огромный город. Лопатин умирал в больнице на Архиерейской, неподалеку от Петропавловской крепости. Ее шпиль очертил, как циркуль, круг жизни.
Умирая, он слышал грохот. Накатывало с Выборгской, мотор и броня. Накатило и опрокинуло Медного всадника. И вот уже над огромным городом трубило семь труб. А рядом, на Архиерейской, раздавалась пальба – в белой метели шел черный патруль: «Трах-тах-тах…»
* * *
Но все это потом, в декабре восемнадцатого.* * *
Трах-тах-тах – гремел дверной молоток.– Что с тобой?! – вскрикнул Волховской, бледнея.
– А что со мной? – переспросил Лопатин и, как умываясь, провел ладонями по лицу. – Малость вздремнул.
Волховской недоверчиво покачал головой.
– Вот, – сказал он, – получил. Ты, значит, дал Бурцеву мой адрес?
– Чей же еще, – рассеянно ответил Лопатин, впиваясь в телеграмму: «Последний гвоздь вбит. Жду. Львович».
Нет, они не торжествовали. Ни Лопатин, ни Волховской.
– И эти слюнявые поцелуи, когда решено было: не уходи, Иван Николаевич, оставайся с нами, мы верим… – Волховской натянуто усмехнулся. – А ты видел, как он привечал одного из делегатов? Обратил внимание? Ну как же, как же… Мужик мужиком, позже всех из Расеюшки добрался, на подобных собраниях, видать, не бывал, ну, потерялся, ну, озирается, а каждый в спорах-разговорах, не до него. И только Азеф – вникни! вникни! – только он и занялся беднягой – отыскал местечко, усадил, потом в буфет повел, бутербродами кормил.
– Эдакие, – кивнул Лопатин, – предупредительны к «простым людям». Понять дают: а вы-де, образованные лимоны, коли и написали брошюрки, не командуйте, высосем да выбросим. Эдаким штучкам «не ндравятся феории».
– У Азефа, кажись, лишь одна в наличии: не вносите революцию в массы.
– А как же! Я ему давеча: в потемках жульничать сподручнее.
Они помолчали, наблюдая, как на улице чередою зажигались газовые фонари.
– И теперь ты?
– Да, – сказал Лопатин.
Волховской, собственно, и без «да» знал, что Герман поедет в Париж и доведет до конца «дело Азефа». О, нечего и говорить: эсеровские цекисты не тотчас спустят флаг, драка будет нешуточная, ведь это для них не конфуз, а крах.
– Можешь не сомневаться, с двухкорытным будет покончено.
– Да вот с двухкорытностью едва ли… – вздохнул Волховской. – Твоего «крестника» Нечаева давным-давно нет на белом свете… – Не в параллель Азефу помянул он Нечаева, а как бы подчеркивая, что иксы-игреки приходят-уходят, а явление-то остается, меняет оттенки, грим меняет, но, увы, остается.
– Есть умники, – сказал Лопатин, – утверждают, будто матушке-истории безразлично, какими средствами совершается то-то или то-то, ей важно лишь, что́ совершается. Ни Маркс, ни Энгельс не были учеными сухарями, а потому и не страдали беспечностью насчет средств. И если я теперь самозачисляюсь в юрисконсульты бурцевских разысканий, то я посильно исполняю их заветы. А занятие, ты понимаешь, не из веселых. Невелика радость положить остаток жизни на тех свиней, что вышли из человека. Вышли-то они вышли, ан нет-нет и возвращаются, вот какая, брат, штука.
– «Невеселое занятие», – задумчиво повторил Волховской. – Гм, «невеселое»? Ужасное, это ж в клоаке… А тебе уж не тридцать. Ты думаешь, я не заметил? Ну, когда пришел, думаешь, не заметил? Не ет, брат, сообразил, что тут с тобой творилось.
– Пустяки. Вздремнул малость.
– Это ты кому-нибудь другому очки втирай. – Волховской помолчал. Потом сказал: – Я слышал, шлюшинцы за мемуары взялись.
– Те-те-те, – улыбнулся Лопатин, – вот ты куда гнешь.
– А почему бы и нет? Ведь кто, как не ты, может и должен?
– Послушай, Феликс, я без шуток. Даю тебе честное слово, у меня нет и не будет ни малейшего желания занимать публику своей персоной.
– Верю, Герман. Верю и сожалею… И вот что на уме. Знаешь, я читал: на последней войне с турками, когда в Болгарию вошли, был доброволец, ни на кого не похожий, студент, кажется. Так он что же? Он собственным почином взялся в военном лагере нужники чистить, чтоб эпидемия не возникла. Гляжу на тебя и думаю: не ты ли этот доброволец?
– Ничего не скажешь, – усмехнулся Лопатин, – ароматная аналогия. Но, пожалуй, верная. Стало быть, благословясь, начнем.
Было уже поздно. Они закусили, напились чаю.
– Проводишь до подземки? – спросил Волховской.
– Ночуй здесь. Ночуй, как бывало. А завтра зайдем к тебе: позычу на дорогу пару белья. Так тоже бывало.
Волховской рассмеялся, молодо блестя глазами, ероша серебряные, с легкой синевою волосы.
– Эх, Герман, походный ты человек.
* * *
Его штаб-квартира была в Париже, там, где поселялся Бурцев, – на окраинной, невзрачной улице Люнен и на тесной улице Сен-Жак, с ее старинными букинистическими лавками. Год за годом Лопатин «вывозил нечистоты». Тайны Герасимовых и азефов вызывали тошноту и удушье.Я поклонник детективного жанра, но мне неохота снимать с полки документы о «двухкорытных свиньях».
* * *
Изнемогая в клоаках, Лопатин отправлялся на юг, на Итальянскую Ривьеру. Уединенное местечко на берегу Генуэзского залива называлось Кави.В Кави жил писатель Амфитеатров. Огромный, черный, грузный, он работал как вол; говорили о нем: вот-де «писатель без выдумки», в ту пору это считалось вторым сортом, а теперь считается документализмом. В устной же речи был Амфитеатров, по одним свидетельствам, живописен и остроумен, по другим – тяжел и тускл. Впрочем, важно то, что в семействе Амфитеатровых, щедрых, как воры (эдак Лопатин над ними трунил), его принимали с радостью.
На вилле, а сказать попросту – в большом деревянном доме с верандами, Герман Александрович занимал комнату балконом и окнами в сад; сквозь деревья проглядывала тяжелая синь южного моря. В комнате, набитой книгами, был мозаичный плиточный пол, что почему-то очень нравилось Герману Александровичу.
Вообще многое тут пришлось ему по сердцу. И остро кремнистая дорога в ближайший городок, и сам городок с облупившимися домиками, увитыми виноградными лозами, и деревенская траттория, грубо размалеванная ангелами и голубками, и этот мыс в брызгах прибоя. Лопатин плавал далеко, испытывая, как в молодости, веселую и опасную тягу к горизонту.
И все же блистающий воздух, лимонные и оливковые рощи, маслянистая синь волн, вся эта праздничная картинность временами навевала неясное томление, переходящее в глухую тоску.
Он искал исцеленья в горах. Подъем на высоту дарил внутреннюю свободу. Отдыхая, Лопатин смотрел на откатившееся море. Отсюда, с высоты, казалось оно выпуклым и уже не густой синевы, а дымчато-лунным. Увы, приходилось начинать спуск, и счастье внутренней свободы, возможное только на вершинах, утрачивалось.
Поздней осенью высоко в горах Лопатина застигла метель. Где-то в стороне звонил колокол, указывая местоположение монастырской обители. Но Лопатин не хотел избавления от этих тяжелых слепящих вихрей, от бьющего в ноздри резкого и свежего запаха белых мятущихся хлопьев. Отирая рукавом лицо и бороду, он затаился в невнятном, радостно-тревожном предчувствии. И не то чтобы вспомнилось, а наяву открылось: и кружок латунного солнца в минуту шлиссельбургского испуга перед крутой переменой жизни, и месяц-серп в окошке холодной мансарды, перекатные сугробы в степи, мгла ревущего порога, рокот большого города… И все это слилось с неизъяснимым счастьем внутренней свободы – пора домой.
* * *
У нас, на Соломенной сторожке, вчера страшная метель была, нынче, правда, утихло, легонько вьюжит, но старики предрекают, что метель еще ударит, и, может, похлеще давешней.В лесу близ пруда черные птицы кричат: «Ой, ду-ду, дуду, дуду…» Никакой мистики, и вы, надеюсь, поняли это по мере чтения моих писем.
Но Лопатин, я знаю, Лопатин возвращается.
