Страница:
Рамамурти умолк, тяжело дыша от волнения. Молчал и его учитель.
Вдруг Даярам опустился к ногам Витаркананды и с наивной мольбой поднял глаза к его доброму лицу.
– Учитель, я знаю, ты можешь многое, о чем никогда не говоришь мне. Я видел, как без единого слова ты заставил полубезумного человека из Сринагара забыть утрату любимой матери. Видел, как по приказу твоих глаз вор на дороге раскаялся и пополз, вопя о своих злодеяниях. Здесь мне рассказывали…
– Что же ты хочешь? – перебил Витаркананда.
– Шастри, заставь меня забыть ее, забыть все, снова сделаться тем же веселым и простым художником, каким я пришел к тебе когда-то. Я готов остаться навсегда здесь, у подножия царства света, вдали от мира и жизни!
Художник прочитал непреклонный отказ в добрых и печальных глазах учителя.
– Ты не хочешь? – воскликнул Рамамурти.
– Может быть, я сделал бы это для земледельца из нижней деревни… нет, и для него тоже нет!
– Учитель! Почему?
– Разве ты забыл, что сам строишь свою Карму, сам медленно и упорно восходишь по бесконечным ступеням совершенствования? Сама, только сама душа отвечает за себя на этом пути, от которого не свободен ни один атом в мире. О великий путь совершенствования! Знаешь ли ты, как медленно и мучительно, в неисчислимых поколениях безобразных чудовищ, пожирателей тины и падали, в тупых, жвачных, яростных и вечно голодных хищниках проходила материя кальпу за кальпой, чтобы обогатиться духом, приобрести знание и власть над слепыми силами природы – Шакти. В этом потоке, как капли в Ганге, и мы с тобой и все сущее.
Витаркананда поднял руки к горам, как бы сгоняя их воедино широким жестом.
– Еще бесконечно много косной, мертвой материи во вселенной. Крохотными ключами и ручейками текут повсюду отдельные Кармы: на Земле, на планетах бесчисленных звезд. Эти мелкие капли мысли, воли, совершенствования, ручейки духа стекают в огромный океан мировой души. Все выше становится его уровень, все неизмеримее – глубина, и прибой этого океана достигнет самых далеких звезд!
У тебя, Даярам, крепка еще повязка Майи на очах души, но ты видишь, что Карма позволила тебе жить чисто и добро, несмотря на все путы Майи. Разве можно вынуть что-нибудь из твоей груди насильно? Разве то, что останется, будет – ты, а изменение – твоим восхождением? Зачем же это, сын мой?
Витаркананда погладил склоненную голову молодого художника, и от этого прикосновения как будто легче стала безысходная правда его слов. Пришел мальчик-послушник.
Витаркананда взял у него высокий медный кувшин, поставил на него плоскую чашку, в которую положил горящий уголь из жаровни.
– Строение человеческой души давно известно мудрецам Индии и выражено формулой: «Ом мани падме хум» – жемчужина в цветке лотоса: вот лотос – это чаша с драгоценным огнем души, – гуру бросил на уголь щепотку каких-то зерен.
Вспышка ароматного дыма поднялась из чаши и растворилась в воздухе.
– Так, – продолжал учитель, – рождаются, вспыхивают и возносятся вверх, исчезая, высокие помыслы, благородные стремления, вызванные огнем души. А внизу, под лотосом, в медном кувшине, глубокое и темное основание души – видишь, как расширяется оно вниз и как крепко прильнуло своим дном к земле. Такова душа – твоя и всякого человека, видишь, как мелка чаша лотоса и как глубок кувшин. Из этого древнего основания идут все неясные помыслы, инстинкты и бессознательные реакции, выработанные миллионами лет слепого совершенствования звериной души. Чем сильнее огонь в чаше, тем скорее он очищает и переплавляет эти древние глубины. Но все в мире имеет две стороны: сильный огонь бывает в сильном теле, в котором могучи древние зовы души. И если Карма не углубила чашу лотоса так, – Витаркананда приложил ладони ребром к краям чашки, – тогда из глубины кувшина может подняться порой столь неожиданное и сильное, что огонь не может его переплавить и даже угасает сам. Ты, Даярам, сильный, с горячим огнем в чаше лотоса, но крепко связан с древними основами жизни. Плотно закутан ты в покрывало Майи и оттого так остро и ярко чувствуешь все изгибы, все краски этого покрывала.
Витаркананда остановился. Даярам затаив дыхание старался не упустить ни одного слова. Ему казалось, что старый ученый простыми мазками с немыслимой прозорливостью пишет картину души его, Даярама.
– Ты рассказал о своем образе Парамрати, – продолжал профессор, – и мне стало ясно, что ты полностью в Майе. Красота и ревность – они обе из древней души, отсюда, – гуру постучал по кувшину, издавшему глухой медный звук, – но красота способствует восхождению, а ревность – нисхождению.
Каждая черта и каждая линия твоего идеала оказывается очерченной заранее, имеет строгое назначение и безошибочно угадывается древним инстинктом – яунвритти. В давние времена сила Рати и Камы, или, по-европейски, Астарты и Эроса, была гораздо больше. Есть закон, ныне забытый: чем сильнее страсть родителей, тем красивее и здоровее дети. У кого из сочетающихся страсть сильнее, того пола и будет ребенок.
Поэтому древний идеал женщины также включает еще силу физической любви, совпадая с идеалом материнства и идеалом жизненной выносливости, подвижности и силы. Три разных назначения гармонически слились, соразмерились и уравновесились в облике прекрасной подруги – мечте, идеале, основе для оценок. Вот почему удивляют, а часто и возмущают пришельцев с Запада наши идеалы веселой и здоровой чувственности, выраженные в изваяниях и фресках древних храмов.
Только наш народ мог создать чудесную легенду, записанную в Брахмавайварта-пуране вишнуистов. Кришна рассказывает своей Радхе о том, как апсара Мохини влюбилась в Брахму. У вечно юной Мохини было все, чем прекрасна женщина: широкие бедра, высокая грудь, круглый крепкий зад, стройная шея и громадные глаза, а волосы ее, черные как ночь, окутывали ее густым покрывалом. Тончайшее золотистое сари не скрывало ни одного из ее достоинств, а один взгляд мог приковать к ее прекрасному лицу всех обитателей трех миров. И Мохини загорелась неистовой страстью к Брахме, но он не заметил ее, погруженный в раздумье, и прошел мимо. Мохини была в отчаянии, перестала есть, забыла всех любовников, только и думала о Брахме. Подруга ее, тоже прекраснейшая из апсар, Рамбха, посоветовала упросить бога любви и страсти Каму помочь Мохини. Кама привел ее на небо Брахмы, и она очаровала его. Однако он быстро охладел и удалил от себя апсару, пытаясь ее уговорить отказаться от любви. Мохини молила его не отвергать ее, но Брахма сказал, что углублен в созерцание глубин мира и Мохини его не интересует. Тогда апсара разгневалась и прокляла Брахму за то, что он высмеял ее, когда она искала у него прибежища любви. Мохини возвестила Брахме, что его теперь не будут почитать, как других богов. И действительно, высший бог Тримурти не пользуется в Индии до сей поры таким почитанием, как многие, даже низшие в пантеоне божества.
Брахма, под впечатлением проклятия апсары, пришел к Вишну, и тот сильно порицал его. Он указал Брахме, что, зная Веду, ему должно быть известно, что он совершил преступление, худшее, чем убийца. Женщины есть пальцы природы и драгоценности мира. Мир Брахмы должен быть миром радости, а он зачем-то укротил свою страсть. Если женщина воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая отдаться, то он, даже не испытавший к ней прежде страсти, не должен отвергать ее. Иначе он навлечет на себя несчастья в этом мире, а после смерти подвергнется карам испорченной Кармы во многих будущих жизнях. Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его любви, даже если она замужем или легкого поведения. И Вишну приказал Брахме долго каяться в окружении грешников и подверг его многим испытаниям. Эта легенда, должно быть, создана теми, кто покрывал изваяниями любви и красоты наши древние храмы, и также не понята людьми Запада.
Витаркананда встал и перегнулся через парапет башни, чтобы рассмотреть далеко внизу долину Нубры. Даярам не пошевелился.
– Чем больше будет твоя любовь, тем сильнее обовьет твою душу змей Кундалини, тем злее станет ревность. Бороться с этим можешь только ты сам. – Гуру на минуту задумался. – Нет, для тебя, художника, отказ от Майи – отказ от самой жизни, это убийство. Остается только возвысить древние стремления до подвига служения, до радости созидания.
Витаркананда умолк. Казалось, что, забыв про все, старик погрузился в созерцание далеких вершин Ладакхского хребта.
Даярам смотрел на него, впервые поняв силу мысли этого человека. Неужели же он, гуру, не сможет вывести его на тропу мудрости, избавить от жгучего плена страстей «медного кувшина»? Художник вспомнил с детства слышанные и читанные рассказы о могучих преобразованиях в человеке, совершающихся здесь, в чистом и холодном мире Тибетских гор, в убежищах монастырей, забравшихся на вершины грозных скал, прочь от земли, к небу и единению с вечностью. Безумное желание покоя и мира охватило все измученное и ослабевшее существо Даярама. Лишь бы стать спокойным и мудрым, освободиться от мучительных грез, неосуществимых желаний, грызущей тоски по утраченному. Он вынесет любые испытания, чтобы достичь ясной доброты своего учителя… быть хоть отдаленно похожим на него!
– Учитель, – обратился он к Витаркананде, – я слышал об испытании тьмой, которое быстро и верно изменяет душу человека, выводит его на путь, дает нечеловеческие стойкость и мужество. Помоги мне пройти через это и оставить в прошлом, как ничего не значащий хлам, все накрепко опутавшее и пленившее меня. Здесь, говорят, еще есть высеченные в скалах подземелья, в которых проводят годы самые ревностные подвижники буддийской веры. Я не буддист и не религиозный фанатик, как ты знаешь, но через это испытание я тоже могу достигнуть покоя.
Витаркананда повернулся к художнику с несвойственной ему резкостью:
– Только полное невежество во всем, что касается духовной тренировки, заставляет твои мысли течь этим путем! Разве годится для современного, образованного человека, с изощренным воображением и памятью, нервного и незакаленного, то испытание, которое в прошлые времена предназначалось для туповатых, абсолютно здоровых сыновей гор? Ужасающее давление на психику, вызывающее расщепление нормального рассудка. Видения, ужасы и, наконец, счастливое успокоение после разрушения всех обычных связей души, кажущееся высшим сосредоточением, – вот что такое путь тьмы… – Витаркананда умолк, слегка нахмурившись, как бы осуждая себя за излишне эмоциональную речь.
Даярам склонил голову.
Неизбывно живет в каждом человеке, от костров пещерных жителей до пламени дюз ракетного корабля, вера в чудо, лекарство, волшебное место. Что-то внешнее, что придет и снимет усталость, отчаяние и разочарование с души, хворь с больного тела.
Витаркананда проницательно следил за художником, читая его мысли, поднял большую широкую руку, погладил волнистую бороду.
– Что ж, может быть, ты более прав, чем я! Прав в том, что испытание покажет тебе путь, который ты не видишь, хотя я и стараюсь его показать. Но глаза твоей души закрыты, и детская вера в чудо, в немедленное спасение мешает тебе их открыть. Пусть будет так! Только должен предупредить тебя – посмотри туда, на Хатха-Бхоти. На нем нет такой великолепной снежной короны, как на других его соседях. Слишком круты его каменные склоны. Вот эта обледенелая круча, лишенная всего живого, не блещущая переливами света, а хмурящаяся изрытым серым камнем, неимоверно трудная для подъема, – вот то, что тебе предстоит. Решаешься ли ты?
Даярам почувствовал угрожающую серьезность тона гуру, и сердце его забилось. Но он облизнул пересохшие губы и упрямо нагнул голову. Гуру закинул через плечо край плаща и пошел с башни вниз, более не сказав ни слова.
Монах-скороход, посланный в большой соседний монастырь, вернулся в тот же день, а на следующее утро гуру, Даярам и четверо провожатых отправились в путь. Два дня шли они вниз по долине, над кручами и ревущей водой, пока не достигли Шайока – большого притока Инда. Весенняя погода Тибета очень изменчива, и даже сейчас, в мае, наступило похолодание. На закате мелкий дождь, сыпавший с полудня, перешел в мокрый снег, позже сделавшийся сухим и колючим. Даярам мерз так жестоко, что не помнил, как они добрались до маленькой деревушки и отогрелись чаем с маслом и жирным молоком яка. До места назначения – монастыря секты Сакьяпа – осталось всего несколько часов пути, но гуру поднялся, едва рассвело. Ночной мороз породил густой туман, заполнивший ущелье. Темно-серые стены внезапно вставали сквозь белесую, розовую вверху мглу на поворотах ущелья. Художнику казалось, что его привели в заколдованную страну, спрятанную под гигантским покровом.
Даярам никак не мог отделаться от чувства, что его уводят навсегда от мира и жизни, что больше не будет ничего, кроме леденящего холода, тумана и рева неистового потока.
Река, словно стремясь доказать ему это, бушевала и грохотала все сильнее. Белая, взбаламученная, крутящаяся вода с громадной силой билась об исполинские валуны, загромождавшие ее русло, и перистые фонтаны брызг взлетали серебряными столбами на высоту нескольких метров. Тонкая стеклянистая корочка льда покрывала на тропе гладкие камни. Малейшая неосторожность – и путнику угрожало падение с обрыва. Несмотря на холод, Рамамурти весь покрылся липким потом от усилий идти, не отставая от ловких горцев и своего друга профессора.
Когда они вышли в расширенную часть ущелья, Витаркананда объявил привал. Здесь не было валунов и река не грохотала и не крутилась, а лишь несла свою стремительную воду, вздуваясь, будто в судорожных усилиях. Солнце поднялось над горами, и водопад палевого света низвергся с неба, заставив отступить стену тумана. Солнечные лучи заиграли в бесчисленных пузырьках пены, мчавшихся на поверхности воды. Задумавшийся Витаркананда показал на них Даяраму.
– Несчетное число раз я размышлял, сидя на берегах горных рек, о сходстве такого потока с жизнью людей. Смотри, вот они, пузырьки, – как наши жизни – один побольше, на другой упадет больше солнца, и он покажется более ярким, блеснет всеми цветами радуги. Вон тот проплыл до середины освещенной полосы, а за это время лопнули и навсегда исчезли тысячи других… Так и мы: кому-то удается проплыть дольше, засверкать поярче, и каждый неповторим в своем коротком пути. Изменяется течение, угол падающих лучей, отражение скал – и все другое. Пузырьки на реке, живущие несколько мгновений, летящие по воде от одной стены тумана до другой, – таковы мы в своей индивидуальной жизни. Сердце преисполняется печалью, когда следишь за этими обреченными пузырьками. Забываешь, что они часть могучего потока, прорвавшего горы и мчащегося за тысячи миль к необозримым просторам теплого океана. Исчезая, пузырек не превращается в ничто – он соединяется с общим потоком. Научиться чувствовать себя всегда частью потока, несмотря на всю свою индивидуальную неповторимость, – вот обязательное условие мудрости! И смотри еще: чем яростнее борется вода, пробиваясь через препятствия, чем стремительнее ее бег, тем больше родится пузырьков и тем короче их существование. А ниже, на успокаивающейся воде, пузырьки редки, они живут дольше.
– Зато вода бежит медленнее и их путь той же длины, – заметил внимательно слушавший Даярам.
– Ты предпочел бы, конечно, быть пузырьком в бурном потоке? – улыбнулся гуру. – Так и должно быть, ты молод. Однако пора в путь!
Сквозь шум реки прорвались резкие кличи радонгов и раковин. Ледяной ветер пронзил Даярама точно ножом, вырвавшись из боковой долины. И вдруг художник остановился, замерев от изумления, – на каменистой косе, треугольником вдавшейся в реку и покрытой свежевыпавшим снегом, стояли четыре совершенно нагих человека. Обдаваемые брызгами воды, осыпаемые снегом, все четверо пребывали в полной неподвижности. Если бы не пар их дыхания, срываемый ветром, можно было бы принять их за статуи из желтого камня. Но нет, вот один нагнулся, смочил водой кусок белой ткани и покрыл им свою спину, подставленную морозному ветру.
Остолбеневший художник отказывался поверить собственным глазам, пока Витаркананда не взял его за руку, увлекая по отходящей налево тропе.
– Разве ты никогда не слыхал о респах? – удивленно спросил гуру так, как будто речь шла о широко известном явлении.
Услышав энергичное отрицание Даярама, Витаркананда рассказал об издревле практикуемом в Тибете обычае отбирать наиболее закаленных и стойких людей, чтобы сделать из них не поддающихся холоду святых. Тогда и Даярам вспомнил, что видел фотографии лам, стоявших нагими в снегах священной горы Кайлас.
По учению тибетских мистиков, такие люди могли освобождать из собственного семени энергию, называемую «тумо», которая распространяется по бесчисленным канальцам тела и согревает его. Сейчас эта система канальцев заново открыта корейскими биологами и получила название «Кенрак».
Тщательно отобранные неофиты подготавливаются медленно и постепенно, проделывая упражнения и дыхательную гимнастику на морозе, сначала в тонкой бумажной одежде, а потом совершенно обнаженными. Чтобы получить титул «респы», надо пройти особые испытания. В морозную лунную ночь с ветром кандидаты садятся на землю около озера или реки, обертывая вокруг тел небольшие простыни, намоченные в воде, которые они должны высушить теплом тела. В прежние времена надо было высушить самое меньшее три простыни. Респы могут стоять на морозе от двенадцати часов до целых суток. Иногда на их телах выступает пот, настолько им делается жарко! Респа отказывается от теплой одежды и от согревания огнем, а некоторые, наиболее аскетические, проводят зимы в пещерах среди снеговых гор, одетые только в хлопковую ткань.
– Как же это возможно? – изумлялся Даярам, содрогаясь при одном воспоминании о четырех живых статуях на берегу ледяной реки.
– Люди мало знают о своих собственных возможностях, а еще меньше верят в себя, – улыбнулся гуру. – Если подумать, то в чудесной сопротивляемости холоду у респ нет ничего необъяснимого. Вспомни, что это тибетцы, рождающиеся на вечно холодных плоскогорьях, в холоде юрты, в которой они ползают нагими, едва согреваемые тлеющим очагом. Вспомни об очень большой сухости горного воздуха, облегчающего мороз. Вспомни о практике хатха-йоги: изнемогая от жары, вызывать в воображении горные реки и снега Гималаев, чтобы внушить себе прохладу. Респа поступает наоборот – он также добивается самогипноза, только внушает себе ощущение огня или знойной долины с раскаленными солнцем скалами. Даже западные ученые начали достигать похожего эффекта. Я читал об опытах английского врача Хэдфильда. Один французский врач в фашистском лагере смерти спас себя подобным внушением, когда его на сутки выбросили на мороз и облили водой. Горя желанием жить и мстить мерзавцам, врач внушил себе, что он находится на Ривьере и лежит на пляже. К его собственному удивлению, скоро ему сделалось тепло, и он выдержал пытку без всякого ущерба… Но вот мы и пришли!
На широком уступе под отвесной стеной хребта, озаренной солнцем, раскинулся монастырь. Высокая стена ограждала его с юга, оставляя незащищенным выдавшийся в долину холм, увенчанный главным зданием храма и сокровищницы. И стены и здания были раскрашены яркими черными, красными и белыми вертикальными полосами. Это означало, что монастырь принадлежит секте Сакьяпа – тоже красношапочным ламам Малого Тибета.
– Смотри, здесь живет древнее искусство, – Витаркананда показал на массивные стены и кубические здания, обладавшие необъяснимой легкостью, отсутствующей у коробочных форм современной архитектуры. – Видишь, стены незаметно сходятся вверх и геометрически точные линии чуть вогнуты, но сделано это в такой строгой мере, что, несмотря на грубый материал и толщину стен, достигается эффект благородной формы.
Даярам уже знал общее устройство тибетских дзонов. За стенами в нижней, передней ступени монастыря помещались хозяйственные постройки. Тут находились мастерские – ткацкие, художественные и столярные, – больница и аптека. Позади, на плоском уступе горы, – школа и библиотека, поминальные часовни. В этом монастыре посредине стен возвышался утес со срезанной верхушкой, служивший основанием трех храмов. Путники направились к центральному, самому высокому.
В монастыре ревели трубы, пронзительно взывали раковины, тупо и глухо ревели барабаны – шло торжественное богослужение. Монахи, склонившись над стопками испещренных тибетскими буквами листков, нараспев рычали молитвы нарочито низкими голосами. Особенно старательные ревели так, что успевали охрипнуть, пока колокольчик главного ламы возвещал перерыв. Свисавшие с продымленных балок потолка полотнища священных изображений – бурханов – колыхались от порывов холодного сквозняка, никого не беспокоившего.
В квадратном дворе храма собралось множество монахов – видимо, все население монастыря. Молодые, мальчишки, старики – все смешалось в этой теснящейся и толкающейся толпе. Причудливые шапки с высокими мохнатыми гребнями выделяли старшую категорию монахов.
Все с нескрываемым любопытством смотрели на четырех пришельцев, медленно поднимавшихся по навесной галерее к верхнему этажу храма. Их ожидали главные ламы – настоятель, астрологи, врачи и высокопосвященные. Даярам украдкой смотрел вниз на плотно сбитую, пахнущую тухлым маслом и немытыми телами толпу и не мог отделаться от мысли о человеческой расточительности. Запереть здесь в бездействии и покое множество здоровых мужчин! И это в стране, где так требовались умелые руки земледельца и скотовода, где редко население и сурова зима… Может быть, запирая столько мужчин в монастырь и обрекая их на безбрачие, предки – устроители общества инстинктивно ставили предел размножению в стране, скудость которой может прокормить лишь ограниченное население? Если так, то насколько нелепее кормить всю эту толпу бездействующих работников! Жаль, что он беспомощен в вопросах экономики. Как много интересного и важного для суждения о жизни он мог бы знать… Рамамурти вдруг поразился несоответствию своих мыслей тому, что ждет его.
Настоятель приветливо вышел навстречу Витаркананде – величайший почет, который может быть оказан смертному. Он ободряюще улыбнулся Даяраму. Типично индийское лицо художника с горящими лихорадкой ожидания и тревоги глазами, сведенными бровями и резко очерченным ртом понравилось старому ламе. Настоятель повернулся к собравшимся старейшинам монастыря и заговорил по-тибетски, зная, что художник не понимает этого языка:
– Наш почетный гость, пандит и свами Витаркананда, просит подвергнуть его ученика художника Рамамурти испытанию уединением. Сам художник просил о том же письмом, полученным нами пять дней назад. Мы не видели причин отказать ему в избранном пути.
Когда он умолк, присутствующие понимающе закивали головами – пусть будет так!
– Отведите почтенного гостя с его учеником в келью и объясните ему таинство обряда. Мы же приготовим все внизу.
Когда Даярам, без всякой иной одежды, кроме широкого плаща, покрывавшего его с головой, появился на галерее, монахи, уже не толпившиеся беспорядочно, а построенные рядами, встретили его печальным монотонным пением.
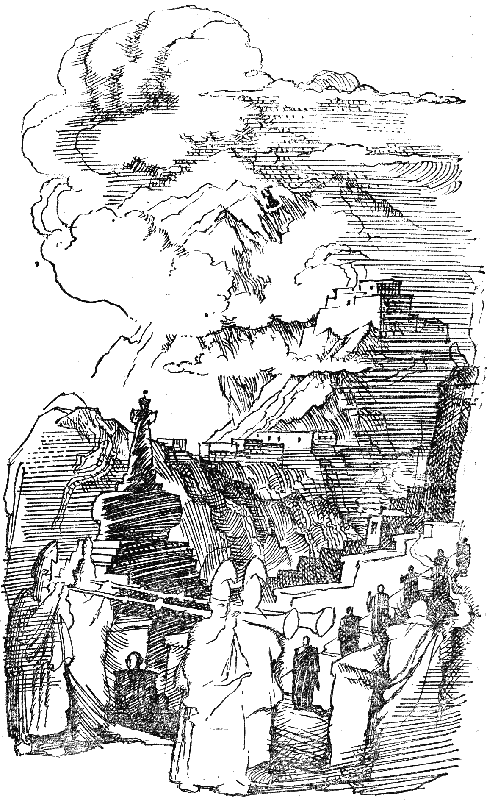 Сыпались замедленные ритмические удары литавр и барабанов, в такт им раскачивались ряды людей в одинаковых красных одеждах, тягучие голоса сливались в унисоне, повышаясь и понижаясь, как ритмический прибой звуков. Даярам, как ни были напряжены его нервы, поддался гипнотическому воздействию раскачивающейся и поющей массы людей. Острота его чувств угасала, он терял способность наблюдать окружающее. Одна за другой обрывались связи с внешним миром, и художник погружался в странное ощущение нереальности происходящего. Испытанные средства массового самогипноза всегда приходили на помощь религии, спиритизму и всем подобным демонстрациям якобы сверхъестественных сил.
Сыпались замедленные ритмические удары литавр и барабанов, в такт им раскачивались ряды людей в одинаковых красных одеждах, тягучие голоса сливались в унисоне, повышаясь и понижаясь, как ритмический прибой звуков. Даярам, как ни были напряжены его нервы, поддался гипнотическому воздействию раскачивающейся и поющей массы людей. Острота его чувств угасала, он терял способность наблюдать окружающее. Одна за другой обрывались связи с внешним миром, и художник погружался в странное ощущение нереальности происходящего. Испытанные средства массового самогипноза всегда приходили на помощь религии, спиритизму и всем подобным демонстрациям якобы сверхъестественных сил.
Ряды монахов раскачивались все медленнее, пение замирало. Даяраму закрыли плащом лицо и за руки повели его вниз. Торжественная процессия спустилась в подземный храм, высеченный в скале.
Колеблющиеся блики светильников побежали по стенам, расписанным красочными изображениями беснующихся духов ада. Храм был заставлен жертвенниками, многорукими статуями, этажерками с грудами статуэток бодисатв. На колоннах висели страшные маски, венцы из черепов, имитации содранных с грешников кож.
За храмом подземелье продолжалось широкой и короткой галереей, упиравшейся в глухую каменную стену.
Шествие остановилось. Провожающие молча столпились в тупике и высоко подняли светильники. Даяраму открыли лицо, он оглянулся со сжавшимся сердцем. По обе стороны в камне чернели два отверстия, настолько узких, что пролезть в них можно было лишь ползком, лежа на боку. Эти узкие щели вели в подземные камеры. Испытуемые замуровывались в них на годы и достигали в уединении высочайшего совершенства. Обе темницы были пусты – уже много лет в монастыре не находилось людей, стремившихся возвысить себя столь устрашающим путем.
Вдруг Даярам опустился к ногам Витаркананды и с наивной мольбой поднял глаза к его доброму лицу.
– Учитель, я знаю, ты можешь многое, о чем никогда не говоришь мне. Я видел, как без единого слова ты заставил полубезумного человека из Сринагара забыть утрату любимой матери. Видел, как по приказу твоих глаз вор на дороге раскаялся и пополз, вопя о своих злодеяниях. Здесь мне рассказывали…
– Что же ты хочешь? – перебил Витаркананда.
– Шастри, заставь меня забыть ее, забыть все, снова сделаться тем же веселым и простым художником, каким я пришел к тебе когда-то. Я готов остаться навсегда здесь, у подножия царства света, вдали от мира и жизни!
Художник прочитал непреклонный отказ в добрых и печальных глазах учителя.
– Ты не хочешь? – воскликнул Рамамурти.
– Может быть, я сделал бы это для земледельца из нижней деревни… нет, и для него тоже нет!
– Учитель! Почему?
– Разве ты забыл, что сам строишь свою Карму, сам медленно и упорно восходишь по бесконечным ступеням совершенствования? Сама, только сама душа отвечает за себя на этом пути, от которого не свободен ни один атом в мире. О великий путь совершенствования! Знаешь ли ты, как медленно и мучительно, в неисчислимых поколениях безобразных чудовищ, пожирателей тины и падали, в тупых, жвачных, яростных и вечно голодных хищниках проходила материя кальпу за кальпой, чтобы обогатиться духом, приобрести знание и власть над слепыми силами природы – Шакти. В этом потоке, как капли в Ганге, и мы с тобой и все сущее.
Витаркананда поднял руки к горам, как бы сгоняя их воедино широким жестом.
– Еще бесконечно много косной, мертвой материи во вселенной. Крохотными ключами и ручейками текут повсюду отдельные Кармы: на Земле, на планетах бесчисленных звезд. Эти мелкие капли мысли, воли, совершенствования, ручейки духа стекают в огромный океан мировой души. Все выше становится его уровень, все неизмеримее – глубина, и прибой этого океана достигнет самых далеких звезд!
У тебя, Даярам, крепка еще повязка Майи на очах души, но ты видишь, что Карма позволила тебе жить чисто и добро, несмотря на все путы Майи. Разве можно вынуть что-нибудь из твоей груди насильно? Разве то, что останется, будет – ты, а изменение – твоим восхождением? Зачем же это, сын мой?
Витаркананда погладил склоненную голову молодого художника, и от этого прикосновения как будто легче стала безысходная правда его слов. Пришел мальчик-послушник.
Витаркананда взял у него высокий медный кувшин, поставил на него плоскую чашку, в которую положил горящий уголь из жаровни.
– Строение человеческой души давно известно мудрецам Индии и выражено формулой: «Ом мани падме хум» – жемчужина в цветке лотоса: вот лотос – это чаша с драгоценным огнем души, – гуру бросил на уголь щепотку каких-то зерен.
Вспышка ароматного дыма поднялась из чаши и растворилась в воздухе.
– Так, – продолжал учитель, – рождаются, вспыхивают и возносятся вверх, исчезая, высокие помыслы, благородные стремления, вызванные огнем души. А внизу, под лотосом, в медном кувшине, глубокое и темное основание души – видишь, как расширяется оно вниз и как крепко прильнуло своим дном к земле. Такова душа – твоя и всякого человека, видишь, как мелка чаша лотоса и как глубок кувшин. Из этого древнего основания идут все неясные помыслы, инстинкты и бессознательные реакции, выработанные миллионами лет слепого совершенствования звериной души. Чем сильнее огонь в чаше, тем скорее он очищает и переплавляет эти древние глубины. Но все в мире имеет две стороны: сильный огонь бывает в сильном теле, в котором могучи древние зовы души. И если Карма не углубила чашу лотоса так, – Витаркананда приложил ладони ребром к краям чашки, – тогда из глубины кувшина может подняться порой столь неожиданное и сильное, что огонь не может его переплавить и даже угасает сам. Ты, Даярам, сильный, с горячим огнем в чаше лотоса, но крепко связан с древними основами жизни. Плотно закутан ты в покрывало Майи и оттого так остро и ярко чувствуешь все изгибы, все краски этого покрывала.
Витаркананда остановился. Даярам затаив дыхание старался не упустить ни одного слова. Ему казалось, что старый ученый простыми мазками с немыслимой прозорливостью пишет картину души его, Даярама.
– Ты рассказал о своем образе Парамрати, – продолжал профессор, – и мне стало ясно, что ты полностью в Майе. Красота и ревность – они обе из древней души, отсюда, – гуру постучал по кувшину, издавшему глухой медный звук, – но красота способствует восхождению, а ревность – нисхождению.
Каждая черта и каждая линия твоего идеала оказывается очерченной заранее, имеет строгое назначение и безошибочно угадывается древним инстинктом – яунвритти. В давние времена сила Рати и Камы, или, по-европейски, Астарты и Эроса, была гораздо больше. Есть закон, ныне забытый: чем сильнее страсть родителей, тем красивее и здоровее дети. У кого из сочетающихся страсть сильнее, того пола и будет ребенок.
Поэтому древний идеал женщины также включает еще силу физической любви, совпадая с идеалом материнства и идеалом жизненной выносливости, подвижности и силы. Три разных назначения гармонически слились, соразмерились и уравновесились в облике прекрасной подруги – мечте, идеале, основе для оценок. Вот почему удивляют, а часто и возмущают пришельцев с Запада наши идеалы веселой и здоровой чувственности, выраженные в изваяниях и фресках древних храмов.
Только наш народ мог создать чудесную легенду, записанную в Брахмавайварта-пуране вишнуистов. Кришна рассказывает своей Радхе о том, как апсара Мохини влюбилась в Брахму. У вечно юной Мохини было все, чем прекрасна женщина: широкие бедра, высокая грудь, круглый крепкий зад, стройная шея и громадные глаза, а волосы ее, черные как ночь, окутывали ее густым покрывалом. Тончайшее золотистое сари не скрывало ни одного из ее достоинств, а один взгляд мог приковать к ее прекрасному лицу всех обитателей трех миров. И Мохини загорелась неистовой страстью к Брахме, но он не заметил ее, погруженный в раздумье, и прошел мимо. Мохини была в отчаянии, перестала есть, забыла всех любовников, только и думала о Брахме. Подруга ее, тоже прекраснейшая из апсар, Рамбха, посоветовала упросить бога любви и страсти Каму помочь Мохини. Кама привел ее на небо Брахмы, и она очаровала его. Однако он быстро охладел и удалил от себя апсару, пытаясь ее уговорить отказаться от любви. Мохини молила его не отвергать ее, но Брахма сказал, что углублен в созерцание глубин мира и Мохини его не интересует. Тогда апсара разгневалась и прокляла Брахму за то, что он высмеял ее, когда она искала у него прибежища любви. Мохини возвестила Брахме, что его теперь не будут почитать, как других богов. И действительно, высший бог Тримурти не пользуется в Индии до сей поры таким почитанием, как многие, даже низшие в пантеоне божества.
Брахма, под впечатлением проклятия апсары, пришел к Вишну, и тот сильно порицал его. Он указал Брахме, что, зная Веду, ему должно быть известно, что он совершил преступление, худшее, чем убийца. Женщины есть пальцы природы и драгоценности мира. Мир Брахмы должен быть миром радости, а он зачем-то укротил свою страсть. Если женщина воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая отдаться, то он, даже не испытавший к ней прежде страсти, не должен отвергать ее. Иначе он навлечет на себя несчастья в этом мире, а после смерти подвергнется карам испорченной Кармы во многих будущих жизнях. Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его любви, даже если она замужем или легкого поведения. И Вишну приказал Брахме долго каяться в окружении грешников и подверг его многим испытаниям. Эта легенда, должно быть, создана теми, кто покрывал изваяниями любви и красоты наши древние храмы, и также не понята людьми Запада.
Витаркананда встал и перегнулся через парапет башни, чтобы рассмотреть далеко внизу долину Нубры. Даярам не пошевелился.
– Чем больше будет твоя любовь, тем сильнее обовьет твою душу змей Кундалини, тем злее станет ревность. Бороться с этим можешь только ты сам. – Гуру на минуту задумался. – Нет, для тебя, художника, отказ от Майи – отказ от самой жизни, это убийство. Остается только возвысить древние стремления до подвига служения, до радости созидания.
Витаркананда умолк. Казалось, что, забыв про все, старик погрузился в созерцание далеких вершин Ладакхского хребта.
Даярам смотрел на него, впервые поняв силу мысли этого человека. Неужели же он, гуру, не сможет вывести его на тропу мудрости, избавить от жгучего плена страстей «медного кувшина»? Художник вспомнил с детства слышанные и читанные рассказы о могучих преобразованиях в человеке, совершающихся здесь, в чистом и холодном мире Тибетских гор, в убежищах монастырей, забравшихся на вершины грозных скал, прочь от земли, к небу и единению с вечностью. Безумное желание покоя и мира охватило все измученное и ослабевшее существо Даярама. Лишь бы стать спокойным и мудрым, освободиться от мучительных грез, неосуществимых желаний, грызущей тоски по утраченному. Он вынесет любые испытания, чтобы достичь ясной доброты своего учителя… быть хоть отдаленно похожим на него!
– Учитель, – обратился он к Витаркананде, – я слышал об испытании тьмой, которое быстро и верно изменяет душу человека, выводит его на путь, дает нечеловеческие стойкость и мужество. Помоги мне пройти через это и оставить в прошлом, как ничего не значащий хлам, все накрепко опутавшее и пленившее меня. Здесь, говорят, еще есть высеченные в скалах подземелья, в которых проводят годы самые ревностные подвижники буддийской веры. Я не буддист и не религиозный фанатик, как ты знаешь, но через это испытание я тоже могу достигнуть покоя.
Витаркананда повернулся к художнику с несвойственной ему резкостью:
– Только полное невежество во всем, что касается духовной тренировки, заставляет твои мысли течь этим путем! Разве годится для современного, образованного человека, с изощренным воображением и памятью, нервного и незакаленного, то испытание, которое в прошлые времена предназначалось для туповатых, абсолютно здоровых сыновей гор? Ужасающее давление на психику, вызывающее расщепление нормального рассудка. Видения, ужасы и, наконец, счастливое успокоение после разрушения всех обычных связей души, кажущееся высшим сосредоточением, – вот что такое путь тьмы… – Витаркананда умолк, слегка нахмурившись, как бы осуждая себя за излишне эмоциональную речь.
Даярам склонил голову.
Неизбывно живет в каждом человеке, от костров пещерных жителей до пламени дюз ракетного корабля, вера в чудо, лекарство, волшебное место. Что-то внешнее, что придет и снимет усталость, отчаяние и разочарование с души, хворь с больного тела.
Витаркананда проницательно следил за художником, читая его мысли, поднял большую широкую руку, погладил волнистую бороду.
– Что ж, может быть, ты более прав, чем я! Прав в том, что испытание покажет тебе путь, который ты не видишь, хотя я и стараюсь его показать. Но глаза твоей души закрыты, и детская вера в чудо, в немедленное спасение мешает тебе их открыть. Пусть будет так! Только должен предупредить тебя – посмотри туда, на Хатха-Бхоти. На нем нет такой великолепной снежной короны, как на других его соседях. Слишком круты его каменные склоны. Вот эта обледенелая круча, лишенная всего живого, не блещущая переливами света, а хмурящаяся изрытым серым камнем, неимоверно трудная для подъема, – вот то, что тебе предстоит. Решаешься ли ты?
Даярам почувствовал угрожающую серьезность тона гуру, и сердце его забилось. Но он облизнул пересохшие губы и упрямо нагнул голову. Гуру закинул через плечо край плаща и пошел с башни вниз, более не сказав ни слова.
Монах-скороход, посланный в большой соседний монастырь, вернулся в тот же день, а на следующее утро гуру, Даярам и четверо провожатых отправились в путь. Два дня шли они вниз по долине, над кручами и ревущей водой, пока не достигли Шайока – большого притока Инда. Весенняя погода Тибета очень изменчива, и даже сейчас, в мае, наступило похолодание. На закате мелкий дождь, сыпавший с полудня, перешел в мокрый снег, позже сделавшийся сухим и колючим. Даярам мерз так жестоко, что не помнил, как они добрались до маленькой деревушки и отогрелись чаем с маслом и жирным молоком яка. До места назначения – монастыря секты Сакьяпа – осталось всего несколько часов пути, но гуру поднялся, едва рассвело. Ночной мороз породил густой туман, заполнивший ущелье. Темно-серые стены внезапно вставали сквозь белесую, розовую вверху мглу на поворотах ущелья. Художнику казалось, что его привели в заколдованную страну, спрятанную под гигантским покровом.
Даярам никак не мог отделаться от чувства, что его уводят навсегда от мира и жизни, что больше не будет ничего, кроме леденящего холода, тумана и рева неистового потока.
Река, словно стремясь доказать ему это, бушевала и грохотала все сильнее. Белая, взбаламученная, крутящаяся вода с громадной силой билась об исполинские валуны, загромождавшие ее русло, и перистые фонтаны брызг взлетали серебряными столбами на высоту нескольких метров. Тонкая стеклянистая корочка льда покрывала на тропе гладкие камни. Малейшая неосторожность – и путнику угрожало падение с обрыва. Несмотря на холод, Рамамурти весь покрылся липким потом от усилий идти, не отставая от ловких горцев и своего друга профессора.
Когда они вышли в расширенную часть ущелья, Витаркананда объявил привал. Здесь не было валунов и река не грохотала и не крутилась, а лишь несла свою стремительную воду, вздуваясь, будто в судорожных усилиях. Солнце поднялось над горами, и водопад палевого света низвергся с неба, заставив отступить стену тумана. Солнечные лучи заиграли в бесчисленных пузырьках пены, мчавшихся на поверхности воды. Задумавшийся Витаркананда показал на них Даяраму.
– Несчетное число раз я размышлял, сидя на берегах горных рек, о сходстве такого потока с жизнью людей. Смотри, вот они, пузырьки, – как наши жизни – один побольше, на другой упадет больше солнца, и он покажется более ярким, блеснет всеми цветами радуги. Вон тот проплыл до середины освещенной полосы, а за это время лопнули и навсегда исчезли тысячи других… Так и мы: кому-то удается проплыть дольше, засверкать поярче, и каждый неповторим в своем коротком пути. Изменяется течение, угол падающих лучей, отражение скал – и все другое. Пузырьки на реке, живущие несколько мгновений, летящие по воде от одной стены тумана до другой, – таковы мы в своей индивидуальной жизни. Сердце преисполняется печалью, когда следишь за этими обреченными пузырьками. Забываешь, что они часть могучего потока, прорвавшего горы и мчащегося за тысячи миль к необозримым просторам теплого океана. Исчезая, пузырек не превращается в ничто – он соединяется с общим потоком. Научиться чувствовать себя всегда частью потока, несмотря на всю свою индивидуальную неповторимость, – вот обязательное условие мудрости! И смотри еще: чем яростнее борется вода, пробиваясь через препятствия, чем стремительнее ее бег, тем больше родится пузырьков и тем короче их существование. А ниже, на успокаивающейся воде, пузырьки редки, они живут дольше.
– Зато вода бежит медленнее и их путь той же длины, – заметил внимательно слушавший Даярам.
– Ты предпочел бы, конечно, быть пузырьком в бурном потоке? – улыбнулся гуру. – Так и должно быть, ты молод. Однако пора в путь!
Сквозь шум реки прорвались резкие кличи радонгов и раковин. Ледяной ветер пронзил Даярама точно ножом, вырвавшись из боковой долины. И вдруг художник остановился, замерев от изумления, – на каменистой косе, треугольником вдавшейся в реку и покрытой свежевыпавшим снегом, стояли четыре совершенно нагих человека. Обдаваемые брызгами воды, осыпаемые снегом, все четверо пребывали в полной неподвижности. Если бы не пар их дыхания, срываемый ветром, можно было бы принять их за статуи из желтого камня. Но нет, вот один нагнулся, смочил водой кусок белой ткани и покрыл им свою спину, подставленную морозному ветру.
Остолбеневший художник отказывался поверить собственным глазам, пока Витаркананда не взял его за руку, увлекая по отходящей налево тропе.
– Разве ты никогда не слыхал о респах? – удивленно спросил гуру так, как будто речь шла о широко известном явлении.
Услышав энергичное отрицание Даярама, Витаркананда рассказал об издревле практикуемом в Тибете обычае отбирать наиболее закаленных и стойких людей, чтобы сделать из них не поддающихся холоду святых. Тогда и Даярам вспомнил, что видел фотографии лам, стоявших нагими в снегах священной горы Кайлас.
По учению тибетских мистиков, такие люди могли освобождать из собственного семени энергию, называемую «тумо», которая распространяется по бесчисленным канальцам тела и согревает его. Сейчас эта система канальцев заново открыта корейскими биологами и получила название «Кенрак».
Тщательно отобранные неофиты подготавливаются медленно и постепенно, проделывая упражнения и дыхательную гимнастику на морозе, сначала в тонкой бумажной одежде, а потом совершенно обнаженными. Чтобы получить титул «респы», надо пройти особые испытания. В морозную лунную ночь с ветром кандидаты садятся на землю около озера или реки, обертывая вокруг тел небольшие простыни, намоченные в воде, которые они должны высушить теплом тела. В прежние времена надо было высушить самое меньшее три простыни. Респы могут стоять на морозе от двенадцати часов до целых суток. Иногда на их телах выступает пот, настолько им делается жарко! Респа отказывается от теплой одежды и от согревания огнем, а некоторые, наиболее аскетические, проводят зимы в пещерах среди снеговых гор, одетые только в хлопковую ткань.
– Как же это возможно? – изумлялся Даярам, содрогаясь при одном воспоминании о четырех живых статуях на берегу ледяной реки.
– Люди мало знают о своих собственных возможностях, а еще меньше верят в себя, – улыбнулся гуру. – Если подумать, то в чудесной сопротивляемости холоду у респ нет ничего необъяснимого. Вспомни, что это тибетцы, рождающиеся на вечно холодных плоскогорьях, в холоде юрты, в которой они ползают нагими, едва согреваемые тлеющим очагом. Вспомни об очень большой сухости горного воздуха, облегчающего мороз. Вспомни о практике хатха-йоги: изнемогая от жары, вызывать в воображении горные реки и снега Гималаев, чтобы внушить себе прохладу. Респа поступает наоборот – он также добивается самогипноза, только внушает себе ощущение огня или знойной долины с раскаленными солнцем скалами. Даже западные ученые начали достигать похожего эффекта. Я читал об опытах английского врача Хэдфильда. Один французский врач в фашистском лагере смерти спас себя подобным внушением, когда его на сутки выбросили на мороз и облили водой. Горя желанием жить и мстить мерзавцам, врач внушил себе, что он находится на Ривьере и лежит на пляже. К его собственному удивлению, скоро ему сделалось тепло, и он выдержал пытку без всякого ущерба… Но вот мы и пришли!
На широком уступе под отвесной стеной хребта, озаренной солнцем, раскинулся монастырь. Высокая стена ограждала его с юга, оставляя незащищенным выдавшийся в долину холм, увенчанный главным зданием храма и сокровищницы. И стены и здания были раскрашены яркими черными, красными и белыми вертикальными полосами. Это означало, что монастырь принадлежит секте Сакьяпа – тоже красношапочным ламам Малого Тибета.
– Смотри, здесь живет древнее искусство, – Витаркананда показал на массивные стены и кубические здания, обладавшие необъяснимой легкостью, отсутствующей у коробочных форм современной архитектуры. – Видишь, стены незаметно сходятся вверх и геометрически точные линии чуть вогнуты, но сделано это в такой строгой мере, что, несмотря на грубый материал и толщину стен, достигается эффект благородной формы.
Даярам уже знал общее устройство тибетских дзонов. За стенами в нижней, передней ступени монастыря помещались хозяйственные постройки. Тут находились мастерские – ткацкие, художественные и столярные, – больница и аптека. Позади, на плоском уступе горы, – школа и библиотека, поминальные часовни. В этом монастыре посредине стен возвышался утес со срезанной верхушкой, служивший основанием трех храмов. Путники направились к центральному, самому высокому.
В монастыре ревели трубы, пронзительно взывали раковины, тупо и глухо ревели барабаны – шло торжественное богослужение. Монахи, склонившись над стопками испещренных тибетскими буквами листков, нараспев рычали молитвы нарочито низкими голосами. Особенно старательные ревели так, что успевали охрипнуть, пока колокольчик главного ламы возвещал перерыв. Свисавшие с продымленных балок потолка полотнища священных изображений – бурханов – колыхались от порывов холодного сквозняка, никого не беспокоившего.
В квадратном дворе храма собралось множество монахов – видимо, все население монастыря. Молодые, мальчишки, старики – все смешалось в этой теснящейся и толкающейся толпе. Причудливые шапки с высокими мохнатыми гребнями выделяли старшую категорию монахов.
Все с нескрываемым любопытством смотрели на четырех пришельцев, медленно поднимавшихся по навесной галерее к верхнему этажу храма. Их ожидали главные ламы – настоятель, астрологи, врачи и высокопосвященные. Даярам украдкой смотрел вниз на плотно сбитую, пахнущую тухлым маслом и немытыми телами толпу и не мог отделаться от мысли о человеческой расточительности. Запереть здесь в бездействии и покое множество здоровых мужчин! И это в стране, где так требовались умелые руки земледельца и скотовода, где редко население и сурова зима… Может быть, запирая столько мужчин в монастырь и обрекая их на безбрачие, предки – устроители общества инстинктивно ставили предел размножению в стране, скудость которой может прокормить лишь ограниченное население? Если так, то насколько нелепее кормить всю эту толпу бездействующих работников! Жаль, что он беспомощен в вопросах экономики. Как много интересного и важного для суждения о жизни он мог бы знать… Рамамурти вдруг поразился несоответствию своих мыслей тому, что ждет его.
Настоятель приветливо вышел навстречу Витаркананде – величайший почет, который может быть оказан смертному. Он ободряюще улыбнулся Даяраму. Типично индийское лицо художника с горящими лихорадкой ожидания и тревоги глазами, сведенными бровями и резко очерченным ртом понравилось старому ламе. Настоятель повернулся к собравшимся старейшинам монастыря и заговорил по-тибетски, зная, что художник не понимает этого языка:
– Наш почетный гость, пандит и свами Витаркананда, просит подвергнуть его ученика художника Рамамурти испытанию уединением. Сам художник просил о том же письмом, полученным нами пять дней назад. Мы не видели причин отказать ему в избранном пути.
Когда он умолк, присутствующие понимающе закивали головами – пусть будет так!
– Отведите почтенного гостя с его учеником в келью и объясните ему таинство обряда. Мы же приготовим все внизу.
Когда Даярам, без всякой иной одежды, кроме широкого плаща, покрывавшего его с головой, появился на галерее, монахи, уже не толпившиеся беспорядочно, а построенные рядами, встретили его печальным монотонным пением.
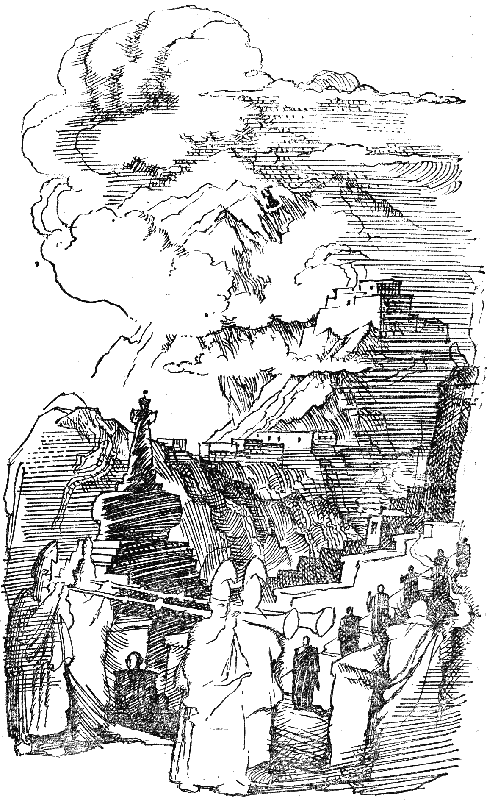
Ряды монахов раскачивались все медленнее, пение замирало. Даяраму закрыли плащом лицо и за руки повели его вниз. Торжественная процессия спустилась в подземный храм, высеченный в скале.
Колеблющиеся блики светильников побежали по стенам, расписанным красочными изображениями беснующихся духов ада. Храм был заставлен жертвенниками, многорукими статуями, этажерками с грудами статуэток бодисатв. На колоннах висели страшные маски, венцы из черепов, имитации содранных с грешников кож.
За храмом подземелье продолжалось широкой и короткой галереей, упиравшейся в глухую каменную стену.
Шествие остановилось. Провожающие молча столпились в тупике и высоко подняли светильники. Даяраму открыли лицо, он оглянулся со сжавшимся сердцем. По обе стороны в камне чернели два отверстия, настолько узких, что пролезть в них можно было лишь ползком, лежа на боку. Эти узкие щели вели в подземные камеры. Испытуемые замуровывались в них на годы и достигали в уединении высочайшего совершенства. Обе темницы были пусты – уже много лет в монастыре не находилось людей, стремившихся возвысить себя столь устрашающим путем.
