После обеда Гошка был встревожен суетой, донесшейся из магазина. Внезапно дверь в мастерскую распахнулась, и, сопровождаемый дедом, в нее ступил квартальный.
Всеобщую растерянность легко было понять. Простой московский обыватель, мещанин, даже мелкий чиновник всячески избегали полицейской власти, на опыте убедившись, что ничего хорошего встреча с ней не сулит. Обыкновенно квартальный обходил лавки, магазины перед праздниками, собирая дань, чем бог пошлет: где балыком, где бутылкой мадеры, где головкой сыра, а где и серебряной полтиной. Подарки делались добровольно, с почтением, а брались будто нехотя, так уж, чтобы уважить дающего. Но избави господь, кому-нибудь не то чтобы не дать, а презентовать меньше, чем следовало или ожидалось. Тут берегись, беда! И лавку могут закрыть — грязно, мол, содержится. И в полицейскую часть под розги угодить проще простого.
Визит же блюстителя порядка в будний день приводил всякого московского жителя малого ранга в трепет и панику.
Именно в такое состояние поверг Яковлевых внезапный приход квартального. И старые и малые ломали голову: что сей сон значит? И к чему, к каким неприятностям следует готовиться?
Дед было захлопотал:
— Не угодно ли рюмочку, ваше благородие? К вечеру холодает, погреться не грех. Дозвольте столик накрыть…
Квартальный, к великому всеобщему страху, от предложенного отказался, чего прежде с ним не случалось, из-под мохнатых бровей оглядел цепкими глазами мастерскую и осведомился:
— Чем торгуете, почтенные?
Вопрос этот был странен и даже нелеп, учитывая, что знал он деда и его лавку с давних пор и, слава богу, лучше других был осведомлен о том, что в ней продается.
Однако, коли начальство спрашивает, следует не мудрствовать, а отвечать, и дед с почтением поклонился:
— Известно чем, Иван Иванович, балалайками, гитарами, гармониками, а более промышляем ремонтом, починкой то есть.
— Я не о том, — насупился квартальный. — Что не самоварами торгуешь, сам знаю, не дурак, поди. А вот своим ли?
— То есть? — не понял дед.
— Не краденым ли? Нет ли в доме чужого?
Тут дед малость посветлел. Мало бы какая нужда может случиться у человека. И отчего ему нужна лишняя полтина. Ибо только так расценил дед теперь визит квартального. Спрашивать, не краденым ли торгуют возле Сухаревки, все одно, что интересоваться у рыбы, не в воде ли она плавает. Кому на Сухаревке не случается продавать краденое? И разве написано на балалайке, ворованная она или куплена в свое время на свои кровные?
У Гошки же при словах квартального все внутри оборвалось. Ему почудилось, что тот, неведомым образом узнав про Гварнери, сейчас направится прямехонько в чуланчик и извлечет узел с инструментом.
— Господь с тобой, Иван Иванович! — запел дед. — Сколько годов меня знаешь, нешто за мной когда какой грех замечался? Или… — дед сделал почтительную паузу, — когда от меня благодарностей в положенный срок не случалось? Молимся за твое здоровьице денно и нощно, и за супругу, и за детишек…
— Ты, Семен, мне глаза не замазывай сладкими словами, — прервал квартальный дедовы медоточивые речи. — Я тебя знаю, и ты меня тоже. Зря не приду. Показывают на тебя, доносят. Прежде не было. А сейчас есть.
— У какого злодея язык-то, чтоб ему отсохнуть, повернулся! — в голос вступилась тетка Пелагея, жена дяди Ивана.
 Дед свирепо зыркнул, тетка захлебнулась, умолкла.
Дед свирепо зыркнул, тетка захлебнулась, умолкла.
— Ваше благородие… — развел руками дед Семен. — Вот те истинный крест… Хоть весь дом обыщи… — Тут Гошкина душа стремглав ринулась в пятки. — Ничего чужого али краденого нетути.
— Я в твоем тряпье да щепках не буду рыться, много чести. А упреждаю — будь аккуратнее.
Повернулся и вон из мастерской. Дед за ним. Донеслись приглушенные голоса. Звякнул дверной колокольчик.
Вошел озабоченный дед.
— Что там, папаша? — спросил Гошкин отец.
— Чудно! — в раздумье произнес дед. — Спервоначалу решил: собирает ребятишкам на молочишко. Однако, похоже, в другом загвоздка. А в чем — не пойму.
Дядя Иван пустился в длинные рассуждения. Гошке они — мимо ушей. Сжался на своем месте. И крепли у него опасения и даже уверенность, что визит квартального необъяснимым, загадочным образом связан с Сережей и его инструментом.
День прошел уныло и тревожно. Всех испугал внезапный приход квартального. А Гошку еще больше насторожила дедова фраза, сказанная вполголоса отцу и дяде Ивану:
— Взять-то взял. Да, похоже, не все в его руках…
Ночь спали худо. Гошка слышал, как на печи ворочается и кряхтит дед, переговариваются шепотом отец с матерью и дядя Иван с теткой Пелагеей. Словно гроза нависла над домом, а какова тому причина, неведомо.
В пятницу, позавтракав кашей с постным маслом, принялись сумрачно за дела. Колом стоял в памяти квартальный.
После обеда припожаловал к Гошке его заказчик Матя. Попался на глаза деду, тот обругал:
— Ты еще тут путаешься, пиявка. Шел бы, не до тебя нынче.
— Обижаешь, сударик. Грех человека, созданного по образу и подобию божьему, уподоблять червю, хотя и полезному в иной час. С бессмертной душой, к тому же…
— Это у тебя душа? Не примечал что-то. Похоже, вместо нее господь медную копейку вложил в твое бренное тело.
— Богохульствуете, Семен Яковлевич…
Но деду было и впрямь не до полунищего барышника. Ушел, оставив Матю в мастерской вдвоем с Гошкой.
И — чудны твои дела, господи! — Гошке показалось, что и Матя, подобно квартальному, шарит глазами по мастерской.
«Со страху мерещится», — решил Гошка.
— На-ко вот, — протянул Мате подлатанный инструмент.
Матя его придирчиво осмотрел, по-видимому, остался доволен. И вздохнул, как показалось Гошке, притворно.
— Только, сударик, расчет потом. Ноне обеднел совсем.
«Начинается! — с тоской подумал Гошка. — Ну, погоди, со мной этот номер не пройдет!»
— Вот что, Матя! — Гошка поднялся с табуретки. — Хоть и перебежал тебе дорогу, но задаром работать не буду. Пока не отдашь деньги, не приходи. И дедом не пугай, отколотит, так не убьет же. Понял?
— Горяч, сударик! Горяч! Все в руках божьих. Нынче одно, завтра совсем другое. Сказано же, пути господни неисповедимы.
— Тумана не напускай. И господь тебе в твоих делах не товарищ…
— Ну, ну, сударик… Кто кому товарищ, не нам, грешным и малым людишкам, судить…
А глаза, ох, нехорошие были глаза у Мати! Сдавалось Гошке, что глумится над ним Матя, словно сознает свою власть и превосходство. И все та же, однажды объявившаяся, виднелась в них болотная трясина, в которую не ступить — посмотреть, — по спине бегут мурашки.
Чувствовал Гошка, не в медяке дело, просто куражится над ним Матя. И как заяц с перепугу кидается на гончих, так Гошка, понимая, что не к добру его ссора с Матей и очень даже не нужна, продолжал:
— Я квартальному пожалуюсь! Он у нас вчера только был.
— Ой, испугал! — схватился дурашливо за голову Матя. — Пропал я тогда, совсем пропал!
— С дедом вино пил! — импровизировал Гошка.
— Вино пил? — без смеха и улыбки переспросил Матя.
— Да! Мадеру!
И опять Гошка понял, что не дело делает, не надо бы этого говорить. И почудилось вовсе несуразное, что не только между Сережей, его скрипкой и квартальным есть неведомая связь. Но что ко всему этому имеет какое-то отношение и Матя.
— Мадеру? — переспросил, прищурившись, Матя. — Чрезвычайно, сударик, любопытные вещи рассказываешь. И много выпили?
Трудно сказать, куда бы завел этот странный разговор, но в мастерскую вошел дядя Иван, и Матя разом переменился, обратясь в прежнего, всей Сухаревке знакомого мелкого жучка, для которого выгаданный пятиалтынный — большая удача, а полтинник — почитай, счастье.
— Мое нижайшее, Иван Семенович! Как здоровьице, как драгоценная супруга?
— Все суетишься, полупочтенный. Слава создателю, пребываем в трудах праведных и молитвах. Бога не гневим и на него не ропщем. На чужую копейку не заримся… — Это уже был камешек в Матин огород, и он, зная доподлинно характер Ивана Яковлева, почел за благо ретироваться.
— Будьте благополучны все. Помолюсь о вас, благодетелях.
За всю свою тринадцатилетнюю жизнь Гошка не испытывал такого нарастающего чувства опасности и страха перед ней. Всякое случалось. И жестокие драки, в которых и Гошка бил, и сам бывал бит, чуть не до полусмерти. Не благородное собрание Сухаревка! А тут будто и впрямь попал в трясину, засасывающую все глубже и глубже.
Сейчас самым горячим Гошкиным желанием было дождаться завтрашнего дня, а с ним Сережу и упросить его забрать Гварнери, из-за которой, как ему казалось, над домом сгущалась гроза.
Ждать Сережу до завтра не пришлось. Смеркалось, когда Гошка услышал донесшийся из передней комнаты веселый голос, который он так не любил.
Сережа вошел в мастерскую чуть пошатываясь, улыбка во весь рот, глаза блестят.
— Эх, хороша жизнь! Что б там ни толковали философы. Сегодня гуляю, Гоша! — Наклонился к младшему приятелю: — Пришел, так сказать, освободить тебя…
Гошка, только что отчаянно хотевший избавиться от скрипки, испугался. Сережа был пьян.
— Выйдем… — предложил.
— Можно! Отчего бы и нет? Гошка, ты отличный человек и верный друг… — Сережа обнял Гошку за плечи.
Вышли во двор. Мартовский день угасал. Повеяло холодом. На небе зажглись звезды, серебрился тонкий серпик луны.
— Гошка, — продолжал Сережа, — я счастлив, как никогда. Я встретил девушку… Нет, не сегодня. Давно. Но мы все время не доверяли сами себе и боялись друг друга. А сегодня… — Сережа счастливо засмеялся. — И я могу сегодня же освободить тебя от Гварнери.
— Понимаешь, Сережа…
Гошка сбивчиво и путанно рассказал о внезапном приходе квартального, его туманных предостережениях, о Мате, который вел себя странно.
Сережа беспечно махнул рукой:
— Пустое! Бывает. Совпадение случайностей, а тебе видится бог знает что. Квартальному понадобились деньги, и он отправился обходить свои владения. Матя, понятно, зол на тебя. Упустил жирный кусок. Развеются все твои призрачные страхи. К завтрашнему дню и думать о них забудешь. Поверь мне!
Очень хотелось Гошке в это верить. Вынес тихонько узел. Отдал Сереже. И спал всю ночь, как прежде, спокойно и безмятежно. Словно гора с плеч!
А утром, вытаращив глаза, прибежала тетка Пелагея и, с трудом переведя дух, еле выговорила:
— Сережу-то Беспалого убили. Нынче ночью. В Грачевом переулке нашли…
Гошка, кое-как одевшись, рванулся на улицу. В Грачевом переулке толпился народ. Гошка вьюном, ловя краем уха разговоры, пробрался вперед, туда, где, окруженный людьми, лежал Сережа. Остекленевшие глаза словно в недоумении — как это могло случиться? — смотрели в небо. Руки раскинуты. Карманы вывернуты. Поодаль — растерзанные остатки узла, с которым покинул двор Яковлевых.
— Чего не убирают? — спросил кто-то.
— Квартального ждут. Господи, какого кроткого агнца погубили. За что? Много ли корысти от него?
— Скрипка! — закричал Гошка. — Из-за скрипки его!
Толпа расступилась, и вперед, сопровождаемый городовым, ступил квартальный:
— Что за шум? Почему сборище? А ну, разойдись!
Последнее говорилось более для порядка. Люди чуть подались назад, дабы показать, что вняли приказу начальства, и тут же сдвинулись, оставляя разве немного более свободного пространства.
— Вот, ваше благородие, человек убитый, — предупредительно пояснил городовой. — Дворник Никита Сысоев нашел.
— Кто таков?
— Сережа Беспалый… — ответило сразу несколько голосов. — Кто его не знает? За что только?
— Карманы вывернуты, ваше благородие, — доложил, точно квартальный не видел этого сам, городовой. — Обыкновенное дело, грабеж!
— Скрипка! — опять рванулся вперед Гошка. — Ваше благородь, скрипка у него была!
Квартальный ухом не повел в сторону Гошки. Словно не слышал его голоса.
— Чего долдонишь: скрипка, скрипка… — донеслось из толпы. — Вон она, скрипка, валяется.
— Приобщить к делу! — приказал квартальный.
Гошка не верил глазам. Из толпы подали обломки скрипки.
— Должно, растоптали в суматохе…
— Не может быть… — оторопел Гошка, провожая растерянным взором все то, что осталось от бесценного творения Гварнери. — Дайте мне!
Он исхитрился перехватить обломки скрипки и крепко прижал их к груди.
Городовой шагнул к Гошке. Тот было хотел нырнуть в толпу, но она не расступилась. И тяжелая рука городового ухватила его за грудки:
— Отдай, сопляк!
Вторая рука городового сгребла остатки скрипки, и, уже выпуская их, Гошка увидел на грифе выцарапанную надпись: «Люба».
— Стойте! Подождите! — не своим голосом закричал Гошка. — Это не та скрипка! Другая! Я ее знаю! Это «Люба»! Матька на рынке купил. Он Гварнери украл! И Сережу убил…
От таких речей не только бабы — мужики, поскидав шапки, принялись креститься:
— Должно, припадочный. Слышь, несет околесицу…
И сколько ни рвался Гошка, как ни протестовал, с помощью доброхотов из публики был связан по рукам и ногам и, дабы не нарушал покоя благородных людей и не смущал обывателей, с кляпом во рту, на той же телеге, что и мертвый Сережа, был доставлен в полицейскую часть. Там передан на попечение длинномордому с пудовыми кулаками полицейскому чину. Тот, словно кутенка, за шиворот схватил Гошку и швырнул в холодную сырую камеру, где, кроме слежавшейся соломы в углу, ничего не было. Гошка с грехом пополам докатился до нее — все не на каменном полу — и затих.
Диким сном, бредом представлялось происходящее.
Казалось, стоит потрясти головой, все станет на свои места: камера обернется дедовой мастерской, и Сережа окажется жив, и даже воскресная стычка с окаянным Матей из яви уйдет в небытие.
С огромным трудом вытолкнул изо рта кляп и освободился от веревок.
И только-только начал расправлять затекшие ноги, дверь камеры распахнулась, и вошел длинномордый.
— Шустер! Кто дозволил?
— Чуть не помер… — Гошка испугался, что его опять свяжут.
— Погоди, может, еще и помрешь… — пообещал длинномордый. — Это у нас проще простого. И чтоб не шуметь у меня! Чтоб тише мыши был, понял?
И поднес к Гошкиному носу огромный волосатый кулак:
— Мне оружию не надо. Одним ударом дух вышибаю…
И чтобы Гошка не почел это за пустую похвальбу и убедился, что имеет дело с человеком серьезным, ткнул — вроде бы и легонько. Гошка отлетел к стене камеры, рот его наполнился кровью.
— За что?.. — закричал и осекся, потому что длинномордый сделал угрожающий шаг.
— За язык. Он, запомни, щенок, не токмо по пословице до Киева, до могилы может довести.
Три дня просидел Гошка в холодной на воде и хлебе, которые ему раз в сутки приносил длинномордый.
Всякое передумал за эти дни Гошка. И ждал, когда его вызовет начальство и он сумеет рассказать все, что знает: назвать имя убийцы и объяснить причину убийства. «А тогда, — размышлял Гошка, — шагать Матьке на каторгу, а может, и на виселицу. Да и квартальному с длинномордым, вероятно, достанется». И репетировал то, что собирался сказать полицейскому начальству, стремясь сделать речь свою покороче, а доводы убедительнее. Днем одолевал голод, ночью — крысы. Но Гошка крепился и ждал своего часа. На четвертый день длинномордый распахнул дверь камеры:
— Выходи! И держи язык за зубами. Еще раз, щенок, попадешься, живым не выпущу!
И сапогом пнул Гошку в зад с такой силой, что тот, завывая, точно побитая собака, покатился по мокрому снегу.
В последнем взгляде длинномордого Гошке почудилось некое знание им того, что ему, Гошке, еще неведомо, но предстоит узнать, и неведомое это худого свойства.
Гошка поднялся и молча, без единого слова, ибо понимал, скажи он что-нибудь длинномордому, перепадет еще больше, поплелся к дому.
Пошатывало от слабости и перенесенных волнений. А весеннее солнышко ласково припекало, словно гладило по щекам теплой ладошкой. Встречавшиеся люди казались веселыми и беззаботными. И от жалости к себе и погибшему другу Гошка беззвучно заплакал. Слезы катились по щекам, солонили губы.
Подводило от голода живот, и Гошка заторопился домой, чтобы хоть поесть вволю впервые за трое с лишним суток. Он представлял себе жирные щи с говядиной или бараниной, сваренные матерью, и аппетитный запах, идущий от них, и прибавил шагу. Свернул с площади на Сретенку, с нее в переулок.
И увидел, что дома не было.
На его месте сиротливо под открытым небом торчала печь с трубой. Вокруг зловещим черным пятном расползалось пепелище. Все было завалено обгоревшими и полуобгоревшими бревнами. Дымились головешки. Зеваки глазели и обменивались замечаниями. По самому пожарищу бродили три скорбные фигуры, в которых Гошка узнал мать, тетку Пелагею и Мишку.
Глава 5
Всеобщую растерянность легко было понять. Простой московский обыватель, мещанин, даже мелкий чиновник всячески избегали полицейской власти, на опыте убедившись, что ничего хорошего встреча с ней не сулит. Обыкновенно квартальный обходил лавки, магазины перед праздниками, собирая дань, чем бог пошлет: где балыком, где бутылкой мадеры, где головкой сыра, а где и серебряной полтиной. Подарки делались добровольно, с почтением, а брались будто нехотя, так уж, чтобы уважить дающего. Но избави господь, кому-нибудь не то чтобы не дать, а презентовать меньше, чем следовало или ожидалось. Тут берегись, беда! И лавку могут закрыть — грязно, мол, содержится. И в полицейскую часть под розги угодить проще простого.
Визит же блюстителя порядка в будний день приводил всякого московского жителя малого ранга в трепет и панику.
Именно в такое состояние поверг Яковлевых внезапный приход квартального. И старые и малые ломали голову: что сей сон значит? И к чему, к каким неприятностям следует готовиться?
Дед было захлопотал:
— Не угодно ли рюмочку, ваше благородие? К вечеру холодает, погреться не грех. Дозвольте столик накрыть…
Квартальный, к великому всеобщему страху, от предложенного отказался, чего прежде с ним не случалось, из-под мохнатых бровей оглядел цепкими глазами мастерскую и осведомился:
— Чем торгуете, почтенные?
Вопрос этот был странен и даже нелеп, учитывая, что знал он деда и его лавку с давних пор и, слава богу, лучше других был осведомлен о том, что в ней продается.
Однако, коли начальство спрашивает, следует не мудрствовать, а отвечать, и дед с почтением поклонился:
— Известно чем, Иван Иванович, балалайками, гитарами, гармониками, а более промышляем ремонтом, починкой то есть.
— Я не о том, — насупился квартальный. — Что не самоварами торгуешь, сам знаю, не дурак, поди. А вот своим ли?
— То есть? — не понял дед.
— Не краденым ли? Нет ли в доме чужого?
Тут дед малость посветлел. Мало бы какая нужда может случиться у человека. И отчего ему нужна лишняя полтина. Ибо только так расценил дед теперь визит квартального. Спрашивать, не краденым ли торгуют возле Сухаревки, все одно, что интересоваться у рыбы, не в воде ли она плавает. Кому на Сухаревке не случается продавать краденое? И разве написано на балалайке, ворованная она или куплена в свое время на свои кровные?
У Гошки же при словах квартального все внутри оборвалось. Ему почудилось, что тот, неведомым образом узнав про Гварнери, сейчас направится прямехонько в чуланчик и извлечет узел с инструментом.
— Господь с тобой, Иван Иванович! — запел дед. — Сколько годов меня знаешь, нешто за мной когда какой грех замечался? Или… — дед сделал почтительную паузу, — когда от меня благодарностей в положенный срок не случалось? Молимся за твое здоровьице денно и нощно, и за супругу, и за детишек…
— Ты, Семен, мне глаза не замазывай сладкими словами, — прервал квартальный дедовы медоточивые речи. — Я тебя знаю, и ты меня тоже. Зря не приду. Показывают на тебя, доносят. Прежде не было. А сейчас есть.
— У какого злодея язык-то, чтоб ему отсохнуть, повернулся! — в голос вступилась тетка Пелагея, жена дяди Ивана.

— Ваше благородие… — развел руками дед Семен. — Вот те истинный крест… Хоть весь дом обыщи… — Тут Гошкина душа стремглав ринулась в пятки. — Ничего чужого али краденого нетути.
— Я в твоем тряпье да щепках не буду рыться, много чести. А упреждаю — будь аккуратнее.
Повернулся и вон из мастерской. Дед за ним. Донеслись приглушенные голоса. Звякнул дверной колокольчик.
Вошел озабоченный дед.
— Что там, папаша? — спросил Гошкин отец.
— Чудно! — в раздумье произнес дед. — Спервоначалу решил: собирает ребятишкам на молочишко. Однако, похоже, в другом загвоздка. А в чем — не пойму.
Дядя Иван пустился в длинные рассуждения. Гошке они — мимо ушей. Сжался на своем месте. И крепли у него опасения и даже уверенность, что визит квартального необъяснимым, загадочным образом связан с Сережей и его инструментом.
День прошел уныло и тревожно. Всех испугал внезапный приход квартального. А Гошку еще больше насторожила дедова фраза, сказанная вполголоса отцу и дяде Ивану:
— Взять-то взял. Да, похоже, не все в его руках…
Ночь спали худо. Гошка слышал, как на печи ворочается и кряхтит дед, переговариваются шепотом отец с матерью и дядя Иван с теткой Пелагеей. Словно гроза нависла над домом, а какова тому причина, неведомо.
В пятницу, позавтракав кашей с постным маслом, принялись сумрачно за дела. Колом стоял в памяти квартальный.
После обеда припожаловал к Гошке его заказчик Матя. Попался на глаза деду, тот обругал:
— Ты еще тут путаешься, пиявка. Шел бы, не до тебя нынче.
— Обижаешь, сударик. Грех человека, созданного по образу и подобию божьему, уподоблять червю, хотя и полезному в иной час. С бессмертной душой, к тому же…
— Это у тебя душа? Не примечал что-то. Похоже, вместо нее господь медную копейку вложил в твое бренное тело.
— Богохульствуете, Семен Яковлевич…
Но деду было и впрямь не до полунищего барышника. Ушел, оставив Матю в мастерской вдвоем с Гошкой.
И — чудны твои дела, господи! — Гошке показалось, что и Матя, подобно квартальному, шарит глазами по мастерской.
«Со страху мерещится», — решил Гошка.
— На-ко вот, — протянул Мате подлатанный инструмент.
Матя его придирчиво осмотрел, по-видимому, остался доволен. И вздохнул, как показалось Гошке, притворно.
— Только, сударик, расчет потом. Ноне обеднел совсем.
«Начинается! — с тоской подумал Гошка. — Ну, погоди, со мной этот номер не пройдет!»
— Вот что, Матя! — Гошка поднялся с табуретки. — Хоть и перебежал тебе дорогу, но задаром работать не буду. Пока не отдашь деньги, не приходи. И дедом не пугай, отколотит, так не убьет же. Понял?
— Горяч, сударик! Горяч! Все в руках божьих. Нынче одно, завтра совсем другое. Сказано же, пути господни неисповедимы.
— Тумана не напускай. И господь тебе в твоих делах не товарищ…
— Ну, ну, сударик… Кто кому товарищ, не нам, грешным и малым людишкам, судить…
А глаза, ох, нехорошие были глаза у Мати! Сдавалось Гошке, что глумится над ним Матя, словно сознает свою власть и превосходство. И все та же, однажды объявившаяся, виднелась в них болотная трясина, в которую не ступить — посмотреть, — по спине бегут мурашки.
Чувствовал Гошка, не в медяке дело, просто куражится над ним Матя. И как заяц с перепугу кидается на гончих, так Гошка, понимая, что не к добру его ссора с Матей и очень даже не нужна, продолжал:
— Я квартальному пожалуюсь! Он у нас вчера только был.
— Ой, испугал! — схватился дурашливо за голову Матя. — Пропал я тогда, совсем пропал!
— С дедом вино пил! — импровизировал Гошка.
— Вино пил? — без смеха и улыбки переспросил Матя.
— Да! Мадеру!
И опять Гошка понял, что не дело делает, не надо бы этого говорить. И почудилось вовсе несуразное, что не только между Сережей, его скрипкой и квартальным есть неведомая связь. Но что ко всему этому имеет какое-то отношение и Матя.
— Мадеру? — переспросил, прищурившись, Матя. — Чрезвычайно, сударик, любопытные вещи рассказываешь. И много выпили?
Трудно сказать, куда бы завел этот странный разговор, но в мастерскую вошел дядя Иван, и Матя разом переменился, обратясь в прежнего, всей Сухаревке знакомого мелкого жучка, для которого выгаданный пятиалтынный — большая удача, а полтинник — почитай, счастье.
— Мое нижайшее, Иван Семенович! Как здоровьице, как драгоценная супруга?
— Все суетишься, полупочтенный. Слава создателю, пребываем в трудах праведных и молитвах. Бога не гневим и на него не ропщем. На чужую копейку не заримся… — Это уже был камешек в Матин огород, и он, зная доподлинно характер Ивана Яковлева, почел за благо ретироваться.
— Будьте благополучны все. Помолюсь о вас, благодетелях.
За всю свою тринадцатилетнюю жизнь Гошка не испытывал такого нарастающего чувства опасности и страха перед ней. Всякое случалось. И жестокие драки, в которых и Гошка бил, и сам бывал бит, чуть не до полусмерти. Не благородное собрание Сухаревка! А тут будто и впрямь попал в трясину, засасывающую все глубже и глубже.
Сейчас самым горячим Гошкиным желанием было дождаться завтрашнего дня, а с ним Сережу и упросить его забрать Гварнери, из-за которой, как ему казалось, над домом сгущалась гроза.
Ждать Сережу до завтра не пришлось. Смеркалось, когда Гошка услышал донесшийся из передней комнаты веселый голос, который он так не любил.
Сережа вошел в мастерскую чуть пошатываясь, улыбка во весь рот, глаза блестят.
— Эх, хороша жизнь! Что б там ни толковали философы. Сегодня гуляю, Гоша! — Наклонился к младшему приятелю: — Пришел, так сказать, освободить тебя…
Гошка, только что отчаянно хотевший избавиться от скрипки, испугался. Сережа был пьян.
— Выйдем… — предложил.
— Можно! Отчего бы и нет? Гошка, ты отличный человек и верный друг… — Сережа обнял Гошку за плечи.
Вышли во двор. Мартовский день угасал. Повеяло холодом. На небе зажглись звезды, серебрился тонкий серпик луны.
— Гошка, — продолжал Сережа, — я счастлив, как никогда. Я встретил девушку… Нет, не сегодня. Давно. Но мы все время не доверяли сами себе и боялись друг друга. А сегодня… — Сережа счастливо засмеялся. — И я могу сегодня же освободить тебя от Гварнери.
— Понимаешь, Сережа…
Гошка сбивчиво и путанно рассказал о внезапном приходе квартального, его туманных предостережениях, о Мате, который вел себя странно.
Сережа беспечно махнул рукой:
— Пустое! Бывает. Совпадение случайностей, а тебе видится бог знает что. Квартальному понадобились деньги, и он отправился обходить свои владения. Матя, понятно, зол на тебя. Упустил жирный кусок. Развеются все твои призрачные страхи. К завтрашнему дню и думать о них забудешь. Поверь мне!
Очень хотелось Гошке в это верить. Вынес тихонько узел. Отдал Сереже. И спал всю ночь, как прежде, спокойно и безмятежно. Словно гора с плеч!
А утром, вытаращив глаза, прибежала тетка Пелагея и, с трудом переведя дух, еле выговорила:
— Сережу-то Беспалого убили. Нынче ночью. В Грачевом переулке нашли…
Гошка, кое-как одевшись, рванулся на улицу. В Грачевом переулке толпился народ. Гошка вьюном, ловя краем уха разговоры, пробрался вперед, туда, где, окруженный людьми, лежал Сережа. Остекленевшие глаза словно в недоумении — как это могло случиться? — смотрели в небо. Руки раскинуты. Карманы вывернуты. Поодаль — растерзанные остатки узла, с которым покинул двор Яковлевых.
— Чего не убирают? — спросил кто-то.
— Квартального ждут. Господи, какого кроткого агнца погубили. За что? Много ли корысти от него?
— Скрипка! — закричал Гошка. — Из-за скрипки его!
Толпа расступилась, и вперед, сопровождаемый городовым, ступил квартальный:
— Что за шум? Почему сборище? А ну, разойдись!
Последнее говорилось более для порядка. Люди чуть подались назад, дабы показать, что вняли приказу начальства, и тут же сдвинулись, оставляя разве немного более свободного пространства.
— Вот, ваше благородие, человек убитый, — предупредительно пояснил городовой. — Дворник Никита Сысоев нашел.
— Кто таков?
— Сережа Беспалый… — ответило сразу несколько голосов. — Кто его не знает? За что только?
— Карманы вывернуты, ваше благородие, — доложил, точно квартальный не видел этого сам, городовой. — Обыкновенное дело, грабеж!
— Скрипка! — опять рванулся вперед Гошка. — Ваше благородь, скрипка у него была!
Квартальный ухом не повел в сторону Гошки. Словно не слышал его голоса.
— Чего долдонишь: скрипка, скрипка… — донеслось из толпы. — Вон она, скрипка, валяется.
— Приобщить к делу! — приказал квартальный.
Гошка не верил глазам. Из толпы подали обломки скрипки.
— Должно, растоптали в суматохе…
— Не может быть… — оторопел Гошка, провожая растерянным взором все то, что осталось от бесценного творения Гварнери. — Дайте мне!
Он исхитрился перехватить обломки скрипки и крепко прижал их к груди.
Городовой шагнул к Гошке. Тот было хотел нырнуть в толпу, но она не расступилась. И тяжелая рука городового ухватила его за грудки:
— Отдай, сопляк!
Вторая рука городового сгребла остатки скрипки, и, уже выпуская их, Гошка увидел на грифе выцарапанную надпись: «Люба».
— Стойте! Подождите! — не своим голосом закричал Гошка. — Это не та скрипка! Другая! Я ее знаю! Это «Люба»! Матька на рынке купил. Он Гварнери украл! И Сережу убил…
От таких речей не только бабы — мужики, поскидав шапки, принялись креститься:
— Должно, припадочный. Слышь, несет околесицу…
И сколько ни рвался Гошка, как ни протестовал, с помощью доброхотов из публики был связан по рукам и ногам и, дабы не нарушал покоя благородных людей и не смущал обывателей, с кляпом во рту, на той же телеге, что и мертвый Сережа, был доставлен в полицейскую часть. Там передан на попечение длинномордому с пудовыми кулаками полицейскому чину. Тот, словно кутенка, за шиворот схватил Гошку и швырнул в холодную сырую камеру, где, кроме слежавшейся соломы в углу, ничего не было. Гошка с грехом пополам докатился до нее — все не на каменном полу — и затих.
Диким сном, бредом представлялось происходящее.
Казалось, стоит потрясти головой, все станет на свои места: камера обернется дедовой мастерской, и Сережа окажется жив, и даже воскресная стычка с окаянным Матей из яви уйдет в небытие.
С огромным трудом вытолкнул изо рта кляп и освободился от веревок.
И только-только начал расправлять затекшие ноги, дверь камеры распахнулась, и вошел длинномордый.
— Шустер! Кто дозволил?
— Чуть не помер… — Гошка испугался, что его опять свяжут.
— Погоди, может, еще и помрешь… — пообещал длинномордый. — Это у нас проще простого. И чтоб не шуметь у меня! Чтоб тише мыши был, понял?
И поднес к Гошкиному носу огромный волосатый кулак:
— Мне оружию не надо. Одним ударом дух вышибаю…
И чтобы Гошка не почел это за пустую похвальбу и убедился, что имеет дело с человеком серьезным, ткнул — вроде бы и легонько. Гошка отлетел к стене камеры, рот его наполнился кровью.
— За что?.. — закричал и осекся, потому что длинномордый сделал угрожающий шаг.
— За язык. Он, запомни, щенок, не токмо по пословице до Киева, до могилы может довести.
Три дня просидел Гошка в холодной на воде и хлебе, которые ему раз в сутки приносил длинномордый.
Всякое передумал за эти дни Гошка. И ждал, когда его вызовет начальство и он сумеет рассказать все, что знает: назвать имя убийцы и объяснить причину убийства. «А тогда, — размышлял Гошка, — шагать Матьке на каторгу, а может, и на виселицу. Да и квартальному с длинномордым, вероятно, достанется». И репетировал то, что собирался сказать полицейскому начальству, стремясь сделать речь свою покороче, а доводы убедительнее. Днем одолевал голод, ночью — крысы. Но Гошка крепился и ждал своего часа. На четвертый день длинномордый распахнул дверь камеры:
— Выходи! И держи язык за зубами. Еще раз, щенок, попадешься, живым не выпущу!
И сапогом пнул Гошку в зад с такой силой, что тот, завывая, точно побитая собака, покатился по мокрому снегу.
В последнем взгляде длинномордого Гошке почудилось некое знание им того, что ему, Гошке, еще неведомо, но предстоит узнать, и неведомое это худого свойства.
Гошка поднялся и молча, без единого слова, ибо понимал, скажи он что-нибудь длинномордому, перепадет еще больше, поплелся к дому.
Пошатывало от слабости и перенесенных волнений. А весеннее солнышко ласково припекало, словно гладило по щекам теплой ладошкой. Встречавшиеся люди казались веселыми и беззаботными. И от жалости к себе и погибшему другу Гошка беззвучно заплакал. Слезы катились по щекам, солонили губы.
Подводило от голода живот, и Гошка заторопился домой, чтобы хоть поесть вволю впервые за трое с лишним суток. Он представлял себе жирные щи с говядиной или бараниной, сваренные матерью, и аппетитный запах, идущий от них, и прибавил шагу. Свернул с площади на Сретенку, с нее в переулок.
И увидел, что дома не было.
На его месте сиротливо под открытым небом торчала печь с трубой. Вокруг зловещим черным пятном расползалось пепелище. Все было завалено обгоревшими и полуобгоревшими бревнами. Дымились головешки. Зеваки глазели и обменивались замечаниями. По самому пожарищу бродили три скорбные фигуры, в которых Гошка узнал мать, тетку Пелагею и Мишку.
Глава 5
ХОРОША ЛИ НАСТОЕЧКА?
Дом загорелся во вторую половину ночи, в самый крепкий сон. Со всех четырех углов. Разом заполыхали крыльцо и сени. В лавке со звоном разлетелось окно, и оттуда тоже рванулось пламя. Яковлевы повыскакивали в одном исподнем и благодарили бога, что остались живы.
На счастье соседям, стояла ясная безветренная ночь. Смоляным факелом вспыхнул домишко и в считанные минуты сгорел дотла. Когда прискакали пожарники Сретенской части, что была совсем близко, красные головешки играли синими огнями. Даже любители происшествий опоздали. Собралась лишь маленькая кучка зевак. Один, почти с восхищением, заметил:
— Чисто сработано!
Яковлевы — мужики в подштанниках и рубахах, бабы в ночных сорочках, — потрясенные, стояли столбами, даже не пытались сунуться в нестерпимое пекло, чтобы спасти хоть что-нибудь из пожитков или одежды. Сухим, словно порох, деревом были набиты лавка и мастерская.
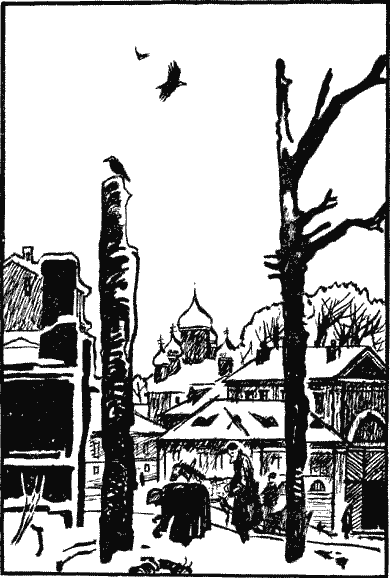 Кое-кто из соседей, охая и причитая, вынес старой одежонки и обувки — студно людям раздетым и босым на талом снегу. А тут новая песня. Подоспевший квартальный свирепо рявкнул:
Кое-кто из соседей, охая и причитая, вынес старой одежонки и обувки — студно людям раздетым и босым на талом снегу. А тут новая песня. Подоспевший квартальный свирепо рявкнул:
— Всех в холодную!
Дед Семен оторопел:
— Господь с тобой, ваше благородие Иван Иванович! За что?! Беда стряслась, и нас же в кутузку…
— Молчать!
В Сретенской части, куда доставили Яковлевых, из потерпевших от пожара, а точнее говоря, от явного поджога, они превратились в обвиняемых. Владелец сгоревшего дома был приметно выпивши, выглядел очумело и нес околесицу:
— Сколько разов говорил: не шути с огнем, не балуй! Рази им играют? Упреждал, а они жгут и жгут… не прибирают… Разорили, анафемы каторжные, дотла…
Кто и когда шутил с огнем у Яковлевых? Что они жгли? На абсурдные и несуразные обвинения Яковлевым не позволили возразить и словом. Сказано было:
— Чтоб в двадцать четыре часа в Москве духа не было. Иначе — Сибирь! Ясно?!
— Куда яснее… — бормотал ошарашенный дед Семен по дороге из полицейской части на пепелище, которое лишь вчера было домом. Хотя ясно было только одно: убираться надо тотчас во избежание еще больших напастей. А вот отчего такие беды, дед, теряясь в догадках, ничего вразумительного в объяснение придумать не мог. Который год жил в здешних местах, поэтому, снявши чужую шапку, пошел обходить соседей, чтобы занять на долгую дорогу деньжат и одолжиться харчем. Давали, но торопливо, словно бы с опаской, точно над Яковлевыми рок навис, который своими темными крылами может задеть всякого, кто приблизится к ним.
— Будто от чумных шарахаются, — заметила тетка Пелагея озадаченно. — Ровно подменили людей.
Решено было так. Все — делать нечего — отправляются в Никольское, имение господ Триворовых. А дед тайком остается в Москве. Господам положили сказать: занедужил дед Семен от беды, годы немолодые. Как поправится, будет беспромедлительно в Никольском. На самом деле оставался дед в надежде удержаться в Москве и со временем вдругорядь вызволить семью из барщинной доли. Жительство дед должен был переменить на возможно далекое и от Сухаревской площади и от Сретенской части. Дед надеялся обосноваться поблизости от Пятницкой улицы, где издавна селились музыкальные мастера. Однако, полагая, что за ним будет глаз, отправились все вместе, будто бы держа путь в родную губернию.
Гошку, несмотря на собственные беды, все время точила мысль о домике на Арбате и о невыполненном обещании помочь с продажей скрипки. Пройдя вместе со всеми до Тверской, он передал брату мешок, болтавшийся за плечами:
— К приятелю надо забежать.
И, благо дорога, которой следовало идти, была оговорена многократно, нырнул в ближайший переулок. Крикнул на ходу:
— Догоню, не бойсь!
Без труда нашел маленький облупившийся домик, но в дверь постучал с робостью, вестей-то добрых не принес. Дверь отворила знакомая кухарка, которая, в отличие от первого раза, узнала его и приметно обрадовалась, хотя проворчала:
— Чище ноги вытирай. Убирать, чать мне приходится.
Гошка объяснил, косясь на Соню:
— Вы не глядите на мою одежку. Сгорели мы…
И торопливо, опасаясь, что его перебьют, рассказал все события последней недели, включая смерть Сережи и свои догадки относительно причастности к ней Амати-Матьки. Его выслушали с видимым интересом, причем мать с дочерью, как заметил Гошка, несколько раз переглянулись.
— Быть может, выпьешь с нами чаю? — спросила Вера Андреевна.
Гошка, польщенный таким предложением, заколебался. Было бы сказочным счастьем сесть за один стол с Верой Андреевной и Соней. Однако Гошка боялся, что его длительное отсутствие встревожит родных, а кроме того, опасался допустить оплошность за чаем.
— Правда, садитесь… — подтвердила приглашение матери Соня. — Как вас зовут?
— Гошка.
— Видите ли, Жорж, — сказала Соня. — Этот человек, Амати, был у нас вчера.
Гошка, присевший было на краешек стула, подскочил, точно ужаленный.
— И вы отдали ему скрипку?! — Гошка даже оставил без внимания свое превращение в Жоржа.
Мать и дочь переглянулись.
— Я сказала, — ответила мать, — что мы уже продали инструмент.
Гошка с облегчением опустился на стул, но тут же спохватился:
— Он вам поверил?
— Во всяком случае, сделал вид, что верит.
— Плохо, что Матька пронюхал, где вы живете. Он на все способен.
— Я скрывала от друзей наше бедственное положение. Потому и совершила опрометчивый шаг, отправившись на Сухаревку. Теперь я объявила, что хочу продать скрипку. Буквально на днях ее возьмут.
— Скорее бы!
— Мы учтем твое предостережение. Кстати, не желаешь ли как следует посмотреть инструмент?
Гошку давно распирало любопытство. Но он стеснялся просить Веру Андреевну.
— Очень! Я ведь ее тогда не разглядел. Понял только, что из хороших…
— Сейчас принесу, — вызвалась Соня и через минуту протянула знакомый Гошке футляр: — Пожалуйста.
Гошка раскрыл футляр. Да, не ошибся тогда на Сухаревке — итальянская скрипка прекрасной работы. Заглянул внутрь, на нижней деке — этикет, из которого явствовало, что изготовлена она мастером Санто Серафино в 1749 году. С теплотой и грустью вспомнил Сережу, благодаря которому он мог с достаточным знанием дела говорить об инструменте, случайно оказавшемся в руках:
— Это венецианская школа. Видите, какой замечательный, чистый, прозрачный и нежный лак? По нему узнают венецианцев, так учил меня Сережа. А нижняя дека сделана из клена, породы «птичий глаз». Она как будто вся в мелких сучках. Такое дерево, как объяснял Сережа, редко встречается на итальянских инструментах.
— Но это хорошая скрипка, Жорж?
— Да, барышня. Сережа, правда, говорил, что у Санто Серафино встречаются очень разные инструменты. Он часто подражал работам Николо Амати, и не всегда удачно. Но этот инструмент, судя по всему, отличный.
Провожали Гошку все трое — Вера Андреевна, Соня, Настя — сердечно, с тревогой, как близкого.
— Если вдруг окажешься в Москве и нужен будет кров, приходи к нам, — сказала Вера Андреевна. — Кстати, где находится поместье твоих господ?
Гошка сказал.
— Помните о нас, Жорж, — добавила Соня.
А практичная Настя сунула узелок с едой и двугривенный:
— Пригодится в дороге.
Многое хотелось Гошке сказать людям, которые, сами попав в беду, стремятся ободрить его и даже предлагают свою помощь. Но он только поклонился в пояс:
— Я вас никогда не забуду. И остерегайтесь Матьки!
Родных Гошка догнал на окраине Москвы. Тетка Пелагея было взъелась на него. Дед оборвал:
— Будет! Без тебя тошно!
— Гуськовы тут причиной, — продолжал дядя Иван до Гошки начатый разговор. — Ихние проделки. Сказывали, бахвалился Юшка Гуськов на прошлой неделе в трактире: окоротим Яковлевых скоро. Больно много стали понимать о себе…
На счастье соседям, стояла ясная безветренная ночь. Смоляным факелом вспыхнул домишко и в считанные минуты сгорел дотла. Когда прискакали пожарники Сретенской части, что была совсем близко, красные головешки играли синими огнями. Даже любители происшествий опоздали. Собралась лишь маленькая кучка зевак. Один, почти с восхищением, заметил:
— Чисто сработано!
Яковлевы — мужики в подштанниках и рубахах, бабы в ночных сорочках, — потрясенные, стояли столбами, даже не пытались сунуться в нестерпимое пекло, чтобы спасти хоть что-нибудь из пожитков или одежды. Сухим, словно порох, деревом были набиты лавка и мастерская.
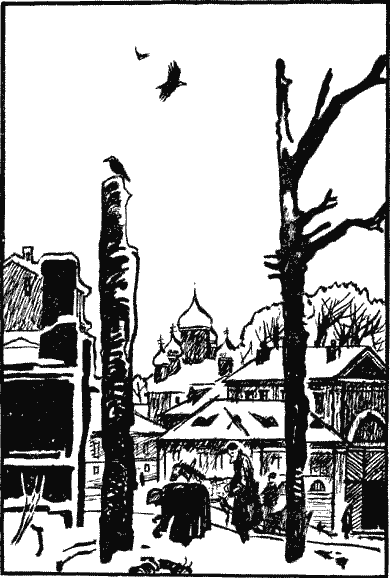
— Всех в холодную!
Дед Семен оторопел:
— Господь с тобой, ваше благородие Иван Иванович! За что?! Беда стряслась, и нас же в кутузку…
— Молчать!
В Сретенской части, куда доставили Яковлевых, из потерпевших от пожара, а точнее говоря, от явного поджога, они превратились в обвиняемых. Владелец сгоревшего дома был приметно выпивши, выглядел очумело и нес околесицу:
— Сколько разов говорил: не шути с огнем, не балуй! Рази им играют? Упреждал, а они жгут и жгут… не прибирают… Разорили, анафемы каторжные, дотла…
Кто и когда шутил с огнем у Яковлевых? Что они жгли? На абсурдные и несуразные обвинения Яковлевым не позволили возразить и словом. Сказано было:
— Чтоб в двадцать четыре часа в Москве духа не было. Иначе — Сибирь! Ясно?!
— Куда яснее… — бормотал ошарашенный дед Семен по дороге из полицейской части на пепелище, которое лишь вчера было домом. Хотя ясно было только одно: убираться надо тотчас во избежание еще больших напастей. А вот отчего такие беды, дед, теряясь в догадках, ничего вразумительного в объяснение придумать не мог. Который год жил в здешних местах, поэтому, снявши чужую шапку, пошел обходить соседей, чтобы занять на долгую дорогу деньжат и одолжиться харчем. Давали, но торопливо, словно бы с опаской, точно над Яковлевыми рок навис, который своими темными крылами может задеть всякого, кто приблизится к ним.
— Будто от чумных шарахаются, — заметила тетка Пелагея озадаченно. — Ровно подменили людей.
Решено было так. Все — делать нечего — отправляются в Никольское, имение господ Триворовых. А дед тайком остается в Москве. Господам положили сказать: занедужил дед Семен от беды, годы немолодые. Как поправится, будет беспромедлительно в Никольском. На самом деле оставался дед в надежде удержаться в Москве и со временем вдругорядь вызволить семью из барщинной доли. Жительство дед должен был переменить на возможно далекое и от Сухаревской площади и от Сретенской части. Дед надеялся обосноваться поблизости от Пятницкой улицы, где издавна селились музыкальные мастера. Однако, полагая, что за ним будет глаз, отправились все вместе, будто бы держа путь в родную губернию.
Гошку, несмотря на собственные беды, все время точила мысль о домике на Арбате и о невыполненном обещании помочь с продажей скрипки. Пройдя вместе со всеми до Тверской, он передал брату мешок, болтавшийся за плечами:
— К приятелю надо забежать.
И, благо дорога, которой следовало идти, была оговорена многократно, нырнул в ближайший переулок. Крикнул на ходу:
— Догоню, не бойсь!
Без труда нашел маленький облупившийся домик, но в дверь постучал с робостью, вестей-то добрых не принес. Дверь отворила знакомая кухарка, которая, в отличие от первого раза, узнала его и приметно обрадовалась, хотя проворчала:
— Чище ноги вытирай. Убирать, чать мне приходится.
Гошка объяснил, косясь на Соню:
— Вы не глядите на мою одежку. Сгорели мы…
И торопливо, опасаясь, что его перебьют, рассказал все события последней недели, включая смерть Сережи и свои догадки относительно причастности к ней Амати-Матьки. Его выслушали с видимым интересом, причем мать с дочерью, как заметил Гошка, несколько раз переглянулись.
— Быть может, выпьешь с нами чаю? — спросила Вера Андреевна.
Гошка, польщенный таким предложением, заколебался. Было бы сказочным счастьем сесть за один стол с Верой Андреевной и Соней. Однако Гошка боялся, что его длительное отсутствие встревожит родных, а кроме того, опасался допустить оплошность за чаем.
— Правда, садитесь… — подтвердила приглашение матери Соня. — Как вас зовут?
— Гошка.
— Видите ли, Жорж, — сказала Соня. — Этот человек, Амати, был у нас вчера.
Гошка, присевший было на краешек стула, подскочил, точно ужаленный.
— И вы отдали ему скрипку?! — Гошка даже оставил без внимания свое превращение в Жоржа.
Мать и дочь переглянулись.
— Я сказала, — ответила мать, — что мы уже продали инструмент.
Гошка с облегчением опустился на стул, но тут же спохватился:
— Он вам поверил?
— Во всяком случае, сделал вид, что верит.
— Плохо, что Матька пронюхал, где вы живете. Он на все способен.
— Я скрывала от друзей наше бедственное положение. Потому и совершила опрометчивый шаг, отправившись на Сухаревку. Теперь я объявила, что хочу продать скрипку. Буквально на днях ее возьмут.
— Скорее бы!
— Мы учтем твое предостережение. Кстати, не желаешь ли как следует посмотреть инструмент?
Гошку давно распирало любопытство. Но он стеснялся просить Веру Андреевну.
— Очень! Я ведь ее тогда не разглядел. Понял только, что из хороших…
— Сейчас принесу, — вызвалась Соня и через минуту протянула знакомый Гошке футляр: — Пожалуйста.
Гошка раскрыл футляр. Да, не ошибся тогда на Сухаревке — итальянская скрипка прекрасной работы. Заглянул внутрь, на нижней деке — этикет, из которого явствовало, что изготовлена она мастером Санто Серафино в 1749 году. С теплотой и грустью вспомнил Сережу, благодаря которому он мог с достаточным знанием дела говорить об инструменте, случайно оказавшемся в руках:
— Это венецианская школа. Видите, какой замечательный, чистый, прозрачный и нежный лак? По нему узнают венецианцев, так учил меня Сережа. А нижняя дека сделана из клена, породы «птичий глаз». Она как будто вся в мелких сучках. Такое дерево, как объяснял Сережа, редко встречается на итальянских инструментах.
— Но это хорошая скрипка, Жорж?
— Да, барышня. Сережа, правда, говорил, что у Санто Серафино встречаются очень разные инструменты. Он часто подражал работам Николо Амати, и не всегда удачно. Но этот инструмент, судя по всему, отличный.
Провожали Гошку все трое — Вера Андреевна, Соня, Настя — сердечно, с тревогой, как близкого.
— Если вдруг окажешься в Москве и нужен будет кров, приходи к нам, — сказала Вера Андреевна. — Кстати, где находится поместье твоих господ?
Гошка сказал.
— Помните о нас, Жорж, — добавила Соня.
А практичная Настя сунула узелок с едой и двугривенный:
— Пригодится в дороге.
Многое хотелось Гошке сказать людям, которые, сами попав в беду, стремятся ободрить его и даже предлагают свою помощь. Но он только поклонился в пояс:
— Я вас никогда не забуду. И остерегайтесь Матьки!
Родных Гошка догнал на окраине Москвы. Тетка Пелагея было взъелась на него. Дед оборвал:
— Будет! Без тебя тошно!
— Гуськовы тут причиной, — продолжал дядя Иван до Гошки начатый разговор. — Ихние проделки. Сказывали, бахвалился Юшка Гуськов на прошлой неделе в трактире: окоротим Яковлевых скоро. Больно много стали понимать о себе…
