Геомар Куликов
Спокойствие не восстановлено
Историческая повесть
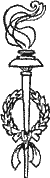

Глава 1
АМАТИ С СУХАРЕВКИ
Прекрасен город Кремона!
Живописно раскинулся он на правом берегу реки По в широкой благодатной долине, пролегшей меж предгорьями Альп и Пиренеев. Далече ему, понятно, до Рима, Флоренции или соседнего Милана, куда валом валят путешественники со всего света. Ну, да у Кремоны своя слава. Здесь, в некогда тихом провинциальном городке, родился, жил и создавал свои удивительные инструменты скрипичный мастер Андреа Амати. Ему наследовали в ремесле сыновья Андреа Антонио и Джеромо. Николо Амати, сын Джеромо и внук Андреа, превзошел в своем искусстве и отца и деда и был учителем несравненного Антонио Страдивари.
Однако было бы глубочайшим заблуждением полагать, что Кремона была единственным городом, а Италия единственной страной, которые пользовались исключительной привилегией на людей, откликавшихся на имя Амати.
В описываемую нами пору, в году 1860-м, далеконько от вечнозеленых кущ и бирюзового неба солнечной Италии, в снежной и суровой, с точки зрения иностранца, России, в ее первопрестольном граде Москве, на одном из сутолочных ее торжищ, а именно — Сухаревском рынке, всякий его завсегдатай, равно покупатель или продавец, с готовностью объяснял:
— Амати? Как не знать! Эва, тот длинный, в зеленой фуражке, со скрипкой под мышкой.
И указывал на высокого худощавого человека, неопределенного возраста, одетого в короткое, не по росту, видать, с чужого плеча, пальтецо и в зеленой фуражке, похожего на прогнанного со службы чиновника или служащего.
Сразу поясним. Указанный человек родством не касался знаменитых итальянских мастеров. И даже не был их однофамильцем.
Амати, на повседневном Сухаревском обиходе — Матя или Матька, было его прозвище. Тем самым, что иной раз прилипает банным листом к человеку на всю жизнь, начисто вытесняя из памяти окружающих имя-отчество и фамилию.
Амати промышлял тем, что покупал сломанные музыкальные инструменты: балалайки, гитары, скрипки или новомодные гармоники, с чужой помощью кое-как скреплял-склеивал их и тут же, на Сухаревке, продавал. И не печалился, зная, что его товар развалится через неделю, а то и на другой день. И в укор ему это редко кто ставил. Ибо Сухаревкой правило твердое убеждение: не обманешь — не продашь.
Впрочем, жульничество длинного, нескладного, всегда заискивающе улыбающегося Мати было столь наивным, что на него мог попасться разве уж вовсе несмышленый покупатель. Всякую сиплоголосую развалюху-гармошку он продавал, как бергеровскую, то есть произведенную в немецкой земле известной фирмой Бергера. А коли в его руки попадала скрипка, сработанная хоть тут же недалече — на Мясницкой, то аттестовал ее не иначе, как изделие знаменитых итальянцев Амати.
Сухаревские шутники разыгрывали иной раз для свежего человека или просто для собственного удовольствия маленький спектакль. Взявши из рук Матьки плохонькую, неумелой работы скрипку, вместо благородного лака покрытую охрой или суриком, оглядевши ее со всех сторон и извлекши смычком несколько душераздирающих звуков, кто-нибудь глубокомысленно рёк:
— Тут, Матя, ты, пожалуй, промахнулся. Изменил тебе верный глаз. Это не иначе, как сам Страдивариус!
На что Матя твердо отвечал:
— Нет, сударик мой. Лишнего не хочу. Произведен к жизни сей инструмент, может, и в совершенную его пору, но по-ихнему Николо, а по-нашему Николаем Амати, из итальянского города Кремоны.
И никакими силами невозможно было сбить его с издавна и прочно занятой позиции.
Стойкой приверженностью к фамилии Амати долговязый человек в неизменной — зимой и летом — зеленой фуражке, со следами споротой кокарды, и был обязан своим прозвищем, коим, кстати сказать, словно бы и гордился, будто оно впрямь как-то роднило его с прославленными итальянцами.
У Яковлевых, музыкальных мастеров, обитавших в одном из переулков близ Сухаревой башни, Матя хоть и был частым гостем, однако не пользовался почетом.
— Свистун, — говорил дед Семен, — шаромыжник.
Чинить инструменты, которые приносил Матя, дед и Гошкин отец отказывались наотрез, ибо просил он неизменно:
— Ты, сударик, очень-то не старайся. Хорошая работа стоит хороших денег. А у меня откуда им взяться?
Делать на живую нитку было противно дедову естеству, к тому же с Гошкиным отцом он был завален серьезной работой и дорожил и временем своим, и именем.
Дядя Иван брался за Аматины развалюхи с такими пространными рассуждениями, в которых порицал людей недобросовестных, весьма прозрачно намекая на заказчика, что Матя его избегал. Старший Гошкин брат, обстоятельный Мишка, сам норовил выжать из заказчика лишнюю копейку, что было Мате не с руки. Оставался один простосердечный Гошка. Он-то и оказывался, как правило, исполнителем заказов.
В то памятное воскресенье, наскоро позавтракав, Гошка чуть свет отправился, по обыкновению, на Сухаревку. Это был Гошкин день, которого он нетерпеливо ждал всю неделю.
Занятным местом была Сухаревка. И даже таинственным. Занятным — своей рыночной толчеей, где продавались и провизия, и старая мебель, и обувь, и одежда, новая и подержанная, и картины, и статуэтки, и музыкальные инструменты, и книги, хотя книжной торговлей она уступала Смоленскому рынку. А таинственным — Сухаревой башней, о которой среди москвичей шли жутковатые рассказы, как о месте нечистом, связанном с самим дьяволом. Говорили, что скрыты в ней черные книги, содержащие магические знания. Даже будто бы хранилась там бутылка с живой человеческой головой, уменьшенной волшебством до размеров куриного яйца. И коли случалось Гошке проходить в потемках мимо башни, озирался он на нее с опаской, творил про себя молитву: «Господи, помилуй…» — и стремился поспешно миновать.
Днем рассеивались, таяли ночные призраки. И громоздкое сооружение, возведенное еще Петром Первым, превращалось в то, чем оно и было сейчас — водонапорную башню, питавшую московские фонтаны отличной мытищинской водой.
Впрочем, свежему человеку Сухаревка и днем соблазн и опаска. Без нечистой силы и дьявольских чар — людской хитроватостью. Бились об заклад Сухаревские сапожники в дождливый день: выйдет ли покупатель в обновке, у них купленной, с рынка, или тут же на глазах развалятся нарядные с виду сапоги, к великому ужасу и отчаянию их обладателя. И золотые вещицы искушались покупать новички, показываемые из-под полы: краденые, мол, потому и дешевы. Ан, на поверку оборачивались часы или перстень золотом самоварного завода. А сухаревцы посмеивались: на грош пятаков восхотелось приобресть — получай, милок, радуйся!
Для Гошки Сухаревка — родная стихия, все равно, как вода для рыбы. Что греха таить, и ему мечталось за бесценок ухватить стоящую вещь. И так бывало. Исхитрился прошлым летом антиквар, по прозвищу «Лупоглазый», за три рубля купить подлинного Джорджоне, великого итальянского живописца, которого сбыл в ту же неделю за полтораста целковых. Да еще горько сетовал вскорости, потому что к следующему владельцу полотно ушло за двести пятьдесят.
Ввинтившись штопором в пеструю разноголосую и, как уже сказано, опасную для новичка толпу, Гошка принялся наметанным глазом шарить по сторонам. И увидел то, отчего сразу дрогнуло сердце, как у охотника, приметившего добычу. Среди обычного Сухаревского люда: торгашей, покупателей, ленивых зевак, нищих в ободранных, латаных-перелатаных одежках — стояла барыня со скрипичным футляром в руках. Она растерянно озиралась вокруг, очевидно уже сожалея, что оказалась в столь чуждом для себя окружении и в столь странной для себя роли. Подле барыни, словно птица, охраняющая несмышленого птенца, стояла встревоженная прислуга, женщина на возрасте, с широким и плоским совиным лицом.
Однако не успел Гошка и шагу сделать в сторону барыни, как перед ней возникла высокая, тощая фигура Амати.
Раздосадованному Гошке не оставалось ничего другого, как наблюдать за действиями своего постоянного заказчика.
— Простите, сударыня! — Амати галантно поклонился. — Если угадал, вы принесли на продажу инструмент?
— Да, я бы хотела… — проговорила поспешно барыня, со смешанным чувством недоверия и надежды глядя на Амати.
— Не извольте беспокоиться, мадам… — Амати добавил несколько слов по-французски. — Я, видите ли, музыкант. Если разрешите…
— Да, разумеется… — Барыня протянула футляр.
Амати раскрыл футляр. Гошка зажмурился. На черном бархате, отсвечивая золотистым лаком, покоился прекрасный инструмент. Нет, не Страдивари, не Гварнери, не один из Амати. Но, несомненно, старой, прекрасной итальянской работы.
— М-да… — Матя воровато огляделся.
Заметив Гошку и узнав его, сказал, словно чужому:
— Ты бы шел, мальчик, своей дорогой…
И подмигнул: иди, мол, иди. За мной не пропадет!
Гошке вдруг стало жалко молодую барыню. Должно быть, не от хорошей жизни пришла сюда. Он усмехнулся:
— Делай свое дело, дядя. А я погляжу…
Матя под Гошкиным взглядом заторопился. Он вынул инструмент. Оглядел со всех сторон. Осторожно потрогал струны. И вздохнул:
— Да, мадам, это, увы, не Страдивариус… Если желаете, три рубля.
Гошка знал Сухаревские порядки, нагляделся всякого. Однако Матькино нахальство его потрясло.
— Позвольте… — запротестовала барыня. От волнения ее лицо пошло пятнами. — Я не привыкла торговаться, но муж купил скрипку, когда мы были в Италии, и заплатил, если не ошибаюсь…
— О, пардон, сударыня… — соболезнующе прервал ее Матя. — Иностранцам, особенно доверчивым русским, чего только не всучат лукавые итальянские торговцы. Вот послушайте…
Матя постучал сначала по верхней, потом по нижней деке.
— Инструмент не резонирует. Это всего лишь подделка под старых итальянцев. Так и быть — пять рублей, но не более. Племяннику — он берет любительские уроки — на первых порах, возможно, сойдет…
У барыни навернулись слезы. Прислуга, того и гляди, готова была вмешаться в разговор. Но видно, уж очень нужны были деньги, даже эти мизерные пять рублей, потому что барыня заколебалась. Уловил это и Матя.
— Увы! Все мы иногда бываем жертвами откровенного надувательства…
Амати полез в карман за деньгами.
Гошка не выдержал:
— Он шутит, сударыня. Он вообще большой шутник. Скрипке цена рублей сто, а может, и двести.
Барыня растерянно перевела взгляд с Амати на Гошку и опять на Амати.
— Бог с тобой, мальчик! — скривился Матя. — Кто тебя просит вмешиваться в чужие дела? И что ты понимаешь в скрипках?
Гошка засмеялся:
— Да уж побольше твоего!
Со стороны к скрипке протянулась рука:
— Дозвольте-ка…
Ни Гошка, ни барыня, ни Матя не заметили, что их обступили сухаревские ловкачи.
«Уведут скрипку! — мелькнуло в Гошкиной голове. — Как пить дать, уведут!» И он торопливо сказал:
— Уходите, сударыня…
Та и сама почувствовала, что начинается вовсе скверное, решительно взяла — почти вырвала — из руки Мати инструмент, поспешно сунула его в футляр и столь же поспешно и решительно шагнула из толпы.
Ей вслед засвистели, заулюлюкали.
Амати обернулся к Гошке:
— Ты, сударик, как собака на сене: сам не ешь и другим мешаешь.
— В тебе, Матя, совести нет! Инструменту цена, может, все триста рублей. А ты — синенькую…
— Напрасно, Гоша. Так с друзьями не поступают…
Гошке почудилась угроза — не угроза, а какая-то жесткость, которой он прежде не замечал у Мати да и предполагать не мог.
А тот продолжал:
— Я себе такого мастера, как ты, найду всегда. А есть ли у тебя еще такой заказчик, как я, а?
Гошка смутился.
У них с Матей был общий секрет.
Гошкин дед отличался чудовищной скаредностью. Скупому рыцарю, про которого рассказано в сочинении Александра Сергеевича Пушкина, далеко было до деда Семена. Что там рубль или гривенник, из-за каждой медной полушки, упущенной или неладно, на его взгляд, истраченной, поедом ел близких. Гошка же совершал, по дедовой мерке, тягчайшее преступление: утаивал получаемые от Мати пятаки и гривенники.
Гошкиной страстью были книги. На них он и тратил свой подпольный заработок.
— Каково будет, ежели дед дознается про наши с тобой делишки? — закончил Матя без обычной своей улыбки.
У Гошки по спине забегали мурашки.
— Откуда бы?
Не отвечая на Гошкин вопрос, Матя опять без улыбки заметил:
— Ты, сударик, дорогу людям перебегай с оглядкой. Не ровен час, можно и осклизнуться.
— Жалко ее сделалось… — оправдываясь, сказал Гошка. — Не от хорошей жизни подалась на Сухаревку.
Гадостно и мутно было на душе у Гошки, когда он расстался с Матей.
Без прежнего азарта и интереса ходил по рынку. Углядел поломанную скрипку, которую продавал деревенского обличия парень. Плохонький инструмент. Вероятнее всего, изделие деревенского же умельца. На грифе с нижней стороны выцарапал один из владельцев имя своей суженой: «Люба». На нижней отклеившейся деке большое черное пятно от огня, возле которого, видать, пососедствовала скрипка. В другое время, возможно бы, и приценился, даже купил, чтобы починить и, с помощью того же Мати, продать на Сухаревке — сам Гошка этого, опасаясь деда, не делал. Да происшествие с Матей к тому не располагало. Заметил приближающегося своего заказчика и счел за благо нырнуть от греха в толпу. Не утерпел, впрочем. Проследил, что будет далее. А далее было то же, что бывало всегда. Поторговался Матя — слов Гошка не слышал — и взял грошовый инструмент, завернул его в большой платок, который носил при себе на такие случаи.
Подумалось Гошке: «Принесет ли Матя скрипку на ремонт или за сегодняшнее вмешательство в его коммерцию решит поучить уму-разуму?»
Нечто новое, чего не знал Гошка, промелькнуло нынче в чудаковатом и жалком всегда Амати-Матьке. И оно, словно заноза, беспокоило Гошку, хотя он и сам бы не смог объяснить даже самому себе причину безотчетной тревоги.
И как бы изумился Гошка и еще больше был бы озадачен, приди ему в голову мысль последить за Матей, когда тот покинул рынок.
Чем далее удалялась сгорбленная фигура с Сухаревки, тем удивительнее происходила с ней метаморфоза. Она постепенно с каждым шагом словно бы распрямлялась. И не только внешне, но и, если можно так сказать, внутренне. Выбирал Амати пути разные, иной раз по Садовой, иной — сокращал путь другими улицами и переулками, но только к Пресненской заставе выходил человек вовсе другой, нежели тот, что покидал Сухаревку. Куда девался побитый жизнью и, казалось, траченный молью, со всегдашней жалкой, заискивающей улыбкой Матька, объект шуток и розыгрышей Сухаревских острословов? Шествовал пусть небогатый, в потертом пальто, однако вполне приличный господин, преисполненный даже известного достоинства.
Дальше в лес — больше дров.
Останавливался господин перед аккуратным домом с ухоженным палисадником и — о чудо! — по-хозяйски отворял калитку, запертую с внутренней стороны щеколдой. Шел степенно по дорожке, поднимался по мытым и выскобленным добела ступенькам и оказывался в маленькой чистой передней, где его встречала прислуга, молодая дородная баба. Господин привычным движением сбрасывал пальто, которое Авдотья, так звали прислугу, подхватывала и вешала в темный угол за дверью. Туда же отправлялась и старенькая зеленая фуражка.
Сам же Федор Федорович Коробков — а именно такими были имя, отчество и фамилия Сухаревского Матьки, — пройдя в сумеречную, об одном окне, спальню, переодевался в чистое домашнее платье и мягкие туфли и, тщательно вымыв руки, проходил в скромную, но свидетельствовавшую об очевидном достатке хозяев зальцу, где его ждали за накрытым столом жена, пышная, дебелая молодая женщина, и сын, гимназист пятого класса.
Вот бы вам, сухаревские купцы, заглянуть сюда. То-то бы пораскрывали рты. Особенно если бы убедились, что в кабинете Федора Федоровича, куда, впрочем, был заказан доступ даже домашним, в самом обычном платяном шкафу бережно содержалось несколько отличных скрипок, одна из которых — самый что ни на есть подлинный Страдивари.
Такова была вторая ипостась Сухаревского Амати-Матьки.
Была и третья.
И с ней очень скоро довелось, к его беде, познакомиться Гошке.
Живописно раскинулся он на правом берегу реки По в широкой благодатной долине, пролегшей меж предгорьями Альп и Пиренеев. Далече ему, понятно, до Рима, Флоренции или соседнего Милана, куда валом валят путешественники со всего света. Ну, да у Кремоны своя слава. Здесь, в некогда тихом провинциальном городке, родился, жил и создавал свои удивительные инструменты скрипичный мастер Андреа Амати. Ему наследовали в ремесле сыновья Андреа Антонио и Джеромо. Николо Амати, сын Джеромо и внук Андреа, превзошел в своем искусстве и отца и деда и был учителем несравненного Антонио Страдивари.
Однако было бы глубочайшим заблуждением полагать, что Кремона была единственным городом, а Италия единственной страной, которые пользовались исключительной привилегией на людей, откликавшихся на имя Амати.
В описываемую нами пору, в году 1860-м, далеконько от вечнозеленых кущ и бирюзового неба солнечной Италии, в снежной и суровой, с точки зрения иностранца, России, в ее первопрестольном граде Москве, на одном из сутолочных ее торжищ, а именно — Сухаревском рынке, всякий его завсегдатай, равно покупатель или продавец, с готовностью объяснял:
— Амати? Как не знать! Эва, тот длинный, в зеленой фуражке, со скрипкой под мышкой.
И указывал на высокого худощавого человека, неопределенного возраста, одетого в короткое, не по росту, видать, с чужого плеча, пальтецо и в зеленой фуражке, похожего на прогнанного со службы чиновника или служащего.
Сразу поясним. Указанный человек родством не касался знаменитых итальянских мастеров. И даже не был их однофамильцем.
Амати, на повседневном Сухаревском обиходе — Матя или Матька, было его прозвище. Тем самым, что иной раз прилипает банным листом к человеку на всю жизнь, начисто вытесняя из памяти окружающих имя-отчество и фамилию.
Амати промышлял тем, что покупал сломанные музыкальные инструменты: балалайки, гитары, скрипки или новомодные гармоники, с чужой помощью кое-как скреплял-склеивал их и тут же, на Сухаревке, продавал. И не печалился, зная, что его товар развалится через неделю, а то и на другой день. И в укор ему это редко кто ставил. Ибо Сухаревкой правило твердое убеждение: не обманешь — не продашь.
Впрочем, жульничество длинного, нескладного, всегда заискивающе улыбающегося Мати было столь наивным, что на него мог попасться разве уж вовсе несмышленый покупатель. Всякую сиплоголосую развалюху-гармошку он продавал, как бергеровскую, то есть произведенную в немецкой земле известной фирмой Бергера. А коли в его руки попадала скрипка, сработанная хоть тут же недалече — на Мясницкой, то аттестовал ее не иначе, как изделие знаменитых итальянцев Амати.
Сухаревские шутники разыгрывали иной раз для свежего человека или просто для собственного удовольствия маленький спектакль. Взявши из рук Матьки плохонькую, неумелой работы скрипку, вместо благородного лака покрытую охрой или суриком, оглядевши ее со всех сторон и извлекши смычком несколько душераздирающих звуков, кто-нибудь глубокомысленно рёк:
— Тут, Матя, ты, пожалуй, промахнулся. Изменил тебе верный глаз. Это не иначе, как сам Страдивариус!
На что Матя твердо отвечал:
— Нет, сударик мой. Лишнего не хочу. Произведен к жизни сей инструмент, может, и в совершенную его пору, но по-ихнему Николо, а по-нашему Николаем Амати, из итальянского города Кремоны.
И никакими силами невозможно было сбить его с издавна и прочно занятой позиции.
Стойкой приверженностью к фамилии Амати долговязый человек в неизменной — зимой и летом — зеленой фуражке, со следами споротой кокарды, и был обязан своим прозвищем, коим, кстати сказать, словно бы и гордился, будто оно впрямь как-то роднило его с прославленными итальянцами.
У Яковлевых, музыкальных мастеров, обитавших в одном из переулков близ Сухаревой башни, Матя хоть и был частым гостем, однако не пользовался почетом.
— Свистун, — говорил дед Семен, — шаромыжник.
Чинить инструменты, которые приносил Матя, дед и Гошкин отец отказывались наотрез, ибо просил он неизменно:
— Ты, сударик, очень-то не старайся. Хорошая работа стоит хороших денег. А у меня откуда им взяться?
Делать на живую нитку было противно дедову естеству, к тому же с Гошкиным отцом он был завален серьезной работой и дорожил и временем своим, и именем.
Дядя Иван брался за Аматины развалюхи с такими пространными рассуждениями, в которых порицал людей недобросовестных, весьма прозрачно намекая на заказчика, что Матя его избегал. Старший Гошкин брат, обстоятельный Мишка, сам норовил выжать из заказчика лишнюю копейку, что было Мате не с руки. Оставался один простосердечный Гошка. Он-то и оказывался, как правило, исполнителем заказов.
В то памятное воскресенье, наскоро позавтракав, Гошка чуть свет отправился, по обыкновению, на Сухаревку. Это был Гошкин день, которого он нетерпеливо ждал всю неделю.
Занятным местом была Сухаревка. И даже таинственным. Занятным — своей рыночной толчеей, где продавались и провизия, и старая мебель, и обувь, и одежда, новая и подержанная, и картины, и статуэтки, и музыкальные инструменты, и книги, хотя книжной торговлей она уступала Смоленскому рынку. А таинственным — Сухаревой башней, о которой среди москвичей шли жутковатые рассказы, как о месте нечистом, связанном с самим дьяволом. Говорили, что скрыты в ней черные книги, содержащие магические знания. Даже будто бы хранилась там бутылка с живой человеческой головой, уменьшенной волшебством до размеров куриного яйца. И коли случалось Гошке проходить в потемках мимо башни, озирался он на нее с опаской, творил про себя молитву: «Господи, помилуй…» — и стремился поспешно миновать.
Днем рассеивались, таяли ночные призраки. И громоздкое сооружение, возведенное еще Петром Первым, превращалось в то, чем оно и было сейчас — водонапорную башню, питавшую московские фонтаны отличной мытищинской водой.
Впрочем, свежему человеку Сухаревка и днем соблазн и опаска. Без нечистой силы и дьявольских чар — людской хитроватостью. Бились об заклад Сухаревские сапожники в дождливый день: выйдет ли покупатель в обновке, у них купленной, с рынка, или тут же на глазах развалятся нарядные с виду сапоги, к великому ужасу и отчаянию их обладателя. И золотые вещицы искушались покупать новички, показываемые из-под полы: краденые, мол, потому и дешевы. Ан, на поверку оборачивались часы или перстень золотом самоварного завода. А сухаревцы посмеивались: на грош пятаков восхотелось приобресть — получай, милок, радуйся!
Для Гошки Сухаревка — родная стихия, все равно, как вода для рыбы. Что греха таить, и ему мечталось за бесценок ухватить стоящую вещь. И так бывало. Исхитрился прошлым летом антиквар, по прозвищу «Лупоглазый», за три рубля купить подлинного Джорджоне, великого итальянского живописца, которого сбыл в ту же неделю за полтораста целковых. Да еще горько сетовал вскорости, потому что к следующему владельцу полотно ушло за двести пятьдесят.
Ввинтившись штопором в пеструю разноголосую и, как уже сказано, опасную для новичка толпу, Гошка принялся наметанным глазом шарить по сторонам. И увидел то, отчего сразу дрогнуло сердце, как у охотника, приметившего добычу. Среди обычного Сухаревского люда: торгашей, покупателей, ленивых зевак, нищих в ободранных, латаных-перелатаных одежках — стояла барыня со скрипичным футляром в руках. Она растерянно озиралась вокруг, очевидно уже сожалея, что оказалась в столь чуждом для себя окружении и в столь странной для себя роли. Подле барыни, словно птица, охраняющая несмышленого птенца, стояла встревоженная прислуга, женщина на возрасте, с широким и плоским совиным лицом.
Однако не успел Гошка и шагу сделать в сторону барыни, как перед ней возникла высокая, тощая фигура Амати.
Раздосадованному Гошке не оставалось ничего другого, как наблюдать за действиями своего постоянного заказчика.
— Простите, сударыня! — Амати галантно поклонился. — Если угадал, вы принесли на продажу инструмент?
— Да, я бы хотела… — проговорила поспешно барыня, со смешанным чувством недоверия и надежды глядя на Амати.
— Не извольте беспокоиться, мадам… — Амати добавил несколько слов по-французски. — Я, видите ли, музыкант. Если разрешите…
— Да, разумеется… — Барыня протянула футляр.
Амати раскрыл футляр. Гошка зажмурился. На черном бархате, отсвечивая золотистым лаком, покоился прекрасный инструмент. Нет, не Страдивари, не Гварнери, не один из Амати. Но, несомненно, старой, прекрасной итальянской работы.
— М-да… — Матя воровато огляделся.
Заметив Гошку и узнав его, сказал, словно чужому:
— Ты бы шел, мальчик, своей дорогой…
И подмигнул: иди, мол, иди. За мной не пропадет!
Гошке вдруг стало жалко молодую барыню. Должно быть, не от хорошей жизни пришла сюда. Он усмехнулся:
— Делай свое дело, дядя. А я погляжу…
Матя под Гошкиным взглядом заторопился. Он вынул инструмент. Оглядел со всех сторон. Осторожно потрогал струны. И вздохнул:
— Да, мадам, это, увы, не Страдивариус… Если желаете, три рубля.
Гошка знал Сухаревские порядки, нагляделся всякого. Однако Матькино нахальство его потрясло.
— Позвольте… — запротестовала барыня. От волнения ее лицо пошло пятнами. — Я не привыкла торговаться, но муж купил скрипку, когда мы были в Италии, и заплатил, если не ошибаюсь…
— О, пардон, сударыня… — соболезнующе прервал ее Матя. — Иностранцам, особенно доверчивым русским, чего только не всучат лукавые итальянские торговцы. Вот послушайте…
Матя постучал сначала по верхней, потом по нижней деке.
— Инструмент не резонирует. Это всего лишь подделка под старых итальянцев. Так и быть — пять рублей, но не более. Племяннику — он берет любительские уроки — на первых порах, возможно, сойдет…
У барыни навернулись слезы. Прислуга, того и гляди, готова была вмешаться в разговор. Но видно, уж очень нужны были деньги, даже эти мизерные пять рублей, потому что барыня заколебалась. Уловил это и Матя.
— Увы! Все мы иногда бываем жертвами откровенного надувательства…
Амати полез в карман за деньгами.
Гошка не выдержал:
— Он шутит, сударыня. Он вообще большой шутник. Скрипке цена рублей сто, а может, и двести.
Барыня растерянно перевела взгляд с Амати на Гошку и опять на Амати.
— Бог с тобой, мальчик! — скривился Матя. — Кто тебя просит вмешиваться в чужие дела? И что ты понимаешь в скрипках?
Гошка засмеялся:
— Да уж побольше твоего!
Со стороны к скрипке протянулась рука:
— Дозвольте-ка…
Ни Гошка, ни барыня, ни Матя не заметили, что их обступили сухаревские ловкачи.
«Уведут скрипку! — мелькнуло в Гошкиной голове. — Как пить дать, уведут!» И он торопливо сказал:
— Уходите, сударыня…
Та и сама почувствовала, что начинается вовсе скверное, решительно взяла — почти вырвала — из руки Мати инструмент, поспешно сунула его в футляр и столь же поспешно и решительно шагнула из толпы.
Ей вслед засвистели, заулюлюкали.
Амати обернулся к Гошке:
— Ты, сударик, как собака на сене: сам не ешь и другим мешаешь.
— В тебе, Матя, совести нет! Инструменту цена, может, все триста рублей. А ты — синенькую…
— Напрасно, Гоша. Так с друзьями не поступают…
Гошке почудилась угроза — не угроза, а какая-то жесткость, которой он прежде не замечал у Мати да и предполагать не мог.
А тот продолжал:
— Я себе такого мастера, как ты, найду всегда. А есть ли у тебя еще такой заказчик, как я, а?
Гошка смутился.
У них с Матей был общий секрет.
Гошкин дед отличался чудовищной скаредностью. Скупому рыцарю, про которого рассказано в сочинении Александра Сергеевича Пушкина, далеко было до деда Семена. Что там рубль или гривенник, из-за каждой медной полушки, упущенной или неладно, на его взгляд, истраченной, поедом ел близких. Гошка же совершал, по дедовой мерке, тягчайшее преступление: утаивал получаемые от Мати пятаки и гривенники.
Гошкиной страстью были книги. На них он и тратил свой подпольный заработок.
— Каково будет, ежели дед дознается про наши с тобой делишки? — закончил Матя без обычной своей улыбки.
У Гошки по спине забегали мурашки.
— Откуда бы?
Не отвечая на Гошкин вопрос, Матя опять без улыбки заметил:
— Ты, сударик, дорогу людям перебегай с оглядкой. Не ровен час, можно и осклизнуться.
— Жалко ее сделалось… — оправдываясь, сказал Гошка. — Не от хорошей жизни подалась на Сухаревку.
Гадостно и мутно было на душе у Гошки, когда он расстался с Матей.
Без прежнего азарта и интереса ходил по рынку. Углядел поломанную скрипку, которую продавал деревенского обличия парень. Плохонький инструмент. Вероятнее всего, изделие деревенского же умельца. На грифе с нижней стороны выцарапал один из владельцев имя своей суженой: «Люба». На нижней отклеившейся деке большое черное пятно от огня, возле которого, видать, пососедствовала скрипка. В другое время, возможно бы, и приценился, даже купил, чтобы починить и, с помощью того же Мати, продать на Сухаревке — сам Гошка этого, опасаясь деда, не делал. Да происшествие с Матей к тому не располагало. Заметил приближающегося своего заказчика и счел за благо нырнуть от греха в толпу. Не утерпел, впрочем. Проследил, что будет далее. А далее было то же, что бывало всегда. Поторговался Матя — слов Гошка не слышал — и взял грошовый инструмент, завернул его в большой платок, который носил при себе на такие случаи.
Подумалось Гошке: «Принесет ли Матя скрипку на ремонт или за сегодняшнее вмешательство в его коммерцию решит поучить уму-разуму?»
Нечто новое, чего не знал Гошка, промелькнуло нынче в чудаковатом и жалком всегда Амати-Матьке. И оно, словно заноза, беспокоило Гошку, хотя он и сам бы не смог объяснить даже самому себе причину безотчетной тревоги.
И как бы изумился Гошка и еще больше был бы озадачен, приди ему в голову мысль последить за Матей, когда тот покинул рынок.
Чем далее удалялась сгорбленная фигура с Сухаревки, тем удивительнее происходила с ней метаморфоза. Она постепенно с каждым шагом словно бы распрямлялась. И не только внешне, но и, если можно так сказать, внутренне. Выбирал Амати пути разные, иной раз по Садовой, иной — сокращал путь другими улицами и переулками, но только к Пресненской заставе выходил человек вовсе другой, нежели тот, что покидал Сухаревку. Куда девался побитый жизнью и, казалось, траченный молью, со всегдашней жалкой, заискивающей улыбкой Матька, объект шуток и розыгрышей Сухаревских острословов? Шествовал пусть небогатый, в потертом пальто, однако вполне приличный господин, преисполненный даже известного достоинства.
Дальше в лес — больше дров.
Останавливался господин перед аккуратным домом с ухоженным палисадником и — о чудо! — по-хозяйски отворял калитку, запертую с внутренней стороны щеколдой. Шел степенно по дорожке, поднимался по мытым и выскобленным добела ступенькам и оказывался в маленькой чистой передней, где его встречала прислуга, молодая дородная баба. Господин привычным движением сбрасывал пальто, которое Авдотья, так звали прислугу, подхватывала и вешала в темный угол за дверью. Туда же отправлялась и старенькая зеленая фуражка.
Сам же Федор Федорович Коробков — а именно такими были имя, отчество и фамилия Сухаревского Матьки, — пройдя в сумеречную, об одном окне, спальню, переодевался в чистое домашнее платье и мягкие туфли и, тщательно вымыв руки, проходил в скромную, но свидетельствовавшую об очевидном достатке хозяев зальцу, где его ждали за накрытым столом жена, пышная, дебелая молодая женщина, и сын, гимназист пятого класса.
Вот бы вам, сухаревские купцы, заглянуть сюда. То-то бы пораскрывали рты. Особенно если бы убедились, что в кабинете Федора Федоровича, куда, впрочем, был заказан доступ даже домашним, в самом обычном платяном шкафу бережно содержалось несколько отличных скрипок, одна из которых — самый что ни на есть подлинный Страдивари.
Такова была вторая ипостась Сухаревского Амати-Матьки.
Была и третья.
И с ней очень скоро довелось, к его беде, познакомиться Гошке.
Глава 2
НА ОБРОКЕ
Гошка Яковлев и его родные попали в Москву чистым случаем.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Двенадцать лет назад дед Семен, дворовый человек господ Триворовых, был послан в Москву с тогдашним управляющим присмотреть новую мебель для барского дома. Предстояла женитьба старшего господского сына на местной уездной барышне, богатой наследнице. И владельцы Никольского, поместья Триворовых, не хотели ударить лицом в грязь перед новой состоятельной родней.
Заняли денег под имение, выколотили, сколько сумели, недоимки с крестьян. И запылили коляска с управляющим и три телеги с мужиками в первопрестольную.
Деду Семену, как искусному столяру, надлежало соблюсти опытным глазом качество приобретения и обеспечить его сохранную доставку в Никольское.
Судьбе, однако, угодно было распорядиться по-своему.
По прибытии в Москву триворовские люди угодили в самую холеру, свирепствовавшую в том году. Первым отдал богу душу управляющий, за ним перемерли мужики. Один дед Семен после двухнедельной горячки и беспамятства начал выкарабкиваться, почитай, с того света. И встала перед ним задача: как быть дальше. Из Москвы — по холере — выезд закрыт. На месте переживать лихую годину — нет денег. Все, отпущенное управляющему, сгинуло вместе с ним. По слухам, хозяева постоялого двора знатно погрели руки. Но известно: не пойман — не вор. Дед Семен принялся искать заработок, который помог бы перебиться во время вынужденного московского сидения. Да и набрел на земляка, что промышлял, будучи оброчным крепостным, плотницким делом. Дед несказанно обрадовался удаче. Новый знакомый и впрямь поддержал земляка, попавшего в беду, пустил в дом. Дед Семен, тяготясь положением нахлебника и будучи слабосильным еще, чтобы выполнять тяжелую плотницкую работу, обнаружил неведомо как попавшую к его хозяину разбитую скрипку. Была она хорошей иностранной работы, требовала, однако, для своего ремонта искусства и терпения. Дед Семен молодым застал в Никольском жизнь на широкую ногу, с многочисленной дворней, выездами, гостями и своим оркестром. Был учен починке музыкальных инструментов, что теперь ему весьма пригодилось.
С той, приведенной в порядок и проданной, хоть и дешево, скрипки дедовы дела потихоньку стали налаживаться.
Оправлялась, приходила в себя Москва от холерной беды, и понадобилось людям все то, что нужно было прежде, в числе том и задорная балалайка, и — надрыв и утеха сердцу — гитара, и царица музыки скрипка. Что подклеит дед, где деку сменит, новый гриф поставит, — глядишь, гривенник или пятиалтынный, а то и четвертак в кармане.
Через год дед Семен получил согласие Никольских господ платить оброк. А через три — перевез в Москву семью; двоих сыновей с женами и внуков. К тому времени он снимал угол у Сухаревки и той же Сухаревкой жил. Поначалу туго пришлось с семьей. Перебивались с хлеба на квас. Сиживали, случалось, голодные. Однако приловчились к московскому бытию. Завелась своя клиентура. Дед Семен был строг в работе к себе и сыновьям. Брал плату весьма умеренную. Потому всякий, кто обращался к нему хоть однажды, шел и во второй раз и посылал знакомых.
В то далекое время в одном из переулков подле Сухаревской площади был уже магазин и мастерская музыкальных инструментов Семена Яковлева, о чем оповещала вывеска с намалеванными крест-накрест скрипкой и гитарой, под которыми, не без труда узнаваемое, живописано было фортепиано с пояснительной надписью: «Настройка».
Магазин из тех, коим несть числа по Москве. Маленький, тесненький. Переднее помещение — дверь с колокольчиком — и было, собственно, магазином. Вторая комната днем служила мастерской, ночью — спальней. Третья — кухонка, на которой хозяйничали и вечно скандалили невестки.
Гошка попал в Москву неполных пяти лет от роду и деревню забыл почти совсем. Ему казалось, что и родился он в этом самом доме, в этой самой мастерской, пропитанной запахами дерева, стружек, кожи и клея. А то, что до нее, словно было не явью, а туманным сном.
И сколько помнил себя, звучал в ушах скрипучий дедов голос:
— Идолы! Разорители! На барщину захотели?
Из разговоров взрослых и их рассказов Гошка знал, что то скудное существование, которое вела семья, где каждая копейка, истраченная на обувь или одежду, считалась мотовством и где кормились чуть не впроголодь, — дар небесный по сравнению с той жизнью, что ждала их в имении, если задержан будет оброк Никольским барам.
Самыми тревожными днями были те, когда в Москву приезжал триворовский приказчик — управляющего уже не держали. Среднего росту, в летах, красномордый, с пегой бородой и бесцветными неподвижными глазами, прозвищем Упырь — он нагонял панический страх даже на крепкого, изворотливого деда. Принимали его с великим почетом, старались исполнить каждое желание и терзались трудной задачей: плохо встретишь — обидится, затаит зло, излишне широко — как бы не накинул оброка. Шипел гусем на невесток дед, отдавая приказания, чем потчевать гостя. А Упырь сидел за столом величественный, точно восточное божество, и молчал, повергая всех в трепет. Впрочем, недоступность Упыря была относительной. Он был глух к слезным мольбам и горючему горю, однако тотчас обретал слух, едва начинали позвякивать рубли-полтинники. Шарил мертвенным взглядом по магазину и мастерской, ощупывал одежку и обувку Яковлевых не столько в интересах Никольских господ, сколько своих собственных. Гошка знал, хотя оброк и остается тяжелым, в любую минуту он может, по единому слову Упыря, сделаться и вовсе непереносимым. И против этого было только одно средство — умаслить, ублажить Упыря. И не разговорами, и даже не угощением — деньгами и только деньгами. Оттого был скуп и скареден до чрезвычайности дед, потому и была утаенная полушка самым, в его глазах, страшным преступлением.
В понедельник, на следующий день после истории с барыней, Гошкиной первой мыслью был Матька. Придет ли, принесет ли скрипку, которую Гошка окрестил «Любой», по имени, выцарапанному на грифе? И, упаси бог, не скажет ли или не намекнет деду на их тайные дела? Прислушивался, отрываясь от работы, к каждому звону колокольчика, возвещавшему приход нового посетителя. Ждал: не раздастся ли в передней комнате негромкий журчащий голос Мати, казалось, всегда уговаривающий уступить в цене или, напротив, дать желаемую цену. Однако в понедельник Матя не явился. Гошка ругал себя на чем свет стоит за то, что сунулся куда не след и, похоже, потерял своего единственного выгодного заказчика. И ломал голову: где теперь добывать деньги?
Как сказано, Гошкиной страстью были книги. Начал он, освоивши грамоту, со сказок и лубочных листков, потом пристрастился к жутким, леденящим душу книжкам про привидения, кошмарные убийства и роковую любовь. Но с некоторых пор под влиянием своего взрослого друга и наставника Беспалого Сережи, о котором речь впереди, познал вкус настоящей литературы.
Горестно сочувствовал Герасиму с его собачкой, понимая, что и его собственная участь могла сложиться куда хуже, чем сейчас, окажись он в Никольском, коим беспрестанно пугал всех дед. Потешался над помещиками, которых навещал Чичиков в погоне за мертвыми душами. С упоением читал про Гринева, представляя себя на его месте и чрезвычайно сожалея, что пушкинский герой не перешел-таки на сторону сильного, жестокого, но по-своему великодушного Пугачева.
Матя появился во вторник.
Зажурчал, заворковал его льстивый голосок в лавке. У Гошки сжалось все внутри. Что-то будет? Немного погодя открылась дверь, и в мастерскую вошел привычный Матя, приговаривая:
— Я, сударики, к своему мастеру, благодетелю моему. Вы вот гнушаетесь моими инструментами, а он, добрая душа, помогает сирому.
И далее все в таком же духе.
На Матину болтовню никто, по привычке, ухом не повел.
— Здравствуй, сударик, — это уже Гошке, — скрипочку вот тебе принес. Полечи-ка ее, глядишь, и запоет, как прежде, развеселит людей или, напротив, грусть навеет — кому что желательно.
У Гошки разом отлегло от сердца. Слава тебе, господи, подумал: «Обошлось. „Люба“ пожаловала!»
Велико было Гошкино изумление, когда Матя, развернув платок, вручил ему другую скрипку, не «Любу». «Значит, нашел кого-то вместо меня, змеюка». Однако от расспросов насчет «Любы» воздержался, чтобы не возвращаться к злополучному воскресенью, благо Матя не знал, что Гошка оказался свидетелем его покупки. «Поглядим, что дальше будет, — решил про себя. И вздохнул: — Жулик, а ладить надо».
Разговаривали Матя с Гошкой вроде бы по-прежнему и все ж не так. Черной кошкой пробежала между ними давешняя барыня и невольно приоткрыла нечто такое в Мате, чего, как уже говорилось, Гошка и иные сухаревцы в нем не могли и подозревать.
Внешне Матя ничем не выказывал того нового, что возникло в их отношениях. Но Гошка раз и навсегда понял: «Не прост Матя и действительно из тех, кому поперек дороги вставать — удовольствие дорогое».
Скрипка, которую принес Матя, была из обычных.
— В пятницу вечерком забегу, сударик. Ты уж порадей.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Двенадцать лет назад дед Семен, дворовый человек господ Триворовых, был послан в Москву с тогдашним управляющим присмотреть новую мебель для барского дома. Предстояла женитьба старшего господского сына на местной уездной барышне, богатой наследнице. И владельцы Никольского, поместья Триворовых, не хотели ударить лицом в грязь перед новой состоятельной родней.
Заняли денег под имение, выколотили, сколько сумели, недоимки с крестьян. И запылили коляска с управляющим и три телеги с мужиками в первопрестольную.
Деду Семену, как искусному столяру, надлежало соблюсти опытным глазом качество приобретения и обеспечить его сохранную доставку в Никольское.
Судьбе, однако, угодно было распорядиться по-своему.
По прибытии в Москву триворовские люди угодили в самую холеру, свирепствовавшую в том году. Первым отдал богу душу управляющий, за ним перемерли мужики. Один дед Семен после двухнедельной горячки и беспамятства начал выкарабкиваться, почитай, с того света. И встала перед ним задача: как быть дальше. Из Москвы — по холере — выезд закрыт. На месте переживать лихую годину — нет денег. Все, отпущенное управляющему, сгинуло вместе с ним. По слухам, хозяева постоялого двора знатно погрели руки. Но известно: не пойман — не вор. Дед Семен принялся искать заработок, который помог бы перебиться во время вынужденного московского сидения. Да и набрел на земляка, что промышлял, будучи оброчным крепостным, плотницким делом. Дед несказанно обрадовался удаче. Новый знакомый и впрямь поддержал земляка, попавшего в беду, пустил в дом. Дед Семен, тяготясь положением нахлебника и будучи слабосильным еще, чтобы выполнять тяжелую плотницкую работу, обнаружил неведомо как попавшую к его хозяину разбитую скрипку. Была она хорошей иностранной работы, требовала, однако, для своего ремонта искусства и терпения. Дед Семен молодым застал в Никольском жизнь на широкую ногу, с многочисленной дворней, выездами, гостями и своим оркестром. Был учен починке музыкальных инструментов, что теперь ему весьма пригодилось.
С той, приведенной в порядок и проданной, хоть и дешево, скрипки дедовы дела потихоньку стали налаживаться.
Оправлялась, приходила в себя Москва от холерной беды, и понадобилось людям все то, что нужно было прежде, в числе том и задорная балалайка, и — надрыв и утеха сердцу — гитара, и царица музыки скрипка. Что подклеит дед, где деку сменит, новый гриф поставит, — глядишь, гривенник или пятиалтынный, а то и четвертак в кармане.
Через год дед Семен получил согласие Никольских господ платить оброк. А через три — перевез в Москву семью; двоих сыновей с женами и внуков. К тому времени он снимал угол у Сухаревки и той же Сухаревкой жил. Поначалу туго пришлось с семьей. Перебивались с хлеба на квас. Сиживали, случалось, голодные. Однако приловчились к московскому бытию. Завелась своя клиентура. Дед Семен был строг в работе к себе и сыновьям. Брал плату весьма умеренную. Потому всякий, кто обращался к нему хоть однажды, шел и во второй раз и посылал знакомых.
В то далекое время в одном из переулков подле Сухаревской площади был уже магазин и мастерская музыкальных инструментов Семена Яковлева, о чем оповещала вывеска с намалеванными крест-накрест скрипкой и гитарой, под которыми, не без труда узнаваемое, живописано было фортепиано с пояснительной надписью: «Настройка».
Магазин из тех, коим несть числа по Москве. Маленький, тесненький. Переднее помещение — дверь с колокольчиком — и было, собственно, магазином. Вторая комната днем служила мастерской, ночью — спальней. Третья — кухонка, на которой хозяйничали и вечно скандалили невестки.
Гошка попал в Москву неполных пяти лет от роду и деревню забыл почти совсем. Ему казалось, что и родился он в этом самом доме, в этой самой мастерской, пропитанной запахами дерева, стружек, кожи и клея. А то, что до нее, словно было не явью, а туманным сном.
И сколько помнил себя, звучал в ушах скрипучий дедов голос:
— Идолы! Разорители! На барщину захотели?
Из разговоров взрослых и их рассказов Гошка знал, что то скудное существование, которое вела семья, где каждая копейка, истраченная на обувь или одежду, считалась мотовством и где кормились чуть не впроголодь, — дар небесный по сравнению с той жизнью, что ждала их в имении, если задержан будет оброк Никольским барам.
Самыми тревожными днями были те, когда в Москву приезжал триворовский приказчик — управляющего уже не держали. Среднего росту, в летах, красномордый, с пегой бородой и бесцветными неподвижными глазами, прозвищем Упырь — он нагонял панический страх даже на крепкого, изворотливого деда. Принимали его с великим почетом, старались исполнить каждое желание и терзались трудной задачей: плохо встретишь — обидится, затаит зло, излишне широко — как бы не накинул оброка. Шипел гусем на невесток дед, отдавая приказания, чем потчевать гостя. А Упырь сидел за столом величественный, точно восточное божество, и молчал, повергая всех в трепет. Впрочем, недоступность Упыря была относительной. Он был глух к слезным мольбам и горючему горю, однако тотчас обретал слух, едва начинали позвякивать рубли-полтинники. Шарил мертвенным взглядом по магазину и мастерской, ощупывал одежку и обувку Яковлевых не столько в интересах Никольских господ, сколько своих собственных. Гошка знал, хотя оброк и остается тяжелым, в любую минуту он может, по единому слову Упыря, сделаться и вовсе непереносимым. И против этого было только одно средство — умаслить, ублажить Упыря. И не разговорами, и даже не угощением — деньгами и только деньгами. Оттого был скуп и скареден до чрезвычайности дед, потому и была утаенная полушка самым, в его глазах, страшным преступлением.
В понедельник, на следующий день после истории с барыней, Гошкиной первой мыслью был Матька. Придет ли, принесет ли скрипку, которую Гошка окрестил «Любой», по имени, выцарапанному на грифе? И, упаси бог, не скажет ли или не намекнет деду на их тайные дела? Прислушивался, отрываясь от работы, к каждому звону колокольчика, возвещавшему приход нового посетителя. Ждал: не раздастся ли в передней комнате негромкий журчащий голос Мати, казалось, всегда уговаривающий уступить в цене или, напротив, дать желаемую цену. Однако в понедельник Матя не явился. Гошка ругал себя на чем свет стоит за то, что сунулся куда не след и, похоже, потерял своего единственного выгодного заказчика. И ломал голову: где теперь добывать деньги?
Как сказано, Гошкиной страстью были книги. Начал он, освоивши грамоту, со сказок и лубочных листков, потом пристрастился к жутким, леденящим душу книжкам про привидения, кошмарные убийства и роковую любовь. Но с некоторых пор под влиянием своего взрослого друга и наставника Беспалого Сережи, о котором речь впереди, познал вкус настоящей литературы.
Горестно сочувствовал Герасиму с его собачкой, понимая, что и его собственная участь могла сложиться куда хуже, чем сейчас, окажись он в Никольском, коим беспрестанно пугал всех дед. Потешался над помещиками, которых навещал Чичиков в погоне за мертвыми душами. С упоением читал про Гринева, представляя себя на его месте и чрезвычайно сожалея, что пушкинский герой не перешел-таки на сторону сильного, жестокого, но по-своему великодушного Пугачева.
Матя появился во вторник.
Зажурчал, заворковал его льстивый голосок в лавке. У Гошки сжалось все внутри. Что-то будет? Немного погодя открылась дверь, и в мастерскую вошел привычный Матя, приговаривая:
— Я, сударики, к своему мастеру, благодетелю моему. Вы вот гнушаетесь моими инструментами, а он, добрая душа, помогает сирому.
И далее все в таком же духе.
На Матину болтовню никто, по привычке, ухом не повел.
— Здравствуй, сударик, — это уже Гошке, — скрипочку вот тебе принес. Полечи-ка ее, глядишь, и запоет, как прежде, развеселит людей или, напротив, грусть навеет — кому что желательно.
У Гошки разом отлегло от сердца. Слава тебе, господи, подумал: «Обошлось. „Люба“ пожаловала!»
Велико было Гошкино изумление, когда Матя, развернув платок, вручил ему другую скрипку, не «Любу». «Значит, нашел кого-то вместо меня, змеюка». Однако от расспросов насчет «Любы» воздержался, чтобы не возвращаться к злополучному воскресенью, благо Матя не знал, что Гошка оказался свидетелем его покупки. «Поглядим, что дальше будет, — решил про себя. И вздохнул: — Жулик, а ладить надо».
Разговаривали Матя с Гошкой вроде бы по-прежнему и все ж не так. Черной кошкой пробежала между ними давешняя барыня и невольно приоткрыла нечто такое в Мате, чего, как уже говорилось, Гошка и иные сухаревцы в нем не могли и подозревать.
Внешне Матя ничем не выказывал того нового, что возникло в их отношениях. Но Гошка раз и навсегда понял: «Не прост Матя и действительно из тех, кому поперек дороги вставать — удовольствие дорогое».
Скрипка, которую принес Матя, была из обычных.
— В пятницу вечерком забегу, сударик. Ты уж порадей.
