Страница:
Свобода! Чего же он медлит? Его родина вон за теми снежными горами.
– Я совсем, совсем свободен? – волнуясь, спросил Джура. – Как птица в небе.
И тогда Джура, все так же сжимая нож в правой руке, ринулся к воротам.
– Куда ты, стой! – донесся окрик.
Джура мгновенно обернулся, готовый к схватке. – Далеко ли ты уйдешь пешком? Прими этого коня – дар святого имама Балбака и раиса Кипчакбая, освободивших тебя. Что же ты стоишь? Подойди сюда. Прими подарок!
– Как, этого жеребца дарят мне? Ты шутишь!
Старший басмач сам подвел жеребца к Джуре.
– Спрячь нож! Садись верхом!
Джура сунул нож в ножны. Он взял повод из рук басмача и потрепал жеребца по шее. Жеребец захрапел, скосил глаз на Джуру и громко заржал.
Джура схватился руками за седло, чтобы вскочить. – Не спеши, Джура! – снова крикнул старший. – Этот халат дарит тебе справедливейший раис Кипчакбай. Надень, чтобы на красиво убранном коне ехал красиво одетый джигит. Джура не знал, что и думать. Он дал надеть на себя халат, расшитый драконами. Точно такой же халат надевал аксакал в торжественные дни.
Старший басмач сунул в руку Джуры камчу с узорчатой ручкой. Басмачи услужливо подсадили потрясенного Джуру в седло. – Эй, Джура! Сам раис Кипчакбай удостаивает тебя великой чести и приглашает к себе на плов. Там ты назовешь своих обидчиков и цену своей обиды!
– Где Зейнеб?
– Все в руках аллаха и его верных слуг имама Балбака и раиса Кипчакбая, – промолвил старший басмач. Он сел верхом и весело крикнул: – Айда!
– Айда! – откликнулся Джура.
– Чир-яр! – заорали басмачи.
– Чир-яр! – охотно отозвался Джура, и кавалькада исчезла за воротами.
Если бы Джура и его спутники так не спешили, было бы ему на что поглазеть в городе: по улице катил экипаж, в котором сидел толстяк в странном одеянии с круглым украшением на шапочке, шел караван верблюдов, спешили водоносы, бесновался дервиш, а народу, народу…
Они остановились у резных ворот двухэтажного дома. Всадники спешились во дворе этого дома, обнесенного высоким глиняным дувалом. Во дворе журчал арык, высились тополя и другие невиданные Джурой деревья.
С поклонами открыли слуги перед Джурой одну дверь… вторую. Ковры… подушки… Навстречу вышел толстяк, одетый в яркий шелковый халат.
– Раис Кипчакбай, – шепнул старший басмач.
– Как доехал, друг?
– Хорошо, – прохрипел Джура. Он откашлялся и повторил: – Хорошо!
Кипчакбай легким движением пальца подозвал слугу. Тот подбежал, неся на вытянутых руках халаты.
Семь халатов, один за другим, надел Кипчакбай на Джуру. Это ли не честь? Это ли не богатство? Семь халатов, да ещё подаренный у зиндана, да ещё свой рваный чапан – жарко, неудобно, но ведь какое почтение! Щедрый хозяин Кипчакбай. Джура хорошо это понимал и благодарил.
Затем подошли два седобородых аксакала, почтительно поддерживая Джуру под локти, повели в угол комнаты, где на низеньком столике был постелен достурхан. Джуру даже шатало от волнения. Уж не спит ли он?
А потом Джура, Кипчакбай слева и два аксакала справа сидели вокруг огромного позолоченного блюда, на котором возвышалась гора плова, а в центре – берцовая кость с мясом. «Вот Кучака бы сюда», – подумал Джура, с жадностью вдыхая запах мяса и плова. Кипчакбай приподнял пиалу, и слуга наполнил её из бутылки, на которой была наклейка с изображением белой лошади. Кипчакбай чуть пригубил пиалу, подмигнув, передал аксакалу слева, тот отпил глоток и передал своему соседу – второму аксакалу, а уж тот, сидевший справа, отпил глоток, поднес пиалу к губам Джуры и этим заставил его пить. Джура глотнул и, если бы не видел, как пили другие, решил бы, что это яд, так обжигало рот и горчило. И все же, нарушая обычай, он резко отстранил руку старика с пиалой, закашлялся.
Кипчакбай отобрал пиалу, долил виски, сам поднес Джуре и сказал:
– Пей, это кумыс батыров! Огненный!
Джура удивился, но взял пиалу обеими руками, выпил и не поморщился. Тотчас же Кипчакбай подал кусок жирной баранины. Аксакал, сидящий по другую сторону Джуры, сделал то же самое. Джура жадно хватал рукой плов, сжимал пальцами, бросал в рот и ел, ел…
Кипчакбай сказал:
– Нет тебе, Джура, равных среди великих охотников. Хочешь получить дом, и винтовки на стенах, и табун скакунов, и Зейнеб в придачу?
– Хочу, – обрадовался Джура. Он снова до дна выпил поданную Кипчакбаем пиалу, взял поданную аксакалом баранью голову и, ловко работая ножом, съел мясо. Наконец он отдал Кипчакбаю почти обгрызенную баранью голову и, не ожидая приглашения, сам выхватил берцовую кость с мясом. Пока Джура пил и ел, Кипчакбай говорил: – Мы будем кровными друзьями – досами и сообща будем делать одно великое дело. Аллах и Магомет, пророк его, нам помогут. Кипчакбай опять налил полную пиалу. Она также пошла по кругу. Все отпили по глотку, а допивать пришлось Джуре. – Аллах и Магомет – обманщики! – ответил Джура. – Белого луннорогого козла принес я им в жертву… Я просил: «Помогите застрелить Тагая… Помогите вернуть Зейнеб…» Не помогли! Не верю теперь!
– Вай-вай! – в ужасе воскликнули аксакалы.
– Правильно, Джура, не верь Магомету. Я испытывал тебя. Верь только пророку Алию, он первый. Если ты станешь моим джигитом, ты получишь все. Ведь ты великий стрелок!
Пиала опять пошла по кругу, и Джура снова допил её. Какой огненный кумыс пьют батыры!
– Я Чон Мерген.
Аксакалы улыбались и ласково кивали головами. – Где Зейнеб?
– Красавица Зейнеб жива, здорова, тоскует по тебе, и никто, клянусь тебе, никто её пальцем не тронул. Теперь, когда ты наш друг, я провожу тебя домой, и мы пышно отпразднуем твою свадьбу в Мин-Архаре, а потом съездим через горы на запад к моему другу и обратно. Есть ли на запад путь из твоего кишлака? – Архарьи тропы уходят туда, а где есть начало тропы, есть и конец.
– А на юг можно проехать?
– Архары уходят туда через ледник.
– Так ли хорошо ты знаешь все тропы в горах? – А кому же их ещё знать, если не мне? Я великий охотник, Чон Мерген.
– Правильно! Я уплачу за тебя свадебный калым и одарю, как обещал. Будешь ли ты нашим проводником в горы Мин-Архара? – Буду.
– Слава аллаху! У каждого пальцы к себе пригнуты. Я знал, что ты умный батыр, достойный быть аксакалом своего рода и владетелем пастбищ, скота и гор. Сможешь ли ты помочь мне изобразить на бумаге известные тебе горы за Заалайским хребтом, тропы в этих горах, перевалы и броды через реки, пастбища?
– Чтоб я, как орел, посмотрел сверху на свои горы и нарисовал карту?
– Да, да, как орел, сверху… карту, говоришь, нарисовать? Откуда ты, сын гор, знаешь, что такое карта, и можешь её нарисовать? От кого ты узнал о карте? О рисовании? Ведь коран запрещает изображать на бумаге живых…
– А зачем мне врать? Аксакал Козубай научил. Он все знает, все может.
Аксакалы испуганно переглянулись. Только на одно мгновение растерялся Кипчакбай, и снова он подал пиалу Джуре и сказал: – А разве ты не храбрее Козубая?
– Храбрее, – подумав, ответил Джура. – Я бы не сидел за четырьмя стенами, не ждал бы, а сам…
– Так чего же ты держишься за его стремя? Козубай, как снежный обвал, закрыл тебе дорогу к праведному пути. Но мы, твои досы, сообща поможем покорить тебе Козубая и самому стать начальником. Правильно?
– Правильно! – механически повторяет Джура.
– Подтверди клятвой на хлебе, – Кипчакбай подал лепешку, – слова, сказанные тобой. Поклянись быть нам верным другом, проводником, помощником, и ты станешь богатым баем. А чтобы Козубай не мешал нам вернуться в Мин-Архар, отпраздновать свадьбу, а тебе стать большим начальником, ты поможешь нам овладеть крепостью и захватить Козубая…
– Я?
– Ты!
– Захватить Козубая? Захватить крепость? – растерянно и гневно спрашивает Джура и сильно трет ладонью лицо. – И ты станешь самым богатым военачальником. Хочешь сотню джигитов?
Джура порывисто протягивает ладонь к Кипчакбаю. – Видишь?
– Ну?! – предчувствуя недоброе, спрашивает Кипчакбай. – Раньше на моей ладони вырастут волосы, чем я сделаю это! – Опомнись! Сам святой имам Балбак говорил: только дикарю– фанатику несвойственно понимать свою выгоду. Подумай. – Нет! – вскакивая, кричит Джура.
– Ты, Джура, просто дикарь, не понимающий своей выгоды. – Да! Я ещё дикий… так сказал сам Козубай… Я дикий, но я не продам Козубая!… Я не продам крепость! Я не продам свой род, род большевиков… Ты, ты сам дикарь, а твой имам Балбак – первый дикарь! – Джура с остеревенением плюет.
Ночью при лунном свете в яму к Чжао и Саиду упало бесчувственное тело Джуры. Они склонились над ним.
IV
V
СТАРУХА КУРЛЯУШ ДЕЙСТВУЕТ
I
II
– Я совсем, совсем свободен? – волнуясь, спросил Джура. – Как птица в небе.
И тогда Джура, все так же сжимая нож в правой руке, ринулся к воротам.
– Куда ты, стой! – донесся окрик.
Джура мгновенно обернулся, готовый к схватке. – Далеко ли ты уйдешь пешком? Прими этого коня – дар святого имама Балбака и раиса Кипчакбая, освободивших тебя. Что же ты стоишь? Подойди сюда. Прими подарок!
– Как, этого жеребца дарят мне? Ты шутишь!
Старший басмач сам подвел жеребца к Джуре.
– Спрячь нож! Садись верхом!
Джура сунул нож в ножны. Он взял повод из рук басмача и потрепал жеребца по шее. Жеребец захрапел, скосил глаз на Джуру и громко заржал.
Джура схватился руками за седло, чтобы вскочить. – Не спеши, Джура! – снова крикнул старший. – Этот халат дарит тебе справедливейший раис Кипчакбай. Надень, чтобы на красиво убранном коне ехал красиво одетый джигит. Джура не знал, что и думать. Он дал надеть на себя халат, расшитый драконами. Точно такой же халат надевал аксакал в торжественные дни.
Старший басмач сунул в руку Джуры камчу с узорчатой ручкой. Басмачи услужливо подсадили потрясенного Джуру в седло. – Эй, Джура! Сам раис Кипчакбай удостаивает тебя великой чести и приглашает к себе на плов. Там ты назовешь своих обидчиков и цену своей обиды!
– Где Зейнеб?
– Все в руках аллаха и его верных слуг имама Балбака и раиса Кипчакбая, – промолвил старший басмач. Он сел верхом и весело крикнул: – Айда!
– Айда! – откликнулся Джура.
– Чир-яр! – заорали басмачи.
– Чир-яр! – охотно отозвался Джура, и кавалькада исчезла за воротами.
Если бы Джура и его спутники так не спешили, было бы ему на что поглазеть в городе: по улице катил экипаж, в котором сидел толстяк в странном одеянии с круглым украшением на шапочке, шел караван верблюдов, спешили водоносы, бесновался дервиш, а народу, народу…
Они остановились у резных ворот двухэтажного дома. Всадники спешились во дворе этого дома, обнесенного высоким глиняным дувалом. Во дворе журчал арык, высились тополя и другие невиданные Джурой деревья.
С поклонами открыли слуги перед Джурой одну дверь… вторую. Ковры… подушки… Навстречу вышел толстяк, одетый в яркий шелковый халат.
– Раис Кипчакбай, – шепнул старший басмач.
– Как доехал, друг?
– Хорошо, – прохрипел Джура. Он откашлялся и повторил: – Хорошо!
Кипчакбай легким движением пальца подозвал слугу. Тот подбежал, неся на вытянутых руках халаты.
Семь халатов, один за другим, надел Кипчакбай на Джуру. Это ли не честь? Это ли не богатство? Семь халатов, да ещё подаренный у зиндана, да ещё свой рваный чапан – жарко, неудобно, но ведь какое почтение! Щедрый хозяин Кипчакбай. Джура хорошо это понимал и благодарил.
Затем подошли два седобородых аксакала, почтительно поддерживая Джуру под локти, повели в угол комнаты, где на низеньком столике был постелен достурхан. Джуру даже шатало от волнения. Уж не спит ли он?
А потом Джура, Кипчакбай слева и два аксакала справа сидели вокруг огромного позолоченного блюда, на котором возвышалась гора плова, а в центре – берцовая кость с мясом. «Вот Кучака бы сюда», – подумал Джура, с жадностью вдыхая запах мяса и плова. Кипчакбай приподнял пиалу, и слуга наполнил её из бутылки, на которой была наклейка с изображением белой лошади. Кипчакбай чуть пригубил пиалу, подмигнув, передал аксакалу слева, тот отпил глоток и передал своему соседу – второму аксакалу, а уж тот, сидевший справа, отпил глоток, поднес пиалу к губам Джуры и этим заставил его пить. Джура глотнул и, если бы не видел, как пили другие, решил бы, что это яд, так обжигало рот и горчило. И все же, нарушая обычай, он резко отстранил руку старика с пиалой, закашлялся.
Кипчакбай отобрал пиалу, долил виски, сам поднес Джуре и сказал:
– Пей, это кумыс батыров! Огненный!
Джура удивился, но взял пиалу обеими руками, выпил и не поморщился. Тотчас же Кипчакбай подал кусок жирной баранины. Аксакал, сидящий по другую сторону Джуры, сделал то же самое. Джура жадно хватал рукой плов, сжимал пальцами, бросал в рот и ел, ел…
Кипчакбай сказал:
– Нет тебе, Джура, равных среди великих охотников. Хочешь получить дом, и винтовки на стенах, и табун скакунов, и Зейнеб в придачу?
– Хочу, – обрадовался Джура. Он снова до дна выпил поданную Кипчакбаем пиалу, взял поданную аксакалом баранью голову и, ловко работая ножом, съел мясо. Наконец он отдал Кипчакбаю почти обгрызенную баранью голову и, не ожидая приглашения, сам выхватил берцовую кость с мясом. Пока Джура пил и ел, Кипчакбай говорил: – Мы будем кровными друзьями – досами и сообща будем делать одно великое дело. Аллах и Магомет, пророк его, нам помогут. Кипчакбай опять налил полную пиалу. Она также пошла по кругу. Все отпили по глотку, а допивать пришлось Джуре. – Аллах и Магомет – обманщики! – ответил Джура. – Белого луннорогого козла принес я им в жертву… Я просил: «Помогите застрелить Тагая… Помогите вернуть Зейнеб…» Не помогли! Не верю теперь!
– Вай-вай! – в ужасе воскликнули аксакалы.
– Правильно, Джура, не верь Магомету. Я испытывал тебя. Верь только пророку Алию, он первый. Если ты станешь моим джигитом, ты получишь все. Ведь ты великий стрелок!
Пиала опять пошла по кругу, и Джура снова допил её. Какой огненный кумыс пьют батыры!
– Я Чон Мерген.
Аксакалы улыбались и ласково кивали головами. – Где Зейнеб?
– Красавица Зейнеб жива, здорова, тоскует по тебе, и никто, клянусь тебе, никто её пальцем не тронул. Теперь, когда ты наш друг, я провожу тебя домой, и мы пышно отпразднуем твою свадьбу в Мин-Архаре, а потом съездим через горы на запад к моему другу и обратно. Есть ли на запад путь из твоего кишлака? – Архарьи тропы уходят туда, а где есть начало тропы, есть и конец.
– А на юг можно проехать?
– Архары уходят туда через ледник.
– Так ли хорошо ты знаешь все тропы в горах? – А кому же их ещё знать, если не мне? Я великий охотник, Чон Мерген.
– Правильно! Я уплачу за тебя свадебный калым и одарю, как обещал. Будешь ли ты нашим проводником в горы Мин-Архара? – Буду.
– Слава аллаху! У каждого пальцы к себе пригнуты. Я знал, что ты умный батыр, достойный быть аксакалом своего рода и владетелем пастбищ, скота и гор. Сможешь ли ты помочь мне изобразить на бумаге известные тебе горы за Заалайским хребтом, тропы в этих горах, перевалы и броды через реки, пастбища?
– Чтоб я, как орел, посмотрел сверху на свои горы и нарисовал карту?
– Да, да, как орел, сверху… карту, говоришь, нарисовать? Откуда ты, сын гор, знаешь, что такое карта, и можешь её нарисовать? От кого ты узнал о карте? О рисовании? Ведь коран запрещает изображать на бумаге живых…
– А зачем мне врать? Аксакал Козубай научил. Он все знает, все может.
Аксакалы испуганно переглянулись. Только на одно мгновение растерялся Кипчакбай, и снова он подал пиалу Джуре и сказал: – А разве ты не храбрее Козубая?
– Храбрее, – подумав, ответил Джура. – Я бы не сидел за четырьмя стенами, не ждал бы, а сам…
– Так чего же ты держишься за его стремя? Козубай, как снежный обвал, закрыл тебе дорогу к праведному пути. Но мы, твои досы, сообща поможем покорить тебе Козубая и самому стать начальником. Правильно?
– Правильно! – механически повторяет Джура.
– Подтверди клятвой на хлебе, – Кипчакбай подал лепешку, – слова, сказанные тобой. Поклянись быть нам верным другом, проводником, помощником, и ты станешь богатым баем. А чтобы Козубай не мешал нам вернуться в Мин-Архар, отпраздновать свадьбу, а тебе стать большим начальником, ты поможешь нам овладеть крепостью и захватить Козубая…
– Я?
– Ты!
– Захватить Козубая? Захватить крепость? – растерянно и гневно спрашивает Джура и сильно трет ладонью лицо. – И ты станешь самым богатым военачальником. Хочешь сотню джигитов?
Джура порывисто протягивает ладонь к Кипчакбаю. – Видишь?
– Ну?! – предчувствуя недоброе, спрашивает Кипчакбай. – Раньше на моей ладони вырастут волосы, чем я сделаю это! – Опомнись! Сам святой имам Балбак говорил: только дикарю– фанатику несвойственно понимать свою выгоду. Подумай. – Нет! – вскакивая, кричит Джура.
– Ты, Джура, просто дикарь, не понимающий своей выгоды. – Да! Я ещё дикий… так сказал сам Козубай… Я дикий, но я не продам Козубая!… Я не продам крепость! Я не продам свой род, род большевиков… Ты, ты сам дикарь, а твой имам Балбак – первый дикарь! – Джура с остеревенением плюет.
Ночью при лунном свете в яму к Чжао и Саиду упало бесчувственное тело Джуры. Они склонились над ним.
IV
Прошло десять дней. И снова в яму была спущена лестница. – Джура, вылезай! – раздался злобный голос.
Джура пытливо смотрел в глаза Чжао.
– Терпи и молчи, что бы ни было! – сказал Чжао значительно. – Может, убежишь, – шепнул Саид.
Наверху Джуру поджидали пять человек. Ему связали руки и ноги и, привязав к коню, повезли куда-то.
Был такой же ясный день. Джура смотрел на покрытые снегом далекие горы и жадно дышал полной грудью. Окруженный охраной, он проехал по тем же улицам города. У тех же резных ворот двухэтажного дома старший из стражи крикнул:
– Эй, Юнус!
В воротах открылось окошко, и в нем показался большой толстый нос и блестящие глаза.
– Хоп, – сказал обладатель этого носа.
Загремели засовы, заскрипели ворота, и Джура очутился во дворе. Так, связанного, на лошади его ввезли во второй двор. Посреди второго двора под тенистыми деревьями, возле большого водоема, высился помост с крышей. На кошмах и расшитых подушках лежал толстяк Кипчакбай, одетый в яркий шелковый халат. Люди, сопровождавшие Джуру, сложив руки на животе, низко кланялись. Один из них шепотом сказал Джуре:
– Приветствуй раиса Кипчакбая.
Но Джура гордо промолчал: ещё не зажили раны от первой встречи с Кипчакбаем.
Из широкого водоема, журча, струился арык.
Указательным пальцем левой руки, украшенным толстым перстнем, Кипчакбай чесал за ухом кошку, разлегшуюся перед ним на подушке, и бросал крошки большому золотисто-красному петуху. Кипчакбай молча рассматривал Джуру. После продолжительного молчания он приказал развязать веревки и снять его с коня. Джура, став на землю, пошатнулся: у него затекли ноги. – Целуй! – сказал ему Кипчакбай, протягивая свою пухлую руку. Но Джура не двинулся с места.
– Ты разве не знаешь, кто я?
– Знаю, – ответил Джура, глядя на него исподлобья. – Мой приказ – закон для правоверного. Или ты неверующий? Говори, собака!
Кипчакбай сел на подушки и свесил ногу за край помоста. – Целуй! – сказал он, протягивая ему ногу.
Джура отвернулся. Кипчакбай сжал кулаки и топнул ногой. Петух отскочил и захлопал крыльями.
– Эй, Махмуд! – крикнул Кипчакбай.
Прибежал тщедушный старик. Его выпирающий вперед подбородок почти смыкался с огромным горбатым носом.
– Садись, – сказал Кипчакбай Джуре и бросил ему подушку. Джура, поджав ноги, сел там же, где стоял. Кипчакбай кивнул стражам, и они сели возле помоста на голую землю. – Услади нам слух, Махмуд: расскажи этому охотнику его будущее.
Махмуд принес дутар и хотел сесть возле Кипчакбая, но тот толкнул его ногой.
– Садись возле Джуры.
– Нет, нет, я старик, я боюсь! – умоляюще сказал Махмуд, пододвигаясь к Кипчакбаю.
Тот усмехнулся и разрешил ему сесть у своих ног. «Почему певец меня боится?» – удивился Джура. А Махмуд пел:
Любовь к родным горам, родному кишлаку зажгла его глаза ярким блеском и окрасила щеки румянцем. Этот румянец был отблеском того внутреннего пожара, в котором сгорали его мальчишеские и юношеские заблуждения.
И вот самые сокровенные мысли и надежды, затаенные глубоко в душе молодого охотника, враги вырвали и бросили ему в лицо! Слова: «Будь Кипчакбаю другом ты – жизнью станут эти мечты!» – ранили его насмерть.
Басмачи – это раскаленные шомпола, кровь, страдания, горе и слезы. А Зейнеб, его Зейнеб!… От этих песен можно сойти с ума! – «О благоуханное дыхание молодости! – пел Махмуд. – О свобода, свобода, свобода, свобода!…»
– Замолчи, проклятый, замолчи! – закричал Джура. Басмачи, сидевшие возле Кипчакбая, вскочили, выставив вперед ружья.
– Пой, – усмехаясь, приказал Кипчакбай перепуганному Махмуду. И тот продолжал петь.
Джура бросился на певца, но стража Кипчакбая оттолкнула его. Тогда он закрыл руками уши, но Кипчакбай велел завязать ему руки на спине.
– Не мучь! Лучше убей! – кричал Джура.
– Сознайся: ты убил Артабека? – сладким голосом спросил Кипчакбай.
– Да, я! Я никогда не скрывал этого.
– Ты откровенно сознаешься! Тем лучше. А куда дел фирман Ага– хана!
– Я не видел никакого фирмана. Много всяких бумажек было в его сумке, я все выбросил.
– Ты должен знать, где фирман! Скажи, и я отпущу тебя на волю.
– Если бы я нашел фирман, я отдал бы его Козубаю или пограничникам! – Джура насупился.
– А сколько бойцов в отряде Козубая?… Молчишь? Значит, не хочешь быть мне другом? Пой, Махмуд! – приказал Кипчакбай, возбужденно потирая пухлые руки.
По приказу Кипчакбая возле Джуры поставили блюдо плова. Аромат риса и жареного мяса разносился вокруг голодного Джуры, но он не желал принимать еду из рук врагов.
– Говори! – приказал Кипчакбай, вскочив с помоста и подходя к узнику.
Джура сжался и изо всех сил ударил Кипчакбая ногой в живот. Кипчакбай упал. Невероятным усилием Джура разорвал веревки, разбросал стражу и подбежал к забору, но слуги Кипчакбая сбили его с ног.
– Отойдите, отойдите! – кричал, придя в себя, бледный от злости Кипчакбай. Он выхватил маузер.
– Почтенный Кипчакбай, вы все ещё считаете себя знатоком человеческих душ? – спросил, выходя из дома, высокий голубоглазый человек.
– Это большевик! – кричал Кипчакбай, размахивая маузером. – Он коммунист и чекист. Его необходимо убить.
– Не надо преувеличивать. Ведь он почти подросток. Говорят, ему нет и семнадцати лет. Имам Балбак поручил мне потолковать с ним. Сожалею, но мне придется обойтись без ваших песенных методов. Чтобы из камня высечь искру, надо крепко ударить кремнем. – Вряд ли ваша индийская практика поможет вам в этом случае, – ответил Кипчакбай, успокаиваясь. – Вы не знаете памирских горцев. Его уже пытали джигиты Тагая – его не сломила боль. Я взывал к его уму, пытался прельстить его богатством и славой – он, дикарь, не понял своей выгоды. Сейчас я нашел слабые струны его души. Это его самое уязвимое место. Но я подчиняюсь приказу имама. – Кипчакбай низко поклонился.
Джура пытливо смотрел в глаза Чжао.
– Терпи и молчи, что бы ни было! – сказал Чжао значительно. – Может, убежишь, – шепнул Саид.
Наверху Джуру поджидали пять человек. Ему связали руки и ноги и, привязав к коню, повезли куда-то.
Был такой же ясный день. Джура смотрел на покрытые снегом далекие горы и жадно дышал полной грудью. Окруженный охраной, он проехал по тем же улицам города. У тех же резных ворот двухэтажного дома старший из стражи крикнул:
– Эй, Юнус!
В воротах открылось окошко, и в нем показался большой толстый нос и блестящие глаза.
– Хоп, – сказал обладатель этого носа.
Загремели засовы, заскрипели ворота, и Джура очутился во дворе. Так, связанного, на лошади его ввезли во второй двор. Посреди второго двора под тенистыми деревьями, возле большого водоема, высился помост с крышей. На кошмах и расшитых подушках лежал толстяк Кипчакбай, одетый в яркий шелковый халат. Люди, сопровождавшие Джуру, сложив руки на животе, низко кланялись. Один из них шепотом сказал Джуре:
– Приветствуй раиса Кипчакбая.
Но Джура гордо промолчал: ещё не зажили раны от первой встречи с Кипчакбаем.
Из широкого водоема, журча, струился арык.
Указательным пальцем левой руки, украшенным толстым перстнем, Кипчакбай чесал за ухом кошку, разлегшуюся перед ним на подушке, и бросал крошки большому золотисто-красному петуху. Кипчакбай молча рассматривал Джуру. После продолжительного молчания он приказал развязать веревки и снять его с коня. Джура, став на землю, пошатнулся: у него затекли ноги. – Целуй! – сказал ему Кипчакбай, протягивая свою пухлую руку. Но Джура не двинулся с места.
– Ты разве не знаешь, кто я?
– Знаю, – ответил Джура, глядя на него исподлобья. – Мой приказ – закон для правоверного. Или ты неверующий? Говори, собака!
Кипчакбай сел на подушки и свесил ногу за край помоста. – Целуй! – сказал он, протягивая ему ногу.
Джура отвернулся. Кипчакбай сжал кулаки и топнул ногой. Петух отскочил и захлопал крыльями.
– Эй, Махмуд! – крикнул Кипчакбай.
Прибежал тщедушный старик. Его выпирающий вперед подбородок почти смыкался с огромным горбатым носом.
– Садись, – сказал Кипчакбай Джуре и бросил ему подушку. Джура, поджав ноги, сел там же, где стоял. Кипчакбай кивнул стражам, и они сели возле помоста на голую землю. – Услади нам слух, Махмуд: расскажи этому охотнику его будущее.
Махмуд принес дутар и хотел сесть возле Кипчакбая, но тот толкнул его ногой.
– Садись возле Джуры.
– Нет, нет, я старик, я боюсь! – умоляюще сказал Махмуд, пододвигаясь к Кипчакбаю.
Тот усмехнулся и разрешил ему сесть у своих ног. «Почему певец меня боится?» – удивился Джура. А Махмуд пел:
Звучание струн наполняло уши Джуры свистом горного ветра, звоном потоков и гулом битв. Он невольно застонал. Мечты о свободной и счастливой военной жизни, о мести, претворившись в надежду, поддерживали молодого охотника, помогая ему переносить неволю.
Я, переживший гола, Махмуд, черный от черного дыма юрт,
Сколько видал, сколько слыхал, сказов рассказывал, песен певал!
Но даже и я, переживший года, не видел и вряд ли увижу когда
Мужа храбрее тебя, батыр!
Это тобою гордится мир!
О тонколицый Джура-исполин, много прошел ты горных вершин.
Сотни потоков в горном краю пеной омыли грудь твою!
Свистнешь, могучий, громче пурги – дряблобрюхие вздрогнут враги,
Вислоухие хвастуны, важные только возле жены…
Тучей морозной ты упадешь; грозномогучий, врагов обойдешь,
Будешь стрелять их, будешь крошить, будешь калечить, не дашь им жить!
Дверь позлащенную, из серебра ты поднимешь, батыр Джура,
Над высоким своим седлом острым булатным своим мечом!
Будь Кипчакбаю другом ты – жизнью станут эти мечты!
Войлоки с вражеских юрт обдерешь – на потники их изрежет твой нож.
Слушай, Джура, Махмуда слова: юрты врагов разберешь на дрова!
В сорокадневных пустынях пески, но ты в них откроешь, Джура, родники.
Там, среди самоцветных камней, будешь поить и мыть коней!
Будь Кипчакбаю другом ты – жизнью станут эти мечты!
Лучших коней – жеребцов и кобыл, – чтобы огонь под копытами бил,
Сильной и ловкой рукою в борьбе лучших коней ты добудешь себе.
Время настало: на волю пора, сердце железное, храбрый Джура,
С жилами крепче каменных гор, взором, пылающим, словно костер!
Будь Кипчакбаю другом ты – жизнью станут эти мечты!
В яме глубокой сохнешь ты, беркут, рожденный для высоты.
Дева Зейнеб, светлее дня, сядет сзади тебя на коня.
Будь Кипчакбаю другом ты – жизнью станут эти мечты![44]
Любовь к родным горам, родному кишлаку зажгла его глаза ярким блеском и окрасила щеки румянцем. Этот румянец был отблеском того внутреннего пожара, в котором сгорали его мальчишеские и юношеские заблуждения.
И вот самые сокровенные мысли и надежды, затаенные глубоко в душе молодого охотника, враги вырвали и бросили ему в лицо! Слова: «Будь Кипчакбаю другом ты – жизнью станут эти мечты!» – ранили его насмерть.
Басмачи – это раскаленные шомпола, кровь, страдания, горе и слезы. А Зейнеб, его Зейнеб!… От этих песен можно сойти с ума! – «О благоуханное дыхание молодости! – пел Махмуд. – О свобода, свобода, свобода, свобода!…»
– Замолчи, проклятый, замолчи! – закричал Джура. Басмачи, сидевшие возле Кипчакбая, вскочили, выставив вперед ружья.
– Пой, – усмехаясь, приказал Кипчакбай перепуганному Махмуду. И тот продолжал петь.
Джура бросился на певца, но стража Кипчакбая оттолкнула его. Тогда он закрыл руками уши, но Кипчакбай велел завязать ему руки на спине.
– Не мучь! Лучше убей! – кричал Джура.
– Сознайся: ты убил Артабека? – сладким голосом спросил Кипчакбай.
– Да, я! Я никогда не скрывал этого.
– Ты откровенно сознаешься! Тем лучше. А куда дел фирман Ага– хана!
– Я не видел никакого фирмана. Много всяких бумажек было в его сумке, я все выбросил.
– Ты должен знать, где фирман! Скажи, и я отпущу тебя на волю.
– Если бы я нашел фирман, я отдал бы его Козубаю или пограничникам! – Джура насупился.
– А сколько бойцов в отряде Козубая?… Молчишь? Значит, не хочешь быть мне другом? Пой, Махмуд! – приказал Кипчакбай, возбужденно потирая пухлые руки.
По приказу Кипчакбая возле Джуры поставили блюдо плова. Аромат риса и жареного мяса разносился вокруг голодного Джуры, но он не желал принимать еду из рук врагов.
– Говори! – приказал Кипчакбай, вскочив с помоста и подходя к узнику.
Джура сжался и изо всех сил ударил Кипчакбая ногой в живот. Кипчакбай упал. Невероятным усилием Джура разорвал веревки, разбросал стражу и подбежал к забору, но слуги Кипчакбая сбили его с ног.
– Отойдите, отойдите! – кричал, придя в себя, бледный от злости Кипчакбай. Он выхватил маузер.
– Почтенный Кипчакбай, вы все ещё считаете себя знатоком человеческих душ? – спросил, выходя из дома, высокий голубоглазый человек.
– Это большевик! – кричал Кипчакбай, размахивая маузером. – Он коммунист и чекист. Его необходимо убить.
– Не надо преувеличивать. Ведь он почти подросток. Говорят, ему нет и семнадцати лет. Имам Балбак поручил мне потолковать с ним. Сожалею, но мне придется обойтись без ваших песенных методов. Чтобы из камня высечь искру, надо крепко ударить кремнем. – Вряд ли ваша индийская практика поможет вам в этом случае, – ответил Кипчакбай, успокаиваясь. – Вы не знаете памирских горцев. Его уже пытали джигиты Тагая – его не сломила боль. Я взывал к его уму, пытался прельстить его богатством и славой – он, дикарь, не понял своей выгоды. Сейчас я нашел слабые струны его души. Это его самое уязвимое место. Но я подчиняюсь приказу имама. – Кипчакбай низко поклонился.
V
Потянулись мучительные дни. Теперь пленников по очереди часто уводили на допрос. Сквозь решетку в яму падал снег, и арестованные жались к стенам, дрожа от холода.
Джура стал ещё более молчаливым, угрюмым и раздражительным. Он похудел, кашлял и по целым дням неподвижно лежал на спине. Он так тосковал, что Саид как-то подсел к нему и сказал: – Эй, Джура, ты стал как баба. Хоть рассердись или ударь меня!
Это не развеселило Джуру. Не утешали его и обещания Чжао, что скоро настанет время, когда они возвратятся на родину. Узникам стали давать ещё меньше еды. Сторожа издевались над ними и бросали в них кусками дерева, будили их криками среди ночи, часто не давали воды. Все это делалось по приказанию Кипчакбая. Однажды Джура взял у Саида обломок ножа и вырезал из дерева собаку.
– Вот мой Тэке, – сказал он.
Чжао и Саид удивились тонкой работе. Деревянная собака очень походила на живую.
– Эту игрушку можно продать, – сказал практичный Саид. – Теперь ты, Джура, можешь кормить и себя и нас. Мы попросим сторожей, и они будут продавать твои изделия на базаре. Джура вырезал медведя, лису, хорька. Саид попросил у охраны отпустить его на базар. Ему ответили, что это им запрещено. Саид бросил наверх фигурки и попросил продать их, а на вырученные деньги купить им немного еды.
Узники нетерпеливо ждали. На третий день один из сторожей наклонился над ямой. Лицо его было в синяках, глаза красные. – Плохо! – сказал Чжао, увидев его злое лицо. – Я продал игрушки, – сказал сторож, – и выпил за ваше здоровье. Берите! – Он бросил им сверток.
Узники развернули его. Там были лепешки, немного мяса и вареного риса.
– Давайте опять игрушки – продам, – сказал сторож. – Только уговор: давайте мне одному!
Джура с увлечением вырезал деревянные фигурки: барса с двигающимися ногами, орла, голову которого можно было заменить головой человека. Деревянные орлы были у него в детстве, а барса с двигающимися ногами он придумал сам.
Однажды сторож, продав игрушки, отодвинул решетку и сказал: – Слушай, охотник! За твою игрушку – помнишь, ты вырезал девушку у костра и двух охотников, из которых один целится ей в грудь, а другой стоит возле двух собак, – хорошо заплатили. Вот вам еда! – И он сбросил сверток с лепешками и мясом. – А ты не знаешь, кто купил? – спросил Чжао. – Жена курбаши Тагая, красавица Зейнеб, – ответил сторож и задвинул решетку.
Джура стал ещё более молчаливым, угрюмым и раздражительным. Он похудел, кашлял и по целым дням неподвижно лежал на спине. Он так тосковал, что Саид как-то подсел к нему и сказал: – Эй, Джура, ты стал как баба. Хоть рассердись или ударь меня!
Это не развеселило Джуру. Не утешали его и обещания Чжао, что скоро настанет время, когда они возвратятся на родину. Узникам стали давать ещё меньше еды. Сторожа издевались над ними и бросали в них кусками дерева, будили их криками среди ночи, часто не давали воды. Все это делалось по приказанию Кипчакбая. Однажды Джура взял у Саида обломок ножа и вырезал из дерева собаку.
– Вот мой Тэке, – сказал он.
Чжао и Саид удивились тонкой работе. Деревянная собака очень походила на живую.
– Эту игрушку можно продать, – сказал практичный Саид. – Теперь ты, Джура, можешь кормить и себя и нас. Мы попросим сторожей, и они будут продавать твои изделия на базаре. Джура вырезал медведя, лису, хорька. Саид попросил у охраны отпустить его на базар. Ему ответили, что это им запрещено. Саид бросил наверх фигурки и попросил продать их, а на вырученные деньги купить им немного еды.
Узники нетерпеливо ждали. На третий день один из сторожей наклонился над ямой. Лицо его было в синяках, глаза красные. – Плохо! – сказал Чжао, увидев его злое лицо. – Я продал игрушки, – сказал сторож, – и выпил за ваше здоровье. Берите! – Он бросил им сверток.
Узники развернули его. Там были лепешки, немного мяса и вареного риса.
– Давайте опять игрушки – продам, – сказал сторож. – Только уговор: давайте мне одному!
Джура с увлечением вырезал деревянные фигурки: барса с двигающимися ногами, орла, голову которого можно было заменить головой человека. Деревянные орлы были у него в детстве, а барса с двигающимися ногами он придумал сам.
Однажды сторож, продав игрушки, отодвинул решетку и сказал: – Слушай, охотник! За твою игрушку – помнишь, ты вырезал девушку у костра и двух охотников, из которых один целится ей в грудь, а другой стоит возле двух собак, – хорошо заплатили. Вот вам еда! – И он сбросил сверток с лепешками и мясом. – А ты не знаешь, кто купил? – спросил Чжао. – Жена курбаши Тагая, красавица Зейнеб, – ответил сторож и задвинул решетку.
СТАРУХА КУРЛЯУШ ДЕЙСТВУЕТ
I
В одном из больших кишлаков Кашгарии в юрте собралось много женщин. Они чинно уселись у стен вокруг костра. На разостланном достурхане – скатерти лежали яства. Были здесь мурабба – мармелад из мелко нарезанной моркови, вымоченной в сахарном сиропе, кишалле – крем из толченого сахара, взбитый на яичном белке, и много других сладких и вкусных вещей. Угощала всех пожилая хозяйка юрты, жена Кипчакбая, у которой временно жила Зейнеб.
– Кушайте, кушайте! – повторяла хозяйка, подавая угощения. Разговор шел о Зейнеб. Ее красота вызывала зависть у присутствующих женщин.
– У неё дерзкие глаза, – шепнула одна, не найдя других пороков.
– И слишком маленькие руки, – вставила другая. – Она не сможет хорошо работать.
– Ее косы не настоящие. Разве могут быть такие длинные косы? W сказала третья.
– Она слишком громко смеется. Похоже, что мы должны смущаться, а не она, – добавила четвертая.
Все это говорилось шепотом, но так, чтобы Зейнеб слышала. Вначале она растерялась, но, услышав слова одной из женщин: «У неё был дружок, какой-то охотник», покраснела и рассердилась. Когда же Зейнеб злилась, она не боялась ничего и никого и могла нагрубить даже аксакалу, которого боялась больше всех. – Ты молодая девушка и должна радоваться, что курбаши Тагай вырвал тебя из бедности, чтобы приблизить к себе, дать тебе радость быть с нами, – сказала, обращаясь к Зейнеб, жена Кипчакбая.
– Я замужем! – сердито и гордо ответила Зейнеб. – Мой Джура – великий охотник. Я здесь нахожусь временно.
Жена Кипчакбая рассердилась, но с притворно-вежливой улыбкой продолжала:
– Ты ещё дика, дитя мое, но курбаши тебя приручит, как приручают беркутов и соколов. Он подарит тебе дорогие вещи, от которых ты будешь без ума и забудешь Джуру.
– Не хватит золота! – резко ответила Зейнеб и гордо подняла рукав халата, чтобы все видели два золотых браслета: один с красным камнем и второй – с желтым.
Все удивились, но жена Кипчакбая сказала:
– Курбаши Тагай тоже богат!
– Пхе! У Джуры во сто раз больше золота. Тагай против Джуры бедняк.
– Но курбаши Тагай такой сильный!
– Пхе! Джура во много раз сильнее, – отвечала Зейнеб. Гостьи смущенно переглядывались.
– Но курбаши Тагай такой меткий стрелок!
– Пхе! Джура – великий стрелок: он на лету сбивает улара, – отвечала Зейнеб.
– Но курбаши Тагай правоверный, и все чтут его! – Правоверный? А я вот не буду надевать паранджу, этот сплетенный в сетку конский хвост! Наш Мухаммед этого не завещал. Возмущенные гостьи поспешили уйти.
Об этом разговоре донесли Кипчакбаю, и он, завидуя положению Тагая, обрадовался случаю причинить ему неприятность. Утром он, пользуясь своим правом муллы, вызвал Тагая к себе. – Тебя считают славным и знаменитым, – сказал он, – а какая– то девчонка с Советского Памира всенародно позорит тебя. Если об этих разговорах узнает имам Балбак… – Кипчакбай многозначительно помолчал. – Ты знаменитый курбаши, а не можешь справиться со своей бабой, и она позорит тебя.
В страшной злобе скакал Тагай от Кипчакбая.
– Баба позорит меня! – сказал он громко, входя в юрту, где жила Зейнеб. – Ты позоришь меня, девчонка! Ты смеешь говорить, что Джура богаче, сильнее… Ну!
Зейнеб молчала. Ее злоба давно сменилась усталостью. – Ну! – закричал Тагай, подходя к ней и поднимая нагайку. Зейнеб не ответила ни слова. Тагай слегка хлестнул её нагайкой по плечу. Зейнеб вздрогнула и ещё ниже опустила голову. Тагай разозлился:
– Ты моя раба! Понимаешь? Никакой Джура не придет сюда. Мои басмачи застрелили Джуру, как собаку, и золото отобрали. Я возьму тебя в жены. Бойся меня… или продам первому встречному. Поняла?… Рабыней сделаю! Аксакал продал мне тебя.
Зейнеб быстро подняла голову и в упор посмотрела в глаза Тагаю: правду ли он говорит?
– А твоя клятва на хлебе? – испуганно спросила Зейнеб. – Ты поклялся, что Джура жив…
Курбаши взял лепешку и, ломая её, сказал:
– Пусть побьет меня гром небесный, да не есть мне хлеба! Ты моя раба! Джура убит. Аксакал тоже убит – правда, это я сделал нечаянно.
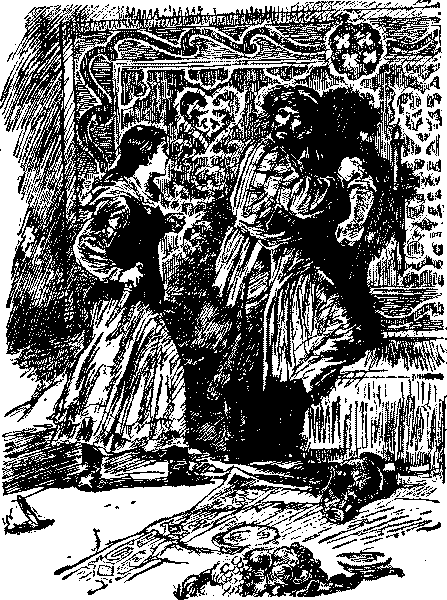 Зейнеб плюнула Тагаю в лицо. Разозлившийся Тагай бросился душить девушку. Зейнеб почти потеряла сознание. Случайно её рука натолкнулась на рукоятку ножа, висевшего на поясе Тагая. Она выхватила нож. Нож разрезал халат и вонзился Тагаю в левую руку. Тагай стиснул зубы и начал изо всех сил хлестать Зейнеб нагайкой. Зейнеб молчала и только вздрагивала. Тагай бил девушку до тех пор, пока она не упала на пол. Он вышел, зажимая рану рукой. Лишь тогда Зейнеб разрыдалась от обиды, боли и отчаяния.
Зейнеб плюнула Тагаю в лицо. Разозлившийся Тагай бросился душить девушку. Зейнеб почти потеряла сознание. Случайно её рука натолкнулась на рукоятку ножа, висевшего на поясе Тагая. Она выхватила нож. Нож разрезал халат и вонзился Тагаю в левую руку. Тагай стиснул зубы и начал изо всех сил хлестать Зейнеб нагайкой. Зейнеб молчала и только вздрагивала. Тагай бил девушку до тех пор, пока она не упала на пол. Он вышел, зажимая рану рукой. Лишь тогда Зейнеб разрыдалась от обиды, боли и отчаяния.
– Кушайте, кушайте! – повторяла хозяйка, подавая угощения. Разговор шел о Зейнеб. Ее красота вызывала зависть у присутствующих женщин.
– У неё дерзкие глаза, – шепнула одна, не найдя других пороков.
– И слишком маленькие руки, – вставила другая. – Она не сможет хорошо работать.
– Ее косы не настоящие. Разве могут быть такие длинные косы? W сказала третья.
– Она слишком громко смеется. Похоже, что мы должны смущаться, а не она, – добавила четвертая.
Все это говорилось шепотом, но так, чтобы Зейнеб слышала. Вначале она растерялась, но, услышав слова одной из женщин: «У неё был дружок, какой-то охотник», покраснела и рассердилась. Когда же Зейнеб злилась, она не боялась ничего и никого и могла нагрубить даже аксакалу, которого боялась больше всех. – Ты молодая девушка и должна радоваться, что курбаши Тагай вырвал тебя из бедности, чтобы приблизить к себе, дать тебе радость быть с нами, – сказала, обращаясь к Зейнеб, жена Кипчакбая.
– Я замужем! – сердито и гордо ответила Зейнеб. – Мой Джура – великий охотник. Я здесь нахожусь временно.
Жена Кипчакбая рассердилась, но с притворно-вежливой улыбкой продолжала:
– Ты ещё дика, дитя мое, но курбаши тебя приручит, как приручают беркутов и соколов. Он подарит тебе дорогие вещи, от которых ты будешь без ума и забудешь Джуру.
– Не хватит золота! – резко ответила Зейнеб и гордо подняла рукав халата, чтобы все видели два золотых браслета: один с красным камнем и второй – с желтым.
Все удивились, но жена Кипчакбая сказала:
– Курбаши Тагай тоже богат!
– Пхе! У Джуры во сто раз больше золота. Тагай против Джуры бедняк.
– Но курбаши Тагай такой сильный!
– Пхе! Джура во много раз сильнее, – отвечала Зейнеб. Гостьи смущенно переглядывались.
– Но курбаши Тагай такой меткий стрелок!
– Пхе! Джура – великий стрелок: он на лету сбивает улара, – отвечала Зейнеб.
– Но курбаши Тагай правоверный, и все чтут его! – Правоверный? А я вот не буду надевать паранджу, этот сплетенный в сетку конский хвост! Наш Мухаммед этого не завещал. Возмущенные гостьи поспешили уйти.
Об этом разговоре донесли Кипчакбаю, и он, завидуя положению Тагая, обрадовался случаю причинить ему неприятность. Утром он, пользуясь своим правом муллы, вызвал Тагая к себе. – Тебя считают славным и знаменитым, – сказал он, – а какая– то девчонка с Советского Памира всенародно позорит тебя. Если об этих разговорах узнает имам Балбак… – Кипчакбай многозначительно помолчал. – Ты знаменитый курбаши, а не можешь справиться со своей бабой, и она позорит тебя.
В страшной злобе скакал Тагай от Кипчакбая.
– Баба позорит меня! – сказал он громко, входя в юрту, где жила Зейнеб. – Ты позоришь меня, девчонка! Ты смеешь говорить, что Джура богаче, сильнее… Ну!
Зейнеб молчала. Ее злоба давно сменилась усталостью. – Ну! – закричал Тагай, подходя к ней и поднимая нагайку. Зейнеб не ответила ни слова. Тагай слегка хлестнул её нагайкой по плечу. Зейнеб вздрогнула и ещё ниже опустила голову. Тагай разозлился:
– Ты моя раба! Понимаешь? Никакой Джура не придет сюда. Мои басмачи застрелили Джуру, как собаку, и золото отобрали. Я возьму тебя в жены. Бойся меня… или продам первому встречному. Поняла?… Рабыней сделаю! Аксакал продал мне тебя.
Зейнеб быстро подняла голову и в упор посмотрела в глаза Тагаю: правду ли он говорит?
– А твоя клятва на хлебе? – испуганно спросила Зейнеб. – Ты поклялся, что Джура жив…
Курбаши взял лепешку и, ломая её, сказал:
– Пусть побьет меня гром небесный, да не есть мне хлеба! Ты моя раба! Джура убит. Аксакал тоже убит – правда, это я сделал нечаянно.
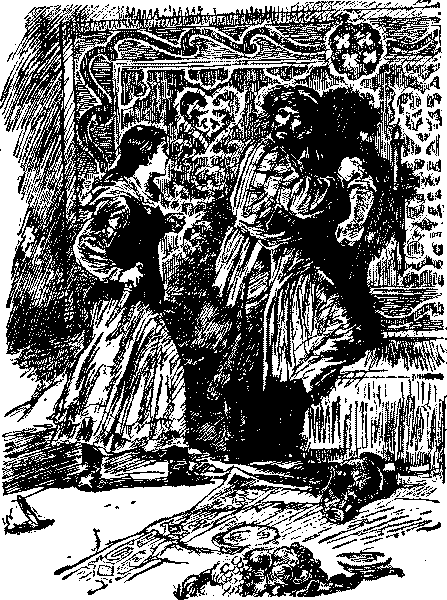
II
С каждым днем линия снегов, покрывавших горы, опускалась все ниже и ниже.
На всех окрестных джейлау уже не было видно ни одной юрты. Хозяева их перекочевали в кишлаки, чтобы перезимовать в своих кибитках, защищенных от зимних ветров толстыми глинобитными стенами.
Мало стало лошадей на пастбище. Курбаши Азим, злой костлявый старик, уехал с басмачами на запад, чтобы через Маркан-Су прорваться на Кизил-Арт, а оттуда – в богатую Ферганскую долину. Только на джейлау, где находилась белая юрта Тагая, никто не снимал своих юрт.
Так Тагаю приказал тот, кто снабжал его оружием, боеприпасами и деньгами, тот, кто написал секретное письмо Кзицкому: «Господин Кзицкий. 5. XI. Курбаши*** предупрежден И. 8123». После того вечера, когда Тагай открыл Зейнеб всю правду, она только и думала о побеге, не в силах простить себе, что не убежала сразу и поверила Тагаю и аксакалу.
Однажды утром, дождавшись, когда хозяйка куда-то вышла, Зейнеб схватила тыкву для воды и пошла к реке. Не успела она пройти и двадцати шагов, как мальчишки окружили её, преградив дорогу.
Тотчас же примчалась жена Кипчакбая и погнала её обратно в юрту.
– Разве я не сказала тебе, чтоб ты сидела и никуда не ходила? Не сегодня, так завтра приедет старая Курляуш, служанка твоего курбаши. Я передам тебя ей, и тогда делай, что хочешь. Зейнеб не слушала ее; поднявшись на носках, она смотрела на безносого басмача, ехавшего верхом между юртами, и вспоминала, не тот ли это басмач, что поймал её на Биллянд-Киике. Басмач увидел её и помахал нагайкой.
– Ты его знаешь? – недоуменно спросила жена Кипчакбая. Но Зейнеб не ответила. Она подбежала к басмачу и схватила его за стремя.
На всех окрестных джейлау уже не было видно ни одной юрты. Хозяева их перекочевали в кишлаки, чтобы перезимовать в своих кибитках, защищенных от зимних ветров толстыми глинобитными стенами.
Мало стало лошадей на пастбище. Курбаши Азим, злой костлявый старик, уехал с басмачами на запад, чтобы через Маркан-Су прорваться на Кизил-Арт, а оттуда – в богатую Ферганскую долину. Только на джейлау, где находилась белая юрта Тагая, никто не снимал своих юрт.
Так Тагаю приказал тот, кто снабжал его оружием, боеприпасами и деньгами, тот, кто написал секретное письмо Кзицкому: «Господин Кзицкий. 5. XI. Курбаши*** предупрежден И. 8123». После того вечера, когда Тагай открыл Зейнеб всю правду, она только и думала о побеге, не в силах простить себе, что не убежала сразу и поверила Тагаю и аксакалу.
Однажды утром, дождавшись, когда хозяйка куда-то вышла, Зейнеб схватила тыкву для воды и пошла к реке. Не успела она пройти и двадцати шагов, как мальчишки окружили её, преградив дорогу.
Тотчас же примчалась жена Кипчакбая и погнала её обратно в юрту.
– Разве я не сказала тебе, чтоб ты сидела и никуда не ходила? Не сегодня, так завтра приедет старая Курляуш, служанка твоего курбаши. Я передам тебя ей, и тогда делай, что хочешь. Зейнеб не слушала ее; поднявшись на носках, она смотрела на безносого басмача, ехавшего верхом между юртами, и вспоминала, не тот ли это басмач, что поймал её на Биллянд-Киике. Басмач увидел её и помахал нагайкой.
– Ты его знаешь? – недоуменно спросила жена Кипчакбая. Но Зейнеб не ответила. Она подбежала к басмачу и схватила его за стремя.
