Страница:
Гарольд, отвечая ласковой улыбкой на приветствия народа, проехал мост и выехал на пустоши, тянувшиеся на протяжении всей кентской дороги. Он ехал медленно, погруженный в раздумье. Не успел он проехать и половины пути, как услышал позади частый, но глухой топот некованых копыт; он тотчас обернулся и увидел отряд конных валлийцев. По этой же дороге ехало одновременно несколько человек, спешивших на празднество; эти люди смутили, очевидно, валлийцев, и они свернули в сторону и поехали лесом, держась его опушки. Все это возбудило подозрение графа; хотя он не думал, чтобы лично у него могли быть враги. Несмотря на то, что из-за строгости законов о разбойниках большие дороги в последние годы царствования саксонских королей были гораздо безопаснее, чем несколько столетий спустя под управлением следующей династии, когда саксонские таны стали сами атаманами разбойников, тем не менее возмущения, возникшие при Эдуарде, расплодили немало распущенных наемников, за которых, конечно, было трудно ручаться.
Гарольд имел при себе секиру, с которой саксы почти никогда не расставались, да еще меч. Заметив, что дорога стала пустеть, он пришпорил коня, и был уже виден языческий храм, когда одна стрела пролетела внезапно мимо его груди, а другая поразила коня. Граф быстро вскочил, но десять мечей уже сверкали перед ним, так как валлийцы спешились после падения его лошади. К счастью Гарольда, только двое из них имели с собой стрелы, которыми валлийцы владели с редким искусством; выпустив их, они схватились за мечи, заимствованные у римлян, и бросились на графа. Гарольд ловко владел всем распространенным в то время оружием; он правой рукой сдерживал напор, а левой отражал удары мечом. Он убил того, кто стоял ближе всех, ранил сильно другого, но сам получил три раны. Он мог спастись, только пробившись сквозь круг свирепых неприятелей. Граф схватил меч в правую руку, обернул левую полой плаща в виде щита и мужественно бросился на острые мечи. Пал один из врагов, сраженный в сердце, повалился другой, а у третьего Гарольд выбил меч. Громко звал он на помощь, быстро убегая, останавливаясь только, чтоб отражать удары. Снова пал один враг, снова свежая кровь обагрила одежду молодого Гарольда. В эго мгновение на зов его откликнулся такой резкий, пронзительный и почти дикий крик, что все невольно вздрогнули. Валлийцы не успели возобновить атаку: пред ними вдруг оказалась женщина.
– Прочь отсюда, Эдит! Боже мой! Прочь отсюда! – крикнул граф, которому страх, впервые овладевший его бесстрашным сердцем, возвратил сразу силы. Оттащив Эдит в сторону, он выступил опять против своих врагов.
– Умри! – проревел самый свирепый воин, меч которого ранил уже дважды Гарольда.
С бешенством ринулся Мирдит с товарищами на Гарольда, но в это же мгновение Эдит стала щитом своего жениха, не стесняя движений его правой руки. Видя это, валлийцы опустили мечи. Эти люди, не колебавшиеся убить человека для блага своей родины, были потомками доблестных воинов и считали позором поднять руку на женщину. То, что спасло от смерти Гарольда, спасло и Мирдита: подняв поспешно меч, он открыл свою грудь, но Гарольд, несмотря на свой гнев и страх за жизнь своей Эдит, не захотел воспользоваться этой оплошностью.
– Зачем вам моя жизнь? – спросил спокойно граф. – Кого в огромной Англии мог обидеть Гарольд?!
Слова эти рассеяли удивление и разбудили мщение: меч Мирдита сверкнул над головой графа. Он скользнул по клинку, подставленному графом, и клинок Гарольда вонзился в грудь Мирдита: он рухнул на землю. Сеорли римской виллы, услышавшие крики, поспешили на помощь, вооруженные чем попало, в то же время из леса раздались оклики, и на опушку выехал Вебба со своими всадниками. Валлийцы, оставшись без вождя, бежали с быстротой, которой они отличались; подзывая своих лошадок, с фырканьем прискакавших на их зов. Беглецы хватали первую попавшуюся под руку лошадь и садились на нее; лошади, оставшиеся без всадников, останавливались у трупов убитых хозяев, жалобно ржали, но потом, покружившись около прибывших всадников, с диким ржанием бросились вслед за валлийцами и исчезли в лесу. Несколько человек из дружины Веббы кинулись в погоню за беглецами, но напрасно, потому что они уже скрылись в густом лесу. Вебба же с остальными воинами и с сеорлами Хильды бросился к месту, где Гарольд, истекая кровью, был еще на ногах и, забыв о себе, радовался, что Эдит невредима. Вебба сошел с коня и, узнав Гарольда, спросил его заботливо:
– Вовремя мы подоспели? Ты истекаешь кровью... Как ты себя чувствуешь? Успокой меня, граф!
– В моих жилах осталось еще довольно много крови, чтобы принести пользу Англии, – ответил он со спокойной и ясной улыбкой.
Но едва граф успел произнести эти слова, как голова его опустилась на грудь, и его отнесли в глубочайшем обмороке в старинный дом пророчицы.
ГЛАВА 2
 Хильда не выразила удивления при виде окровавленного и бледного Гарольда. Вебба, до которого доходили рассказы о ее чародействе, был уже готов подумать, что страшные разбойники на крошечных косматых лошадках были демоны, духи, вызванные и посланные Хильдой для того, чтобы наказать жениха ее внучки Эдит. Подозрения тана еще больше усилились, когда раненого внесли по крутой лестнице в ту самую комнату, где он увидел загадочный достопамятный сон, и Хильда удалила из нее всех присутствующих.
Хильда не выразила удивления при виде окровавленного и бледного Гарольда. Вебба, до которого доходили рассказы о ее чародействе, был уже готов подумать, что страшные разбойники на крошечных косматых лошадках были демоны, духи, вызванные и посланные Хильдой для того, чтобы наказать жениха ее внучки Эдит. Подозрения тана еще больше усилились, когда раненого внесли по крутой лестнице в ту самую комнату, где он увидел загадочный достопамятный сон, и Хильда удалила из нее всех присутствующих.
– Нет, – заметил ей Вебба, – жизнь графа слишком дорога, чтобы оставлять его на попечение женщины... и притом чародейки. Я поеду в столицу за его постоянным врачом и прошу тебя помнить, что ты и все твои люди ответите головой за безопасность графа.
Гордая внучка королей не привыкла к такому обращению. Она быстро обернулась и взглянула так грозно и повелительно, что смелый тан смутился. Указывая на дверь, она сухо сказала:
– Уходи отсюда! Жизнь графа спасла женщина. Уходи же немедленно!
– Не тревожься за графа, добрый и верный друг, – прошептала Эдит, стоявшая как статуя у постели Гарольда. Тан был глубоко тронут ее кротким голосом и вышел, не ответив.
Хильда ловко и искусно стала осматривать раны больного, нанесенные в грудь и плечо; обмыла их. Эдит глухо вскрикнула и, склонив голову к руке жениха, прильнула к ней губами. Ее сердце забилось, когда она увидела, что на груди Гарольда, по местному обычаю, выколот талисман, называемый также узлом обручения, а посреди его ее имя «Эдит».
Он отослал врача, которого все-таки прислал ему Вебба, и спокойно вверился искусству и познаниям Хильды. Счастливо текло время под древним римским кровом.
Не без суеверного волнения, в котором было больше нежности, чем страха, узнал Гарольд, что тайное предчувствие опасности, угрожавшей ему, смущало сердце Эдит, и она просидела все утро на кургане, ожидая его. Не этим ли фюльгия спасла его от смерти?
Было действительно что-то загадочное, похожее на истину в утверждении Хильды, что его дух-хранитель носит образ Эдит: вернее был каждый шаг, светлы все дни Гарольда с тех пор, как сердца их соединились в любви. Суеверное чувство слилось с земной страстью; в любви Гарольда была такая глубина, такая чистота, которая встречается крайне редко у мужчин. Одним словом, Гарольд привык видеть в Эдит только доброго гения и счел бы святотатством все, что бросило бы тень на ее непорочность. С благородным терпением ждал он, пока текли месяцы и годы, и довольствовался одной отдаленной надеждой.
– Помнишь, как недоверчиво я смеялась, Гарольд, когда ты старался уверить меня, что и для Англии, и для тебя будет лучше, если Эдуард вызовет Этелинга? Помнишь, я еще ответила тебе: «Слушаясь единственно своего рассудка, ты только исполняешь волю судьбы, потому что прибытие Этелинга еще скорее приблизит тебя к цели твоей жизни; но не от Этелинга получишь ты награду своей любви, и не он взойдет на престол Этельстона»?
– Что ты хочешь рассказать мне? Неужели о каком-нибудь несчастии, постигшем Этелинга? – воскликнул Гарольд в сильном волнении, вскакивая со своего места. – Он казался больным и слабым, когда я видел его, но я надеялся, что воздух родины и радость укрепят его.
– Слушай внимательнее, – проговорила Хильда, – это пение за упокой души сына Эдмунда Железнобокого.
Действительно, в это время раздались какие-то унылые звуки. Эдит пробормотала молитву, потом она обратилась к Гарольду:
– Не печалься, Гарольд, и не теряй надежды!
– Еще бы не надеется, – заметила Хильда, гордо выпрямляясь во весь рост, – только глухой может не расслышать и не понять, что в этом погребальном пении выражается и радостное приветствие будущему королю.
Граф вздрогнул, глаза его засверкали, как угольки, грудь вздымалась от волнения.
– Оставь нас, Эдит, – приказала Хильда вполголоса. Когда молодая девушка нехотя спустилась с холма, Хильда обратилась к Гарольду и, подведя его к надгробному камню сакса, произнесла: – Я говорила тебе тогда, что не могу понять тайны твоего сна, пока Скульда не просветит моего разума; говорила также, что погребенный под этим камнем является людям за тем только, чтобы возвестить о дальнейшей судьбе дом Сердика; вот и свершилось: не стало преемника Сердика. А кому же явился великий Синлека, как не тому, кто возведет новый род королей на престол Англии?
Дыхание Гарольда прервалось в груди, краска покрыла его щеки и лоб.
– Я не могу отрицать твоих слов, – ответил он. – Ты ошибаешься только в том, если боги пощадят жизнь Эдуарда до тех пор, пока сын Этелинга не достигнет лет, когда старики могут признать его вождем... Иначе же я тщетно осматриваюсь кругом по всей Англии и ищу будущего короля; предо мной возникает только собственный образ. – Сказав это он поднял голову, и царское величие осенило его чело, как будто на нем уже сиял венец. – Если это исполнится, – продолжал он, – я приму это признание, и Англия возвеличится в мое правление!
– Пламя вспыхнуло, наконец, из тлеющего угля; наступил и тот час, который я давно предвещала тебе, – проговорила Хильда.
– И тогда Эдит, жизнь которой ты спасла от верной смерти, будет вся безраздельно принадлежать мне! – воскликнул пылко граф. – Однако этот сон, все еще не забытый, из которого я смутно помню одни только опасности, борьбу и торжество... Способна ли ты разгадать его смысл и указать, что в нем предвещает успех?
– Гарольд, – ответила Хильда, – ты слышал в конце своего сна песни, которые поются при венчании королей; ты будешь венценосным королем, но страшные враги окружать тебя, и это предвещают в твоем сне лев и ворон. Две звезды на небе знаменуют, что день твоего рождения был в то же время днем рождения врага, звезда которого и погубит твою звезду. Я не провижу далее... Не хочешь ли ты сам узнать значение из уст приведения, пославшего сон? Стань возле меня на могиле саксонского воина; я вызову Синлеку, заставлю его научить живого... Чего мертвый, может быть, не захочет открыть мне, то душа воина откроет для другого воина.
Гарольд слушал ее с задумчивым вниманием, гордость и рассудок его не удостоились предсказания Хильды. Впрочем, его рассудок привык считать их бреднями; Гарольд ответил с привычной улыбкою:
– Рука того, кто хочет взять царский венец, должна держать оружие, а человек, желающий охранять живых, не должен знаться с мертвыми.
ГЛАВА 3
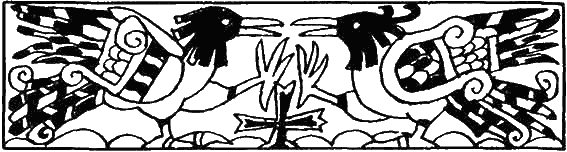 В характере Гарольда с этого времени произошли большие перемены. Он действовал до этого без расчета: природа и обстоятельства, а не соображения ума возвели его на эту высоту. Теперь он стал сознательно возводить основание будущего и расширять пределы своей деятельности, чтобы удовлетворить честолюбие. Политика примешивалась в нем к чувству справедливости, сникавшему ему общее уважение, и к великодушию, заслужившему ему народную любовь. Прежде он, несмотря на свое миролюбие, не заботился о вражде, которую мог вызвать, слепо подчинялся внушениям своей совести; теперь же он начал заботиться о том, чтобы прекратить старую вражду и соперничество. Он завел дружбу со своим дядей Свейном, королем Датским, и искусно пользовался влиянием среди англодатчан, которое давало ему происхождение матери. Он также благоразумно старался ослабить вражду, которую священники всегда питали к дому Годвина; скрывал свое презрение к ним, щедро одаривал храмы, в особенности вельтемский, оказавшийся в нищете. Храмы, пользовавшиеся его расположением и щедротами, принадлежали к числу тех, которые наиболее славились нравственностью священников, милосердием к бедным и смелой оглаской злоупотреблений и пороков знатных людей. Он не думал, подобно герцогу Нормандскому, образовать Коллегию искусств: это еще было невозможно в невежественной, грубой Англии; ему просто хотелось, чтобы святые отцы сочувствовали необразованному народу, помогали ему словом и делом. Образцами он избрал в вельтемском монастыре двух братьев низкого происхождения, Осгода и Эйльреда. Первый из них был замечателен мужеством, с каким проповедовал отшельникам и танам, что освобождение рабов – богоугодное дело; другой был женат по обыкновению саксонских священников и отстаивал этот обычай от нормандцев: он даже отказался от звания тана, предложенного ему с условием бросить свою жену. После смерти жены он защищал по-прежнему законность брака священников, прославился в особенности своими обличениями людей, отличающихся пороком и цинизмом.
В характере Гарольда с этого времени произошли большие перемены. Он действовал до этого без расчета: природа и обстоятельства, а не соображения ума возвели его на эту высоту. Теперь он стал сознательно возводить основание будущего и расширять пределы своей деятельности, чтобы удовлетворить честолюбие. Политика примешивалась в нем к чувству справедливости, сникавшему ему общее уважение, и к великодушию, заслужившему ему народную любовь. Прежде он, несмотря на свое миролюбие, не заботился о вражде, которую мог вызвать, слепо подчинялся внушениям своей совести; теперь же он начал заботиться о том, чтобы прекратить старую вражду и соперничество. Он завел дружбу со своим дядей Свейном, королем Датским, и искусно пользовался влиянием среди англодатчан, которое давало ему происхождение матери. Он также благоразумно старался ослабить вражду, которую священники всегда питали к дому Годвина; скрывал свое презрение к ним, щедро одаривал храмы, в особенности вельтемский, оказавшийся в нищете. Храмы, пользовавшиеся его расположением и щедротами, принадлежали к числу тех, которые наиболее славились нравственностью священников, милосердием к бедным и смелой оглаской злоупотреблений и пороков знатных людей. Он не думал, подобно герцогу Нормандскому, образовать Коллегию искусств: это еще было невозможно в невежественной, грубой Англии; ему просто хотелось, чтобы святые отцы сочувствовали необразованному народу, помогали ему словом и делом. Образцами он избрал в вельтемском монастыре двух братьев низкого происхождения, Осгода и Эйльреда. Первый из них был замечателен мужеством, с каким проповедовал отшельникам и танам, что освобождение рабов – богоугодное дело; другой был женат по обыкновению саксонских священников и отстаивал этот обычай от нормандцев: он даже отказался от звания тана, предложенного ему с условием бросить свою жену. После смерти жены он защищал по-прежнему законность брака священников, прославился в особенности своими обличениями людей, отличающихся пороком и цинизмом.
Постепенно все голоса сливались в один похвальный и понемногу люди свыклись с вопросом: «Если Эдуард умрет прежде, чем Эдгар сын Этелинга достигнет совершеннолетия, где тогда искать другого короля, подобного Гарольду?»
Альгар был единственным соперником его могущества и единственным врагом, которого ничто не могло смягчить и которому его наследственное имя обеспечило привязанность всего саксонского народа; беспокойный же дух Альгара сделал его кумиром датчан Восточной Англии. Став после смерти отца графом Мерсии, Альгар воспользовался усилием власти, чтобы вызвать мятеж. Он, как и в первый раз, был осужден к изгнанию и вступил вновь в союз с беспокойным Гриффитом. Весь Валлис восстал; неприятель занял марки и опустошал их. В это критическое время умер Рольф, слабый граф Гирфордский, а бывшие под его начальством нормандские наемники взбунтовались против новых вождей. Норвежские викинги стали грабить западные берега, вошел в устье Меная и присоединился к флоту Гриффита. Англосаксонское государство стало на край гибели, но Эдуард создал общее ополчение, и Гарольд с королевскими войсками вышел против мятежников.
Гибельны были валлийские ущелья; в них были перебиты почти все войны Рольфа. Саксонское войско никогда еще не одерживало победы в кембрийских горах, и никогда еще саксонский флот не мог справиться с кораблями грозных норвежских викингов. Первая неудача Гарольда могла погубить все дело.
В спутнике рыцаря можно было узнать коренного сакса. Его небольшое квадратное лицо весьма резко отличалось от красивого, благородного профиля юноши. У оруженосца были громадные усы и невероятно густая борода. Кожаная туника его, ниспадавшая до колен, стягивалась на талии широким ремнем, а наверх был надет плащ без рукавов, скрепленный на правом плече большой брошью. На голове красовалось что-то вроде тюрбана. В довершение его портрета скажем, что открытая его грудь вся была испещрена девизами, а некрасивое лицо свидетельствовало о том, что он не лишен некоторой гордости и своеобразного ума.
– Сексвульф, милый друг, – начал рыцарь, обращаясь к саксонцу, – я прошу тебя смотреть на нас с меньшим пренебрежением, потому что нормандцы и саксы происходят от одного и того же корня, и наши предки говорили на одном языке.
– Может быть, язык датчан тоже немного отличается от нашего, но это не мешало им жечь наши дома и резать нас, как кур.
– Ну, что поминать о старине! Ты, впрочем, очень кстати сравнил нормандцев с датчанами... Видишь ли, последние стали очень мирными английскими подданными.
– Не лучше ли оставить этот бесполезный разговор? – сказал сакс, инстинктивно чувствовавший, что ему не переспорить ученого рыцаря, но понимавший, что нормандец недаром заговорил с ним таким дружеским тоном. – Я никогда не поверю, мессир Малье, или Гравель, не взыщи, если я не так величаю тебя, я ни за что не поверю, чтобы саксы с нормандцами когда-либо искренно полюбили друг друга... А вот и монастырь, в котором ты желал остановиться.
Саксонец указал на низкое, грубое, деревянное здание, стоявшее на самом краю болота, кишащего улитками и разного рода гадами.
– Хотелось бы, друг Сексвульф, чтоб ты видел нормандские храмы, – сказал Малье де-Гравиль, презрительно пожав плечами, – они выстроены из камня и красуются в самых прелестных местностях! Наша графиня Матильда понимает толк в архитектуре и выписывает техников из Ломбардии, где обретаются самые лучшие зодчие.
– Ну, уж прошу тебя не рассказывать это королю Эдуарду! А то он, чего доброго, захочет подражать нормандцам, а в казне и так уже почти пусто.
Нормандец набожно перекрестился, как будто Сексвульф возвел хулу на Бога.
– Ты, однако, не очень-то уважаешь монастыри, достойный саксонец, – заметил он.
– Я воспитан в труде и терпеть не могу тунеядцев, которые поглощают заработанное мною, – пробурчал Сексвульф. – Разве тебе неизвестно, что одна треть всех земель Англии принадлежит священникам?
– Гм! – промычал нормандец, который, несмотря на все свое благочестие, прекрасно умел пользоваться грубой откровенностью своего спутника. – Мне кажется, что и у тебя есть причины быть не совсем довольным в этой веселой Англии, мой друг!
– Да, и я не скрываю этого... Главное различие между тобой и мной именно в том, что я смело могу высказывать свои мнения, между тем как ты за откровенность в своей Нормандии можешь поплатиться и жизнью.
– Ну уж, замолчи лучше! – воскликнул Малье де-Гравиль презрительно, причем глаза его гневно засверкали. – Каким бы строгим судьей и славным полководцем ни был герцог Вильгельм, все-таки его бароны и рыцари никогда не унижаются пред ним и не любят держать язык за зубами.
– Может быть, но это только таны... Ну, а сеорлы? Что скажешь о них, могут ли и они высказывать свое неудовольствие и открыто заявлять, что они думают о тане и начальниках, как мы это делаем?
Нормандец чуть было не ответил отрицательно, но, к счастью, опомнился вовремя и произнес снисходительно:
– Каждое сословие имеет свои обычаи, дорогой Сексвульф, а если б герцог Вильгельм стал королем Английским, то тоже не стеснял бы сеорлей.
– Что-о-о? – вскликнул Сексвульф, покраснев до ушей. – Герцог Вильгельм – король Английский? Что за чушь ты болтаешь, мессир Малье? Да может ли когда-нибудь нормандец стать королем Английским?
– Ну, а почему эта мысль показалась тебе такой оскорбительной? Твой король бездетен, Вильгельм же родственник его и любим им как брат; если б Эдуард передал ему престол... – с гневом ответил Малье де-Гравиль.
– Престол вовсе не для того существует, чтобы его передавали из рук в руки, словно вещь какую! – в бешенстве заревел Сексвульф. – Неужели ты воображаешь, что мы коровы или бараны... или домашний скарб какой, который можно передавать по наследство, а? Воля короля хоть и уважается, но пока это не вредит интересам народным... На то у нас есть и Витан, который имеет полное право противоречить королю... Какими бы это судьбами мог твой герцог сделаться королем Английским?! Ха-ха-ха!
– Скотина ты этакая! – пробормотал рыцарь, а потом сказал вслух: – Почему ты так сочувственно говоришь о сеорлах? Ты ведь вождь, чуть ли не тан?
– Я сочувствую им потому, что сам родился сеорлем от сеорла, хотя внуки мои, наверное, будут танами, а, может быть, даже и графами.
Де-Гравиль невольно отъехал немного в сторону от Сексвульфа, как будто ему стало унизительно ехать рядом с сыном сеорла.
– Я никак не могу понять, как это ты, будучи рожден сеорлем, мог сделаться начальником войска у графа Гарольда!? – произнес он высокомерно.
– Где ж тебе понять это! – огрызнулся саксонец. – Но я уж так и быть расскажу, как это случилось. Знай же, что мы, сеорли, помогли Клапе перекупить владение графа Гарольда, которое было отобрано у него, когда король приговорил весь род Годвина к изгнанию; кроме этого, мы получили еще и другой дом его, который попал было к одному нормандцу. Мы пахали землю, следили за стадами и поддерживали здания, пока граф не вернулся из изгнания.
– Значит у вас, сеорлей, были собственные деньги? – воскликнул де-Гравиль с жадностью.
– Чем же мы откупились бы от неволи, если б у нас не было денег? Каждый сеорл имеет право работать несколько часов в день на себя... Ну, мы и истратили все наши заработки в пользу графа Гарольда. Когда он вернулся, то пожаловал Клапе столько земли, что он сразу же сделался таном, а помогавшим Клапе дал волю и земли, так что многие из них теперь имеют свой плуг и порядочные стада. Я же, как человек неженатый, любя графа всем сердцем, попросил позволить мне служить в его войске.
– Теперь-то я понял, – ответил де-Гравиль задумчиво.
– Но сеорли все-таки никогда не могут достичь высшего положения, поэтому им должно быть совершенно безразлично, кто у них король – нормандец или бородатый сакс.
– В этом ты прав, это им действительно безразлично, потому что многие из них воры и грабители или, по крайней мере, происходят от них, а у остальных предки варвары, побежденные когда-то саксонцами. Им нет никакого дела до государства и его судьбы, но все же и они не совсем лишены надежды, потому что о них заботятся священники, и это, признаться, делает им честь. Каждый из их владельцев, – продолжал сакс, – успокаиваясь после волнений, обязан освободить трех рабов в своих вотчинах, и редко кто из эрлов умирает, не даровав нескольким из своих людей свободу, а сыновья этих освобожденных уж могут быть танами, чему есть примеры.
– Непостижимо! – воскликнул нормандец. – Но, наверно, они еще носят на себе признаки своего низкого происхождения и должны терпеть презрение природных танов?
– Вовсе нет, да я и не могу согласиться с тем, чтобы их было за что презирать; ведь деньги – деньгами, а земля остается той же землею, в чьих руках она ни была бы. Нам буквально все равно, кто был отцом человека, владеющего, например, десятью десятинами земли.
– Вы придаете громадное значение деньгам и земле, но у нас благородное происхождение и славное имя ставятся гораздо выше, – заметил де-Гравиль.
– Это потому, что вы еще не выросли из пеленок, – ответил Сексвульф насмешливо. – У нас есть очень хорошая пословица: «Все происходят от Адама, исключая Тиба, пахаря; но когда Тиб разбогатеет, то мы все называем его милым братом».
– Если вы обладаете такими низкими понятиями, нашим предкам, норвежцам и датчанам, разумеется, не стоило большого труда побеждать вас! Любовь к старинным обычаям, горячая вера и почтение к благородным родам – самое лучшее оружие против врагов...
С этими словами сир де-Гравиль въехал во двор храма, где он был встречен каким-то священником, который повел его к отцу Гильому. Последний несколько минут с радостью и изумлением оглядывая прибывшего с головы до ног, а потом обнял его и от души расцеловал.
– Ах, дорогой брат, – воскликнул Гильом по-французски, – как я рад видеть тебя, ты и вообразить себе не можешь, как приятно видеть земляка в чужой стране, где нет даже хороших поваров!
– Так как ты упомянул о поварах, почтенный отец, – сказал де-Гравиль, расстегивая свой крепко стянутый кушак, – то имею честь заметить тебе, что я страшно проголодался, так как не ел ничего с самого утра.
– Ах, ах! – завопил Гильом жалобно. – Ты, видно, и понятия не имеешь, каким лишениям мы тут подвергаемся. В нашей кладовой почти нет ничего, кроме солонины да...
Гарольд имел при себе секиру, с которой саксы почти никогда не расставались, да еще меч. Заметив, что дорога стала пустеть, он пришпорил коня, и был уже виден языческий храм, когда одна стрела пролетела внезапно мимо его груди, а другая поразила коня. Граф быстро вскочил, но десять мечей уже сверкали перед ним, так как валлийцы спешились после падения его лошади. К счастью Гарольда, только двое из них имели с собой стрелы, которыми валлийцы владели с редким искусством; выпустив их, они схватились за мечи, заимствованные у римлян, и бросились на графа. Гарольд ловко владел всем распространенным в то время оружием; он правой рукой сдерживал напор, а левой отражал удары мечом. Он убил того, кто стоял ближе всех, ранил сильно другого, но сам получил три раны. Он мог спастись, только пробившись сквозь круг свирепых неприятелей. Граф схватил меч в правую руку, обернул левую полой плаща в виде щита и мужественно бросился на острые мечи. Пал один из врагов, сраженный в сердце, повалился другой, а у третьего Гарольд выбил меч. Громко звал он на помощь, быстро убегая, останавливаясь только, чтоб отражать удары. Снова пал один враг, снова свежая кровь обагрила одежду молодого Гарольда. В эго мгновение на зов его откликнулся такой резкий, пронзительный и почти дикий крик, что все невольно вздрогнули. Валлийцы не успели возобновить атаку: пред ними вдруг оказалась женщина.
– Прочь отсюда, Эдит! Боже мой! Прочь отсюда! – крикнул граф, которому страх, впервые овладевший его бесстрашным сердцем, возвратил сразу силы. Оттащив Эдит в сторону, он выступил опять против своих врагов.
– Умри! – проревел самый свирепый воин, меч которого ранил уже дважды Гарольда.
С бешенством ринулся Мирдит с товарищами на Гарольда, но в это же мгновение Эдит стала щитом своего жениха, не стесняя движений его правой руки. Видя это, валлийцы опустили мечи. Эти люди, не колебавшиеся убить человека для блага своей родины, были потомками доблестных воинов и считали позором поднять руку на женщину. То, что спасло от смерти Гарольда, спасло и Мирдита: подняв поспешно меч, он открыл свою грудь, но Гарольд, несмотря на свой гнев и страх за жизнь своей Эдит, не захотел воспользоваться этой оплошностью.
– Зачем вам моя жизнь? – спросил спокойно граф. – Кого в огромной Англии мог обидеть Гарольд?!
Слова эти рассеяли удивление и разбудили мщение: меч Мирдита сверкнул над головой графа. Он скользнул по клинку, подставленному графом, и клинок Гарольда вонзился в грудь Мирдита: он рухнул на землю. Сеорли римской виллы, услышавшие крики, поспешили на помощь, вооруженные чем попало, в то же время из леса раздались оклики, и на опушку выехал Вебба со своими всадниками. Валлийцы, оставшись без вождя, бежали с быстротой, которой они отличались; подзывая своих лошадок, с фырканьем прискакавших на их зов. Беглецы хватали первую попавшуюся под руку лошадь и садились на нее; лошади, оставшиеся без всадников, останавливались у трупов убитых хозяев, жалобно ржали, но потом, покружившись около прибывших всадников, с диким ржанием бросились вслед за валлийцами и исчезли в лесу. Несколько человек из дружины Веббы кинулись в погоню за беглецами, но напрасно, потому что они уже скрылись в густом лесу. Вебба же с остальными воинами и с сеорлами Хильды бросился к месту, где Гарольд, истекая кровью, был еще на ногах и, забыв о себе, радовался, что Эдит невредима. Вебба сошел с коня и, узнав Гарольда, спросил его заботливо:
– Вовремя мы подоспели? Ты истекаешь кровью... Как ты себя чувствуешь? Успокой меня, граф!
– В моих жилах осталось еще довольно много крови, чтобы принести пользу Англии, – ответил он со спокойной и ясной улыбкой.
Но едва граф успел произнести эти слова, как голова его опустилась на грудь, и его отнесли в глубочайшем обмороке в старинный дом пророчицы.
ГЛАВА 2

– Нет, – заметил ей Вебба, – жизнь графа слишком дорога, чтобы оставлять его на попечение женщины... и притом чародейки. Я поеду в столицу за его постоянным врачом и прошу тебя помнить, что ты и все твои люди ответите головой за безопасность графа.
Гордая внучка королей не привыкла к такому обращению. Она быстро обернулась и взглянула так грозно и повелительно, что смелый тан смутился. Указывая на дверь, она сухо сказала:
– Уходи отсюда! Жизнь графа спасла женщина. Уходи же немедленно!
– Не тревожься за графа, добрый и верный друг, – прошептала Эдит, стоявшая как статуя у постели Гарольда. Тан был глубоко тронут ее кротким голосом и вышел, не ответив.
Хильда ловко и искусно стала осматривать раны больного, нанесенные в грудь и плечо; обмыла их. Эдит глухо вскрикнула и, склонив голову к руке жениха, прильнула к ней губами. Ее сердце забилось, когда она увидела, что на груди Гарольда, по местному обычаю, выколот талисман, называемый также узлом обручения, а посреди его ее имя «Эдит».
* * *
Благодаря ли волшебному врачеванию Хильды или заботы Эдит, Гарольд скоро поправился. Он был, может быть, рад случаю, удержавшему его на римской вилле.Он отослал врача, которого все-таки прислал ему Вебба, и спокойно вверился искусству и познаниям Хильды. Счастливо текло время под древним римским кровом.
Не без суеверного волнения, в котором было больше нежности, чем страха, узнал Гарольд, что тайное предчувствие опасности, угрожавшей ему, смущало сердце Эдит, и она просидела все утро на кургане, ожидая его. Не этим ли фюльгия спасла его от смерти?
Было действительно что-то загадочное, похожее на истину в утверждении Хильды, что его дух-хранитель носит образ Эдит: вернее был каждый шаг, светлы все дни Гарольда с тех пор, как сердца их соединились в любви. Суеверное чувство слилось с земной страстью; в любви Гарольда была такая глубина, такая чистота, которая встречается крайне редко у мужчин. Одним словом, Гарольд привык видеть в Эдит только доброго гения и счел бы святотатством все, что бросило бы тень на ее непорочность. С благородным терпением ждал он, пока текли месяцы и годы, и довольствовался одной отдаленной надеждой.
* * *
В один прекрасный летний день Эдит с Гарольдом сидели среди мрачных колонн друидского храма. Они вспоминали прошлое и мечтали о будущем, когда Хильда подошла к ним и, опершись о жертвенник Тора, сказала:– Помнишь, как недоверчиво я смеялась, Гарольд, когда ты старался уверить меня, что и для Англии, и для тебя будет лучше, если Эдуард вызовет Этелинга? Помнишь, я еще ответила тебе: «Слушаясь единственно своего рассудка, ты только исполняешь волю судьбы, потому что прибытие Этелинга еще скорее приблизит тебя к цели твоей жизни; но не от Этелинга получишь ты награду своей любви, и не он взойдет на престол Этельстона»?
– Что ты хочешь рассказать мне? Неужели о каком-нибудь несчастии, постигшем Этелинга? – воскликнул Гарольд в сильном волнении, вскакивая со своего места. – Он казался больным и слабым, когда я видел его, но я надеялся, что воздух родины и радость укрепят его.
– Слушай внимательнее, – проговорила Хильда, – это пение за упокой души сына Эдмунда Железнобокого.
Действительно, в это время раздались какие-то унылые звуки. Эдит пробормотала молитву, потом она обратилась к Гарольду:
– Не печалься, Гарольд, и не теряй надежды!
– Еще бы не надеется, – заметила Хильда, гордо выпрямляясь во весь рост, – только глухой может не расслышать и не понять, что в этом погребальном пении выражается и радостное приветствие будущему королю.
Граф вздрогнул, глаза его засверкали, как угольки, грудь вздымалась от волнения.
– Оставь нас, Эдит, – приказала Хильда вполголоса. Когда молодая девушка нехотя спустилась с холма, Хильда обратилась к Гарольду и, подведя его к надгробному камню сакса, произнесла: – Я говорила тебе тогда, что не могу понять тайны твоего сна, пока Скульда не просветит моего разума; говорила также, что погребенный под этим камнем является людям за тем только, чтобы возвестить о дальнейшей судьбе дом Сердика; вот и свершилось: не стало преемника Сердика. А кому же явился великий Синлека, как не тому, кто возведет новый род королей на престол Англии?
Дыхание Гарольда прервалось в груди, краска покрыла его щеки и лоб.
– Я не могу отрицать твоих слов, – ответил он. – Ты ошибаешься только в том, если боги пощадят жизнь Эдуарда до тех пор, пока сын Этелинга не достигнет лет, когда старики могут признать его вождем... Иначе же я тщетно осматриваюсь кругом по всей Англии и ищу будущего короля; предо мной возникает только собственный образ. – Сказав это он поднял голову, и царское величие осенило его чело, как будто на нем уже сиял венец. – Если это исполнится, – продолжал он, – я приму это признание, и Англия возвеличится в мое правление!
– Пламя вспыхнуло, наконец, из тлеющего угля; наступил и тот час, который я давно предвещала тебе, – проговорила Хильда.
– И тогда Эдит, жизнь которой ты спасла от верной смерти, будет вся безраздельно принадлежать мне! – воскликнул пылко граф. – Однако этот сон, все еще не забытый, из которого я смутно помню одни только опасности, борьбу и торжество... Способна ли ты разгадать его смысл и указать, что в нем предвещает успех?
– Гарольд, – ответила Хильда, – ты слышал в конце своего сна песни, которые поются при венчании королей; ты будешь венценосным королем, но страшные враги окружать тебя, и это предвещают в твоем сне лев и ворон. Две звезды на небе знаменуют, что день твоего рождения был в то же время днем рождения врага, звезда которого и погубит твою звезду. Я не провижу далее... Не хочешь ли ты сам узнать значение из уст приведения, пославшего сон? Стань возле меня на могиле саксонского воина; я вызову Синлеку, заставлю его научить живого... Чего мертвый, может быть, не захочет открыть мне, то душа воина откроет для другого воина.
Гарольд слушал ее с задумчивым вниманием, гордость и рассудок его не удостоились предсказания Хильды. Впрочем, его рассудок привык считать их бреднями; Гарольд ответил с привычной улыбкою:
– Рука того, кто хочет взять царский венец, должна держать оружие, а человек, желающий охранять живых, не должен знаться с мертвыми.
ГЛАВА 3
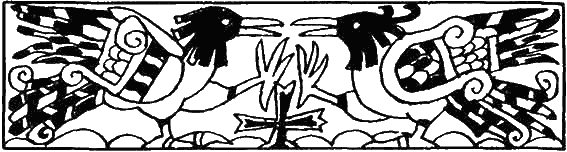
Постепенно все голоса сливались в один похвальный и понемногу люди свыклись с вопросом: «Если Эдуард умрет прежде, чем Эдгар сын Этелинга достигнет совершеннолетия, где тогда искать другого короля, подобного Гарольду?»
Альгар был единственным соперником его могущества и единственным врагом, которого ничто не могло смягчить и которому его наследственное имя обеспечило привязанность всего саксонского народа; беспокойный же дух Альгара сделал его кумиром датчан Восточной Англии. Став после смерти отца графом Мерсии, Альгар воспользовался усилием власти, чтобы вызвать мятеж. Он, как и в первый раз, был осужден к изгнанию и вступил вновь в союз с беспокойным Гриффитом. Весь Валлис восстал; неприятель занял марки и опустошал их. В это критическое время умер Рольф, слабый граф Гирфордский, а бывшие под его начальством нормандские наемники взбунтовались против новых вождей. Норвежские викинги стали грабить западные берега, вошел в устье Меная и присоединился к флоту Гриффита. Англосаксонское государство стало на край гибели, но Эдуард создал общее ополчение, и Гарольд с королевскими войсками вышел против мятежников.
Гибельны были валлийские ущелья; в них были перебиты почти все войны Рольфа. Саксонское войско никогда еще не одерживало победы в кембрийских горах, и никогда еще саксонский флот не мог справиться с кораблями грозных норвежских викингов. Первая неудача Гарольда могла погубить все дело.
* * *
В один жаркий августовский день по живописной местности марок ехали двое всадников. Младший из них, очевидно, был нормандцем, это доказывали его коротко остриженные волосы, маленький бархатный берет и красивая одежда. Золотые шпоры отличали в нем рыцаря. За ним следовал его оруженосец, ведя на поводу великолепного боевого коня, а в конце тихо плелись три тяжело нагруженные лошади, сопровождаемые тремя рабами. На этих несчастных лошадях был навален не только целый арсенал, но и громадное количество вин, провианта и всевозможные одежды. Все это принадлежало молодому рыцарю. Арьергард составлял небольшой отряд легко вооруженных ратников.В спутнике рыцаря можно было узнать коренного сакса. Его небольшое квадратное лицо весьма резко отличалось от красивого, благородного профиля юноши. У оруженосца были громадные усы и невероятно густая борода. Кожаная туника его, ниспадавшая до колен, стягивалась на талии широким ремнем, а наверх был надет плащ без рукавов, скрепленный на правом плече большой брошью. На голове красовалось что-то вроде тюрбана. В довершение его портрета скажем, что открытая его грудь вся была испещрена девизами, а некрасивое лицо свидетельствовало о том, что он не лишен некоторой гордости и своеобразного ума.
– Сексвульф, милый друг, – начал рыцарь, обращаясь к саксонцу, – я прошу тебя смотреть на нас с меньшим пренебрежением, потому что нормандцы и саксы происходят от одного и того же корня, и наши предки говорили на одном языке.
– Может быть, язык датчан тоже немного отличается от нашего, но это не мешало им жечь наши дома и резать нас, как кур.
– Ну, что поминать о старине! Ты, впрочем, очень кстати сравнил нормандцев с датчанами... Видишь ли, последние стали очень мирными английскими подданными.
– Не лучше ли оставить этот бесполезный разговор? – сказал сакс, инстинктивно чувствовавший, что ему не переспорить ученого рыцаря, но понимавший, что нормандец недаром заговорил с ним таким дружеским тоном. – Я никогда не поверю, мессир Малье, или Гравель, не взыщи, если я не так величаю тебя, я ни за что не поверю, чтобы саксы с нормандцами когда-либо искренно полюбили друг друга... А вот и монастырь, в котором ты желал остановиться.
Саксонец указал на низкое, грубое, деревянное здание, стоявшее на самом краю болота, кишащего улитками и разного рода гадами.
– Хотелось бы, друг Сексвульф, чтоб ты видел нормандские храмы, – сказал Малье де-Гравиль, презрительно пожав плечами, – они выстроены из камня и красуются в самых прелестных местностях! Наша графиня Матильда понимает толк в архитектуре и выписывает техников из Ломбардии, где обретаются самые лучшие зодчие.
– Ну, уж прошу тебя не рассказывать это королю Эдуарду! А то он, чего доброго, захочет подражать нормандцам, а в казне и так уже почти пусто.
Нормандец набожно перекрестился, как будто Сексвульф возвел хулу на Бога.
– Ты, однако, не очень-то уважаешь монастыри, достойный саксонец, – заметил он.
– Я воспитан в труде и терпеть не могу тунеядцев, которые поглощают заработанное мною, – пробурчал Сексвульф. – Разве тебе неизвестно, что одна треть всех земель Англии принадлежит священникам?
– Гм! – промычал нормандец, который, несмотря на все свое благочестие, прекрасно умел пользоваться грубой откровенностью своего спутника. – Мне кажется, что и у тебя есть причины быть не совсем довольным в этой веселой Англии, мой друг!
– Да, и я не скрываю этого... Главное различие между тобой и мной именно в том, что я смело могу высказывать свои мнения, между тем как ты за откровенность в своей Нормандии можешь поплатиться и жизнью.
– Ну уж, замолчи лучше! – воскликнул Малье де-Гравиль презрительно, причем глаза его гневно засверкали. – Каким бы строгим судьей и славным полководцем ни был герцог Вильгельм, все-таки его бароны и рыцари никогда не унижаются пред ним и не любят держать язык за зубами.
– Может быть, но это только таны... Ну, а сеорлы? Что скажешь о них, могут ли и они высказывать свое неудовольствие и открыто заявлять, что они думают о тане и начальниках, как мы это делаем?
Нормандец чуть было не ответил отрицательно, но, к счастью, опомнился вовремя и произнес снисходительно:
– Каждое сословие имеет свои обычаи, дорогой Сексвульф, а если б герцог Вильгельм стал королем Английским, то тоже не стеснял бы сеорлей.
– Что-о-о? – вскликнул Сексвульф, покраснев до ушей. – Герцог Вильгельм – король Английский? Что за чушь ты болтаешь, мессир Малье? Да может ли когда-нибудь нормандец стать королем Английским?
– Ну, а почему эта мысль показалась тебе такой оскорбительной? Твой король бездетен, Вильгельм же родственник его и любим им как брат; если б Эдуард передал ему престол... – с гневом ответил Малье де-Гравиль.
– Престол вовсе не для того существует, чтобы его передавали из рук в руки, словно вещь какую! – в бешенстве заревел Сексвульф. – Неужели ты воображаешь, что мы коровы или бараны... или домашний скарб какой, который можно передавать по наследство, а? Воля короля хоть и уважается, но пока это не вредит интересам народным... На то у нас есть и Витан, который имеет полное право противоречить королю... Какими бы это судьбами мог твой герцог сделаться королем Английским?! Ха-ха-ха!
– Скотина ты этакая! – пробормотал рыцарь, а потом сказал вслух: – Почему ты так сочувственно говоришь о сеорлах? Ты ведь вождь, чуть ли не тан?
– Я сочувствую им потому, что сам родился сеорлем от сеорла, хотя внуки мои, наверное, будут танами, а, может быть, даже и графами.
Де-Гравиль невольно отъехал немного в сторону от Сексвульфа, как будто ему стало унизительно ехать рядом с сыном сеорла.
– Я никак не могу понять, как это ты, будучи рожден сеорлем, мог сделаться начальником войска у графа Гарольда!? – произнес он высокомерно.
– Где ж тебе понять это! – огрызнулся саксонец. – Но я уж так и быть расскажу, как это случилось. Знай же, что мы, сеорли, помогли Клапе перекупить владение графа Гарольда, которое было отобрано у него, когда король приговорил весь род Годвина к изгнанию; кроме этого, мы получили еще и другой дом его, который попал было к одному нормандцу. Мы пахали землю, следили за стадами и поддерживали здания, пока граф не вернулся из изгнания.
– Значит у вас, сеорлей, были собственные деньги? – воскликнул де-Гравиль с жадностью.
– Чем же мы откупились бы от неволи, если б у нас не было денег? Каждый сеорл имеет право работать несколько часов в день на себя... Ну, мы и истратили все наши заработки в пользу графа Гарольда. Когда он вернулся, то пожаловал Клапе столько земли, что он сразу же сделался таном, а помогавшим Клапе дал волю и земли, так что многие из них теперь имеют свой плуг и порядочные стада. Я же, как человек неженатый, любя графа всем сердцем, попросил позволить мне служить в его войске.
– Теперь-то я понял, – ответил де-Гравиль задумчиво.
– Но сеорли все-таки никогда не могут достичь высшего положения, поэтому им должно быть совершенно безразлично, кто у них король – нормандец или бородатый сакс.
– В этом ты прав, это им действительно безразлично, потому что многие из них воры и грабители или, по крайней мере, происходят от них, а у остальных предки варвары, побежденные когда-то саксонцами. Им нет никакого дела до государства и его судьбы, но все же и они не совсем лишены надежды, потому что о них заботятся священники, и это, признаться, делает им честь. Каждый из их владельцев, – продолжал сакс, – успокаиваясь после волнений, обязан освободить трех рабов в своих вотчинах, и редко кто из эрлов умирает, не даровав нескольким из своих людей свободу, а сыновья этих освобожденных уж могут быть танами, чему есть примеры.
– Непостижимо! – воскликнул нормандец. – Но, наверно, они еще носят на себе признаки своего низкого происхождения и должны терпеть презрение природных танов?
– Вовсе нет, да я и не могу согласиться с тем, чтобы их было за что презирать; ведь деньги – деньгами, а земля остается той же землею, в чьих руках она ни была бы. Нам буквально все равно, кто был отцом человека, владеющего, например, десятью десятинами земли.
– Вы придаете громадное значение деньгам и земле, но у нас благородное происхождение и славное имя ставятся гораздо выше, – заметил де-Гравиль.
– Это потому, что вы еще не выросли из пеленок, – ответил Сексвульф насмешливо. – У нас есть очень хорошая пословица: «Все происходят от Адама, исключая Тиба, пахаря; но когда Тиб разбогатеет, то мы все называем его милым братом».
– Если вы обладаете такими низкими понятиями, нашим предкам, норвежцам и датчанам, разумеется, не стоило большого труда побеждать вас! Любовь к старинным обычаям, горячая вера и почтение к благородным родам – самое лучшее оружие против врагов...
С этими словами сир де-Гравиль въехал во двор храма, где он был встречен каким-то священником, который повел его к отцу Гильому. Последний несколько минут с радостью и изумлением оглядывая прибывшего с головы до ног, а потом обнял его и от души расцеловал.
– Ах, дорогой брат, – воскликнул Гильом по-французски, – как я рад видеть тебя, ты и вообразить себе не можешь, как приятно видеть земляка в чужой стране, где нет даже хороших поваров!
– Так как ты упомянул о поварах, почтенный отец, – сказал де-Гравиль, расстегивая свой крепко стянутый кушак, – то имею честь заметить тебе, что я страшно проголодался, так как не ел ничего с самого утра.
– Ах, ах! – завопил Гильом жалобно. – Ты, видно, и понятия не имеешь, каким лишениям мы тут подвергаемся. В нашей кладовой почти нет ничего, кроме солонины да...
