Страница:
Пророчица положила руку на его плечо и взглянула ему в лицо.
– Ты прав, сын Свейна, – ответила она, – абсолютного молчания нет нигде, и для души нет никогда покоя... Так ты вернулся на родину, Хакон?
– Вернулся, но я и сам не знаю зачем... Я было еще веселым, беспечным ребенком, когда ты предсказала моему отцу, что я рожден на горе и что самый славный час мой будет и последним для меня часом в жизни... С тех пор моя веселость исчезла навсегда!
– Но ты тогда был еще таким крошечным; я удивляюсь, как ты мог обратить внимание на мои слова... Я и сейчас вижу тебя играющим на траве с соколом твоего отца в то время, когда он спрашивал меня о твоей судьбе.
– О, Хильда, да разве только что вспаханная земля не поглощает с жадностью брошенное в нее семя? Так же молодая душа не пропускает мимо ушей первых уроков ужаса... С тех пор ночь стала моей поверенной, а мысль о смерти – моей постоянной спутницей... Помнишь ли ты еще, как я накануне своего отъезда ушел вечером тайком из дома Гарольда и прибежал к тебе? Я сказал только, что моя любовь к Гарольду дает мне силу твердо перенести мысль, что все мои родные, кроме него, смотрят на меня как на сына убийцы и изгнанника... Я еще добавил тогда, что эта привязанность как будто имеет зловещий характер... Тут ты, пророчица, прижала меня к себе, поцеловала холодным поцелуем и здесь же, у этой могилы, утешила меня своим предсказанием... Ты пела перед огнем, на который брызгала водой, и из слов твоей песни я узнал, что мне суждено будет освободить Гарольда, гордость и надежду нашего семейства, из сетей врага и что с той минуты жизнь моя будет неразрывно связана с его жизнью... Это предсказание ободрило меня, и я спросил, буду ли я жить так долго, чтобы восстановить имя моего отца? Ты махнула своим волшебным посохом, высоко взвилось пламя, и ты ответила замогильным голосом: «Как только ты выйдешь из отрочества, жизнь твоя разгорится ярким пламенем и потом угаснет навсегда». Я узнал из этих слов, что проклятие будет вечно тяготеть надо мной... Я вернулся на родину с целью совершить славный подвиг и потом умереть, не успев насладиться приобретенной славой. Но я тем не менее, – продолжал с увлечением молодой человек, – утешаюсь уверенностью в том, что судьба Гарольда нераздельна с моей и что горный ручей и шумящий поток потекут вместе в вечность!
– Этого я не знаю, – произнесла Хильда побелевшими губами, – сколько я не вопрошала о судьбе Гарольда, конца его блестящего пути я еще не могла увидеть. По звездам я узнала, что его величие и слава будут затемняться могуществом какого-то сильного соперника, но Гарольд будет брать верх над врагом, пока с ним его гений-хранитель, принявший на себя образ чистой, непорочной Эдит... Ну а ты, Хакон...
Пророчица замолкла и опустила на лицо покрывало.
– Что же я? – спросил Хакон, походя к ней поближе.
– Прочь отсюда, сын Свейна! Ты попираешь могилу великого воина! – крикнула гневно Хильда и пошла быстро к дому.
Хакон следил за ней задумчиво. Он видел, как ей навстречу выскочили собаки и как она вошла вскоре в свой дом. Он спустился с холма и направился к своей лошади, пасшейся на лугу.
«И какого же ответа мог я ждать от пророчиц? – думал он про себя. – Любовь и честолюбие для меня только пустые звуки. Мне суждено любить в жизни только Гарольда, жить только для него. Между нами таинственная, неразрывная связь; весь вопрос только в том, куда выбросить нас житейская волна?»
– Иди своей дорогой, сойти с нее нельзя, ты, быть может, одумаешься, – ответила ему Хильда угрюмо.
– Видит Водан, – продолжал Гарольд, – что я обременил свою совесть грехом только во имя родины, а не для собственного спасения! Я буду считать себя справедливым, когда Англия не отвергнет моих услуг. Отрекаюсь от своего эгоизма, от своих честолюбивых стремлений... Трон уже не имеет для меня значения, я только для Эдит...
– Ты не имеешь права забывать свой долг и роль, к которой ты предназначен судьбою! – воскликнула Эдит, подходя к жениху. В глазах ее блеснули две крупные слезы.
– О, Хильда, – сказал он, – вот единственная пророчица, прозорливость которой я готов, признать! Пусть она будет моим оракулом; я буду ее слушаться.
На следующее утро Гарольд вернулся в сопровождении Хакона и множества слуг в столицу. Доехав до одного предместья, граф повернул налево, к дому одного из своих вассалов, бывшего сеорла. Оставив у него лошадей, он сел с Хаконом в лодку, которая перевезла их к старинному, укрепленному дворцу, служившему во время римского владычества главной защитой города. Это здание представляло смесь стилей: римского, саксонского и датского; оно было восстановлено Кнутом Великим, жившим в нем, и из верхнего его окна был выброшен в реку Эдрик Стреона, предок Годвина.
– Куда это мы едем? – спросил Хакон.
– К молодому Этелингу, законному наследнику саксонского престола, – ответил спокойно Гарольд. – Он живет в этом дворце.
– В Нормандии говорят, что этот мальчик слабоумен, дядя.
– Вздор! Да ты сейчас будешь сам в состоянии судить о нем.
После непродолжительной паузы Хакон заговорил опять:
– Мне кажется, что я угадал твои намерения, дядя; не поступаешь ли ты необдуманно?
– Я следую совету Эдит, – ответил Гарольд с волнением, – хотя я и могу потерять из-за этого надежду умолить святых отцов разрешить мне брак с моей возлюбленной.
– Так ты готов пожертвовать даже своей невестой во имя своей родины?
– Да, кажется, готов с тех пор, как согрешил, – произнес граф смиренно.
Лодка остановилась у берега, и дядя с племянником поспешили выйти из нее. Пройдя римскую арку, они очутились во дворе, загроможденном саксонскими постройками, уж пришедшими в ветхость, так как Эдуард не обращал на них внимания. Они поднялись по лестнице, приделанной снаружи, и вошли через низенькую, узкую дверь в коридор, где стояли двое телохранителей с датскими секирами и пятеро немецких слуг, привезенных покойным Этелингом из Австрии. Один из слуг ввел прибывших в неказистую приемную, в которой Гарольд, к величайшему своему удивлению, увидел Альреда и трех танов.
Альред со слабой улыбкой приблизился к Гарольду.
– Надеюсь, я не ошибаюсь, предполагая, что ты явился с тем же намерением, с каким прибыли сюда и мы с этими благородными танами, – произнес он.
– Какое же у вас намерение? – спросил Гарольд.
– Мы желаем убедиться, достоин ли молодой принц быть наследником Эдуарда Исповедника.
– Так ты угадал, я приехал с той же целью. Буду смотреть твоими глазами, слушать твоими ушами, судить твоим суждением, – сказал Гарольд во всеуслышание.
Таны, принадлежащие к партии, враждебной Годвину, обменялись беспокойными взглядами, увидев Гарольда, но теперь лица их заметно прояснились.
Граф представил им своего племянника, который своей серьезностью произвел на них весьма выгодное впечатление; один Альред вздыхал, заметив в его прекрасном лице сильное сходство со Свейном.
Завязался разговор о плохом здоровье короля, о совершившемся мятеже и о необходимости подыскать подходящего наследника, который был бы способен взяться за бразды правления твердой рукой. Гарольд ничем не высказал своих заветных надежд и держал себя так, будто он никогда и не помышлял о престоле.
Прошло уже немало времени, и благородные таны начали хмуриться: им не нравилось, что наследник заставляет их так долго ждать в приемной. Наконец появился слуга и на немецком языке, который хотя и понятен саксонцу, но звучит чрезвычайно странно в его ушах, пригласил следовать за ним.
Этелинг, мальчик лет четырнадцати, казавшийся еще моложе, находился в большой комнате, убранной во вкусе Кнута, и занимался набивкой птичьего чучела, которое должно было служить приманкой молодому соколу, сидевшему возле своего господина. Это занятие составляло такую существенную часть саксонского воспитания, что таны благосклонно улыбнулись. В другом конце комнаты сидел какой-то нормандский духовник за столом с книгами и рукописями. Это был наставник, избранный Эдуардом, чтобы учить его французскому языку. На полу валялось множество игрушек, которыми забавлялись братья и сестры Эдгара; маленькая принцесса Маргерита сидела поодаль за вышиванием.
Когда Альред почтительно хотел приблизиться к Этелингу, чтобы благословить его, мальчик воскликнул на каком-то непонятном языке – смеси немецкого с французским:
– Эй ты, не подходи близко! Ты ведь пугаешь моего сокола... Ну смотри, что ты делаешь: раздавил мои прекрасные игрушки, которые присланы мне нормандским герцогом через доброго тана Вильгельма... Да ты видно ослеп!
– Сын мой, – ответил ласково Альред. – Эти игрушки могут иметь цену только для детей, а королевские сыновья раньше других выходят из детства... Оставь свои игрушки и сокола и поздоровайся с этими благородными танами, если тебе не противно говорить с ними по-английски.
– Я не хочу говорить на языке черни! Не хочу говорить по-английски! Я даже знаю его настолько, чтобы выругать няню или сеорла. Король Эдуард велел мне учиться по-французски, и мой учитель Годфруа говорит, что герцог Вильгельм сделает меня рыцарем, как только я буду хорошо говорить на его языке... Сегодня я не желаю больше учиться.
Эдуард сердито отвернулся, в то время как таны обменялись негодующими оскорбленными взглядами. Гарольд сделал над собой усилие, чтобы произнести с веселой улыбкой:
– Эдгар Этелинг, ты уже не так молод, чтобы не понять обязанности великих мира сего – жить для других. Неужели ты не гордишься при мысли, что можешь посвятить всю свою жизнь нашей прекрасной стране, благородные представители которой пришли к тебе, и говорить на языке Альфреда Великого.
– Альфреда Великого?! – повторил мальчик, надувшись. – Как мне надоедают этим Альфредом Великим! Меня мучают им каждый день! Если я Этелинг, то люди должны жить для меня, а вовсе не я для них... И если вы еще будете бранить меня, то я убегу в Руан к герцогу Вильгельму, который, как говорит Годфруа, никогда не станет читать мне наставлений!
С этими словами принц швырнул свое чучело в угол и бросился вырывать игрушки из рук своих сестер.
Серьезная Маргерита встала, подошла к брату и сказала ему на чистом английском языке:
– Стыдись, Эдгар! Если ты не будешь вести себя лучше, то я назову тебя бастардом.
Когда это слово, обиднее которого нет в саксонском языке и которое считается даже сеорлами самым ужасным ругательством, слетело с уст Маргериты, таны поспешили подойти к мальчику, ожидая, что он выйдет из себя.
– Называй меня, дура, как хочешь, – ответил равнодушно Эдгар, – я не саксонец, чтобы обращать внимание на подобные выражения.
– Довольно! – воскликнул с озлоблением самый гордый из танов, закручивая усы. – Кто позволяет называть себя бастардом, не будет никогда саксонским королем!
– Да я вовсе и не желаю быть королем – будет это известно тебе, грубияну с отвратительными усами, я хочу быть рыцарем, хочу носить шпоры. Убирайся отсюда!
– Уходим, мой сын, – произнес печально Альред.
Старик медленными, нерешительными шагами направился к двери, на пороге он остановился и оглянулся: Эдгар делал ему отвратительные гримасы, а Годфруа ехидно улыбался. Альред покачал головой и вышел из комнаты, эрлы последовали за ним.
– Прекрасный вождь для бородатых воинов! – воскликнул один из танов. – Прелестный король для саксонцев – нечего сказать! Достойнейший Альред! Мы больше не желаем слышать об Этелинге!
– Да я и не буду больше говорить о нем, – проговорил Альред.
– Всему виной воспитание под руководством нормандцев и немцев, – сказал Гарольд. – Мальчик только избалован, и мы могли бы исправить его.
– Ну, еще не известно, удастся ли исправить его, – возразил Альред, – нам и некогда заниматься воспитанием кого бы то ни было, потому что престол останется скоро без короля!
– Но кто же может спасти Англию от когтей нормандского герцога, который уже давно поглядывает на нее оком кровожадного тигра? – спросил внезапно Хакон. – Кто же может это, если не Этелинг?
– Ах, да! Кто в силах сделать это? – повторил Альред со вздохом.
– Кто?! – воскликнули таны в один голос. – Да кто же, если не мудрейший, храбрейший, достойнейший из нас всех? Выступи вперед, Гарольд, мы признаем тебя за своего владыку!
Таны вышли из дворца, не дождавшись ответа изумленного графа.
ГЛАВА 3
 Вокруг Нортгемптона были расположены войска Моркара. Здесь собралось основное население Нортумбрии.
Вокруг Нортгемптона были расположены войска Моркара. Здесь собралось основное население Нортумбрии.
В лагере раздался вдруг крик: «К оружию!», который разбудил молодого графа Моркара. Он выскочил из своей палатки, чтобы узнать причину тревоги.
– Вы с ума сошли, – сказал он воинам, – если вы в этом направлении высматриваете неприятеля: ведь вы смотрите в сторону Мерсии, а оттуда может явить только мой брат Эдвин с подкреплением для нас.
Слова Моркара были переданы всем ратникам, которые, услышав радостную весть громко выражали свой восторг.
Когда исчезло пыльное облако, окутывавшее приближающихся, можно было заметить, как от отряда отделились два всадника и галопом поскакали вперед. За ними погнались еще двое: один со знаменем Мерсии, другой – с северо-валлийским. Голова одного из всадников была непокрыта, и нортумбрийцы при первом же взгляде узнали в нем Эдвина Ласкового, брата Моркара. Тот побежал ему навстречу, и братья обнялись под радостные восклицания обеих армий.
– Представляю тебе, дорогой Моркар, нашего брата Карадока, сына Гриффита Отважного, – сказал Эдвин, указывая на своего спутника.
Моркар протянул Карадоку руку и поцеловал его в лоб. Карадок был еще очень молод, но уже успел отличиться опустошением саксонских границ. Кроме того, он предал огню даже одно из укреплений Гарольда.
В это время с другой стороны надвигалось другое войско; лучи солнца преломлялись о блестящие его щиты так, что глазам было больно смотреть на них... Воины с напряженным вниманием смотрели на приближающееся огненное море, пока не разглядели двух знамен, которые, где бы они не показывались, предвещали победу; одно из них принадлежало королю Эдуарду, а другое – Гарольду. Тогда вожди бунтовщиков удалились на высоты и начали совещаться. Молодые графы должны были соглашаться с мнениями выбравших их старых вождей, которые решили послать к Гарольду людей для переговоров с предложением мира.
– Граф, – сказал Бьёрн Старый, глава восстания, – человек справедливый, который скорее пожертвовал бы своей собственной жизнью, чем кровью англичан: он будет по отношению к нам справедливым.
– Неужели ты думаешь, что он пойдет против брата?! – воскликнул Эдвин.
– Ну да, и против брата, как только мы объясним ему суть дела, – ответил Бьёрн невозмутимо.
Товарищи подтвердили его слова наклоном головы. Глаза Карадока метали искры, но он молчал, играя золотым обручем.
Дружины прошли почти мимо лагеря, и смелые лазутчики сообщили Моркару, что они видели Гарольда без кольчуги в первом ряду войска. Это сочли хорошим предзнаменованием, и двадцать из благороднейших танов Нортумбрии отправились для переговоров к неприятелю.
Рядом с Гарольдом гарцевал на статном коне Тости. Он по дороге присоединился к брату с пятью или шестью десятками вооруженных сеорлей, больше он не мог отыскать для своего подкрепления. Казалось, будто братья не ладили друг с другом: лицо Гарольда пылало и голос его звучал, резко и строго, когда он произнес:
– Брани меня, как хочешь, Тости, но не могу же я, подобно хищному зверю, напасть на своих земляков, не переговорив с ними предварительно, по мудрому обычаю наших предков.
– Черт возьми! – воскликнул Тости. – Да, ведь это просто срам и позор! С какою же целью двинулся ты против них со всей армией? Я думал, что ты хочешь проучить их.
– Нет. Я задался единственной целью, Тости, – свершить правосудие.
Тости не успел ответить, потому что к ним приближались нортумбрийские послы под предводительством старейшего из танов.
– Клянусь мечом, к нам подходят изменники – Бьёрн и Глонейон! – воскликнул Тости. – Ты, конечно, не выслушаешь их? А если сделаешь это, то я удалюсь... Подобным наглецам я отвечаю только ударом секиры.
– Тости, ведь это самые знаменитые таны графства! Будь же благоразумен: вели отпереть городские ворота, я намерен выслушать послов в городе.
– Берегись же, если ты решишь дело не в пользу брата! – прошипел Тости и поскакал в город к воротам Нортгемптона.
В воротах Гарольд соскочил с коня, стал под знаменем короля и собрал вокруг себя знатнейших из вождей. Нортумбрийцы почтительно подошли к нему.
Первым заговорил Бьёрн. Хотя Гарольд заранее был уверен, что Тости подал повод к восстанию, но рассказ Бьёрна превзошел все его ожидания: Тости не только взимал противозаконную дань, но и совершал возмутительные убийства. Так, он пригласил к себе в гости некоторых высокородных танов, которые противились его требованиям, и велел своим слугам умертвить их. Злодейства была настолько страшны, что кровь буквально стыла в жилах Гарольда, когда ему передали их перечень.
– Можешь ли ты теперь осудить нас за то, что мера нашего терпения переполнилась? – спросил Бьёрн, окончив свою речь. – Сначала возмутилось только двести человек, но потом к нам присоединился весь народ; даже в других графствах нашлись сочувствующие нам; друзья стекаются к нам отовсюду. Прими к сведению, что тебе придется вступить в бой с половиной Англии.
– Но вы, таны, – начал Гарольд, – выступили уже не против вашего графа, Тости, а угрожаете королю и закону. Несите ваши жалобы государю в Витан; предоставьте ему рассудить вас с графом и будьте уверены, что виновного накажут, правого же оправдают.
– Так как ты, благородный граф, вернулся снова к нам, то мы готовы предстать перед королем и Витаном, – ответил Старый Бьёрн выразительно, – пока же тебя не было, мы могли надеяться только на свое оружие.
– Я благодарен вам за ваше доверие ко мне, но вы слишком несправедливо относитесь к королю и к Витану, если сомневаетесь в их беспристрастности. Вы думали, что достаточно доказали вину Тости, если прибегли к оружию, но этого мало. Я верю, что Тости преступил границы своей власти и нарушил ваши права, но вы не должны забывать, что едва ли вам удастся найти другого вождя, который обладал бы таким бесстрашным сердцем и такой твердой рукой, как Тости, и был бы так способен защитить вас от страшных набегов викингов. Он сын датчанки – помните это и простите его как одноплеменника. Если вы опять примете его в качестве вашего графа, то я, Гарольд, обещаю от его имени, что он больше никогда не будет выступать против вас и ваших законов.
– Лучше и не говори об этом! – воскликнули все таны. – Мы люди свободные и не хотим иметь гордых, своевольных вождей, наша свобода для нас дороже жизни!
Гарольд заметил по лицам своих танов, что они одобряют эти слова и что ему, как он ни любим и ни уважаем, трудно было бы принудить их поднять оружие на своих земляков, которых они полностью считали правыми. Но сдаться на доводы Бьёрна и прекратить сразу дело, он тоже не мог, так как от Тости можно было ожидать самого худшего, если бы Гарольд восстановил его против себя; поэтому он пригласил вождей придти к нему через несколько дней, а в это время обдумать их требования, чтобы их можно было представить королю.
Невозможно описать, в какую ярость пришел Тости, когда Гарольд повторил ему все возведенные на него обвинения и предложил оправдаться. Строптивый граф считал нужным оправдываться не словами, а исключительно оружием, придерживаясь убеждения, что сильный не бывает виноват.
Гарольд, не желая быть единственным судьей брата, уговорил его передать свое дело на обсуждение танов, стоявших под знаменем короля.
Тости явился на это собрание разряженным, как женщина: в красном плаще, вышитым золотом. Внешний вид имел такое громадное значение в то время, что судьи при виде прекрасного, статного обвиняемого готовы были забыть половину его возмутительных поступков. Но как только Тости заговорил, то он мгновенно восстановил всех против себя своей грубостью. И чем больше он говорил, тем делался нахальнее, и таны, выведенные из терпения, даже не пожелали дослушать до конца.
– Довольно! – воскликнул Вебба. – Из твоей речи стало очевидным, что ни королю, ни Витану нельзя вернуть тебе прежнюю власть... Замолчи ради Бодана! Не рассказывай больше о своих злодеяниях! Они так отвратительны, что мы сами прогнали бы тебя, если бы нортумбрийцы не догадались сделать это раньше!
– Возьмите свое золото, свои корабли и ступай во Фландрию к графу Болдуину, – сказал Таральд, могущественный датчанин из Линкольншира, – здесь даже имя Гарольда не будет в состоянии спасти тебя от изгнания.
Тости окинул взглядом блестящее собрание, но прочел на всех лицах одно негодование.
– Это все твои холопы, Гарольд! – процедил он сквозь зубы и, круто повернувшись, вышел гордо из залы.
Вечером того же дня он поскакал к Эдуарду, чтобы просить его защиты. На следующее утро Гарольд снова принял нортумбрийских вождей, которые согласились ждать решения короля и Витана; до тех пор оба войска должны были оставаться под оружием. Король же, склоняемый Альредом, прибыл в Оксфорд, куда к нему немедленно отправился Гарольд.
ГЛАВА 4
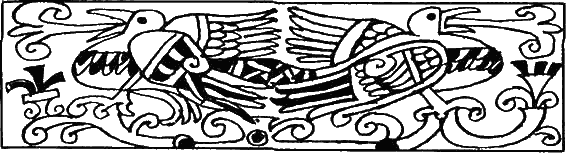 Витан был наскоро созван и пред ним явились среди других Моркар и Эдвин; Карадок, предвидя, что дело не дойдет до войны, с досадой отправился обратно в Виллис.
Витан был наскоро созван и пред ним явились среди других Моркар и Эдвин; Карадок, предвидя, что дело не дойдет до войны, с досадой отправился обратно в Виллис.
На этот раз собрание было гораздо многолюднее, чем во время суда над обвиненным Свейном, потому что границы гласности были расширены из-за важности обсуждаемого предмета: дело шло не только о Тости и возмутившихся против него подданных, но и о престолонаследии.
Понятно, что мысли всех были нацелены на Гарольда. Король, очевидно, был близок к могиле, а с ним прекращался род Сердика, так как об Эдгаре Этелинге не могло быть и речи из-за его неспособности занять английский трон. Не будь этого, его, быть может, и выбрали бы, несмотря на его малолетство и на то, что по закону запрещалось избрание на царствование сына некоронованного отца. Беспорядки, происходившие в государстве, старые, почти забытые предсказания, теперь снова восставшие из мрака, предчувствия Эдуарда, что Англии грозит великая опасность, слухи о происках Вильгельма Нормандского, подтвержденные Хаконом, все указывали на необходимость выбрать самого опытного воина и правителя, а им был только один Гарольд.
Больше всех других стояли за Гарольда жители Эссекса и Кента, которые были ядром всего английского народа и имели влияние, одинаковое с англодатчанами; кроме того, желали его избрания таны Ост-Англии, Кембриджа, Гунтингдона, Норфолька, часть Лондона, торговцы и главное – войско.
Даже многие таны забыли свою ненависть к роду Годвина, потому что Гарольд во время своих многочисленных походов ни разу ничего не украл из принадлежавшего им земельного имущества, как делал даже Леофрик. Против Гарольда были только приверженцы Моркара и Эдвина; эта партия была велика: к ней принадлежали все чтившие память Леофрика и Сиварда, таны Нортумбрии, Мерсии, Валлиса, часть населения Восточной Англии, но в конце концов оказалось, что и они готовы присоединится к друзьям Гарольда и ждут поощрения с его стороны.
Гарольд решился не подавать голоса в деле Тости; это значило бы поощрять насилие и своеволие, но и против Тости он тоже не хотел высказываться, тем более что ему было неприятно видеть, как Нортумбрия переходит в руки его соперников.
Тости, поселившись отдельно от Гарольда, в крепости близ оксфордских ворот, заботился очень мало о примирении с врагами или о приобретении новых друзей; он очень надеялся на заступничество Эдуарда, который не был расположен к семейству Альгара.
До открытия Витана оставалось всего три дня. Гарольд сидел у окна дома, в котором жил, и смотрел на улицу, когда вошел Хакон, сказав, что Гарольда желают видеть несколько танов и достойный Альред.
– Знаешь ты, что привело их ко мне? – спросил Гарольд.
Юноша побледнел больше обыкновенного и сказал почти шепотом:
– Исполняются предсказания Хильды.
Граф вздрогнул, и глаза его вспыхнули огнем радости под влиянием вновь проснувшегося честолюбия, но он овладел собой и попросил Хакона ввести к нему гостей.
Они вошли попарно; их было так много, что обширная приемная едва могла вместить всех. Гарольд узнал в них важнейших танов и удивился, заметив, что рядом с преданнейшими его друзьями шли люди, которые прежде были расположены к нему враждебно. Все остановились перед возвышением, на котором стоял Гарольд, и Альред отклонил его предложение взойти на помост.
Достойный старец произнес глубоко прочувствованную речь, в которой описал бедственное положение страны, коснулся близкой кончины Эдуарда, после которого прекращалась линия Сердика; признался откровенно, что имел намерение повлиять на Витан в пользу Эдгара Этелинга, несмотря на его несовершеннолетие, но теперь это намерение отклонено им с одобрения всех.
– Ты прав, сын Свейна, – ответила она, – абсолютного молчания нет нигде, и для души нет никогда покоя... Так ты вернулся на родину, Хакон?
– Вернулся, но я и сам не знаю зачем... Я было еще веселым, беспечным ребенком, когда ты предсказала моему отцу, что я рожден на горе и что самый славный час мой будет и последним для меня часом в жизни... С тех пор моя веселость исчезла навсегда!
– Но ты тогда был еще таким крошечным; я удивляюсь, как ты мог обратить внимание на мои слова... Я и сейчас вижу тебя играющим на траве с соколом твоего отца в то время, когда он спрашивал меня о твоей судьбе.
– О, Хильда, да разве только что вспаханная земля не поглощает с жадностью брошенное в нее семя? Так же молодая душа не пропускает мимо ушей первых уроков ужаса... С тех пор ночь стала моей поверенной, а мысль о смерти – моей постоянной спутницей... Помнишь ли ты еще, как я накануне своего отъезда ушел вечером тайком из дома Гарольда и прибежал к тебе? Я сказал только, что моя любовь к Гарольду дает мне силу твердо перенести мысль, что все мои родные, кроме него, смотрят на меня как на сына убийцы и изгнанника... Я еще добавил тогда, что эта привязанность как будто имеет зловещий характер... Тут ты, пророчица, прижала меня к себе, поцеловала холодным поцелуем и здесь же, у этой могилы, утешила меня своим предсказанием... Ты пела перед огнем, на который брызгала водой, и из слов твоей песни я узнал, что мне суждено будет освободить Гарольда, гордость и надежду нашего семейства, из сетей врага и что с той минуты жизнь моя будет неразрывно связана с его жизнью... Это предсказание ободрило меня, и я спросил, буду ли я жить так долго, чтобы восстановить имя моего отца? Ты махнула своим волшебным посохом, высоко взвилось пламя, и ты ответила замогильным голосом: «Как только ты выйдешь из отрочества, жизнь твоя разгорится ярким пламенем и потом угаснет навсегда». Я узнал из этих слов, что проклятие будет вечно тяготеть надо мной... Я вернулся на родину с целью совершить славный подвиг и потом умереть, не успев насладиться приобретенной славой. Но я тем не менее, – продолжал с увлечением молодой человек, – утешаюсь уверенностью в том, что судьба Гарольда нераздельна с моей и что горный ручей и шумящий поток потекут вместе в вечность!
– Этого я не знаю, – произнесла Хильда побелевшими губами, – сколько я не вопрошала о судьбе Гарольда, конца его блестящего пути я еще не могла увидеть. По звездам я узнала, что его величие и слава будут затемняться могуществом какого-то сильного соперника, но Гарольд будет брать верх над врагом, пока с ним его гений-хранитель, принявший на себя образ чистой, непорочной Эдит... Ну а ты, Хакон...
Пророчица замолкла и опустила на лицо покрывало.
– Что же я? – спросил Хакон, походя к ней поближе.
– Прочь отсюда, сын Свейна! Ты попираешь могилу великого воина! – крикнула гневно Хильда и пошла быстро к дому.
Хакон следил за ней задумчиво. Он видел, как ей навстречу выскочили собаки и как она вошла вскоре в свой дом. Он спустился с холма и направился к своей лошади, пасшейся на лугу.
«И какого же ответа мог я ждать от пророчиц? – думал он про себя. – Любовь и честолюбие для меня только пустые звуки. Мне суждено любить в жизни только Гарольда, жить только для него. Между нами таинственная, неразрывная связь; весь вопрос только в том, куда выбросить нас житейская волна?»
* * *
– Повторяю тебе, Хильда, – говорил граф нетерпеливо, – что я верую теперь только в Бога... Твоя наука не предохранила меня от опасности, не возмутила против греха... Может быть... Нет, я не хочу больше испытывать твое искусство, не хочу ломать голову над разными загадками. Я не буду вперед полагаться ни на одно предсказание, ни на твое предостережение, пусть душа моя уповает единственно на Бога.– Иди своей дорогой, сойти с нее нельзя, ты, быть может, одумаешься, – ответила ему Хильда угрюмо.
– Видит Водан, – продолжал Гарольд, – что я обременил свою совесть грехом только во имя родины, а не для собственного спасения! Я буду считать себя справедливым, когда Англия не отвергнет моих услуг. Отрекаюсь от своего эгоизма, от своих честолюбивых стремлений... Трон уже не имеет для меня значения, я только для Эдит...
– Ты не имеешь права забывать свой долг и роль, к которой ты предназначен судьбою! – воскликнула Эдит, подходя к жениху. В глазах ее блеснули две крупные слезы.
– О, Хильда, – сказал он, – вот единственная пророчица, прозорливость которой я готов, признать! Пусть она будет моим оракулом; я буду ее слушаться.
На следующее утро Гарольд вернулся в сопровождении Хакона и множества слуг в столицу. Доехав до одного предместья, граф повернул налево, к дому одного из своих вассалов, бывшего сеорла. Оставив у него лошадей, он сел с Хаконом в лодку, которая перевезла их к старинному, укрепленному дворцу, служившему во время римского владычества главной защитой города. Это здание представляло смесь стилей: римского, саксонского и датского; оно было восстановлено Кнутом Великим, жившим в нем, и из верхнего его окна был выброшен в реку Эдрик Стреона, предок Годвина.
– Куда это мы едем? – спросил Хакон.
– К молодому Этелингу, законному наследнику саксонского престола, – ответил спокойно Гарольд. – Он живет в этом дворце.
– В Нормандии говорят, что этот мальчик слабоумен, дядя.
– Вздор! Да ты сейчас будешь сам в состоянии судить о нем.
После непродолжительной паузы Хакон заговорил опять:
– Мне кажется, что я угадал твои намерения, дядя; не поступаешь ли ты необдуманно?
– Я следую совету Эдит, – ответил Гарольд с волнением, – хотя я и могу потерять из-за этого надежду умолить святых отцов разрешить мне брак с моей возлюбленной.
– Так ты готов пожертвовать даже своей невестой во имя своей родины?
– Да, кажется, готов с тех пор, как согрешил, – произнес граф смиренно.
Лодка остановилась у берега, и дядя с племянником поспешили выйти из нее. Пройдя римскую арку, они очутились во дворе, загроможденном саксонскими постройками, уж пришедшими в ветхость, так как Эдуард не обращал на них внимания. Они поднялись по лестнице, приделанной снаружи, и вошли через низенькую, узкую дверь в коридор, где стояли двое телохранителей с датскими секирами и пятеро немецких слуг, привезенных покойным Этелингом из Австрии. Один из слуг ввел прибывших в неказистую приемную, в которой Гарольд, к величайшему своему удивлению, увидел Альреда и трех танов.
Альред со слабой улыбкой приблизился к Гарольду.
– Надеюсь, я не ошибаюсь, предполагая, что ты явился с тем же намерением, с каким прибыли сюда и мы с этими благородными танами, – произнес он.
– Какое же у вас намерение? – спросил Гарольд.
– Мы желаем убедиться, достоин ли молодой принц быть наследником Эдуарда Исповедника.
– Так ты угадал, я приехал с той же целью. Буду смотреть твоими глазами, слушать твоими ушами, судить твоим суждением, – сказал Гарольд во всеуслышание.
Таны, принадлежащие к партии, враждебной Годвину, обменялись беспокойными взглядами, увидев Гарольда, но теперь лица их заметно прояснились.
Граф представил им своего племянника, который своей серьезностью произвел на них весьма выгодное впечатление; один Альред вздыхал, заметив в его прекрасном лице сильное сходство со Свейном.
Завязался разговор о плохом здоровье короля, о совершившемся мятеже и о необходимости подыскать подходящего наследника, который был бы способен взяться за бразды правления твердой рукой. Гарольд ничем не высказал своих заветных надежд и держал себя так, будто он никогда и не помышлял о престоле.
Прошло уже немало времени, и благородные таны начали хмуриться: им не нравилось, что наследник заставляет их так долго ждать в приемной. Наконец появился слуга и на немецком языке, который хотя и понятен саксонцу, но звучит чрезвычайно странно в его ушах, пригласил следовать за ним.
Этелинг, мальчик лет четырнадцати, казавшийся еще моложе, находился в большой комнате, убранной во вкусе Кнута, и занимался набивкой птичьего чучела, которое должно было служить приманкой молодому соколу, сидевшему возле своего господина. Это занятие составляло такую существенную часть саксонского воспитания, что таны благосклонно улыбнулись. В другом конце комнаты сидел какой-то нормандский духовник за столом с книгами и рукописями. Это был наставник, избранный Эдуардом, чтобы учить его французскому языку. На полу валялось множество игрушек, которыми забавлялись братья и сестры Эдгара; маленькая принцесса Маргерита сидела поодаль за вышиванием.
Когда Альред почтительно хотел приблизиться к Этелингу, чтобы благословить его, мальчик воскликнул на каком-то непонятном языке – смеси немецкого с французским:
– Эй ты, не подходи близко! Ты ведь пугаешь моего сокола... Ну смотри, что ты делаешь: раздавил мои прекрасные игрушки, которые присланы мне нормандским герцогом через доброго тана Вильгельма... Да ты видно ослеп!
– Сын мой, – ответил ласково Альред. – Эти игрушки могут иметь цену только для детей, а королевские сыновья раньше других выходят из детства... Оставь свои игрушки и сокола и поздоровайся с этими благородными танами, если тебе не противно говорить с ними по-английски.
– Я не хочу говорить на языке черни! Не хочу говорить по-английски! Я даже знаю его настолько, чтобы выругать няню или сеорла. Король Эдуард велел мне учиться по-французски, и мой учитель Годфруа говорит, что герцог Вильгельм сделает меня рыцарем, как только я буду хорошо говорить на его языке... Сегодня я не желаю больше учиться.
Эдуард сердито отвернулся, в то время как таны обменялись негодующими оскорбленными взглядами. Гарольд сделал над собой усилие, чтобы произнести с веселой улыбкой:
– Эдгар Этелинг, ты уже не так молод, чтобы не понять обязанности великих мира сего – жить для других. Неужели ты не гордишься при мысли, что можешь посвятить всю свою жизнь нашей прекрасной стране, благородные представители которой пришли к тебе, и говорить на языке Альфреда Великого.
– Альфреда Великого?! – повторил мальчик, надувшись. – Как мне надоедают этим Альфредом Великим! Меня мучают им каждый день! Если я Этелинг, то люди должны жить для меня, а вовсе не я для них... И если вы еще будете бранить меня, то я убегу в Руан к герцогу Вильгельму, который, как говорит Годфруа, никогда не станет читать мне наставлений!
С этими словами принц швырнул свое чучело в угол и бросился вырывать игрушки из рук своих сестер.
Серьезная Маргерита встала, подошла к брату и сказала ему на чистом английском языке:
– Стыдись, Эдгар! Если ты не будешь вести себя лучше, то я назову тебя бастардом.
Когда это слово, обиднее которого нет в саксонском языке и которое считается даже сеорлами самым ужасным ругательством, слетело с уст Маргериты, таны поспешили подойти к мальчику, ожидая, что он выйдет из себя.
– Называй меня, дура, как хочешь, – ответил равнодушно Эдгар, – я не саксонец, чтобы обращать внимание на подобные выражения.
– Довольно! – воскликнул с озлоблением самый гордый из танов, закручивая усы. – Кто позволяет называть себя бастардом, не будет никогда саксонским королем!
– Да я вовсе и не желаю быть королем – будет это известно тебе, грубияну с отвратительными усами, я хочу быть рыцарем, хочу носить шпоры. Убирайся отсюда!
– Уходим, мой сын, – произнес печально Альред.
Старик медленными, нерешительными шагами направился к двери, на пороге он остановился и оглянулся: Эдгар делал ему отвратительные гримасы, а Годфруа ехидно улыбался. Альред покачал головой и вышел из комнаты, эрлы последовали за ним.
– Прекрасный вождь для бородатых воинов! – воскликнул один из танов. – Прелестный король для саксонцев – нечего сказать! Достойнейший Альред! Мы больше не желаем слышать об Этелинге!
– Да я и не буду больше говорить о нем, – проговорил Альред.
– Всему виной воспитание под руководством нормандцев и немцев, – сказал Гарольд. – Мальчик только избалован, и мы могли бы исправить его.
– Ну, еще не известно, удастся ли исправить его, – возразил Альред, – нам и некогда заниматься воспитанием кого бы то ни было, потому что престол останется скоро без короля!
– Но кто же может спасти Англию от когтей нормандского герцога, который уже давно поглядывает на нее оком кровожадного тигра? – спросил внезапно Хакон. – Кто же может это, если не Этелинг?
– Ах, да! Кто в силах сделать это? – повторил Альред со вздохом.
– Кто?! – воскликнули таны в один голос. – Да кто же, если не мудрейший, храбрейший, достойнейший из нас всех? Выступи вперед, Гарольд, мы признаем тебя за своего владыку!
Таны вышли из дворца, не дождавшись ответа изумленного графа.
ГЛАВА 3

В лагере раздался вдруг крик: «К оружию!», который разбудил молодого графа Моркара. Он выскочил из своей палатки, чтобы узнать причину тревоги.
– Вы с ума сошли, – сказал он воинам, – если вы в этом направлении высматриваете неприятеля: ведь вы смотрите в сторону Мерсии, а оттуда может явить только мой брат Эдвин с подкреплением для нас.
Слова Моркара были переданы всем ратникам, которые, услышав радостную весть громко выражали свой восторг.
Когда исчезло пыльное облако, окутывавшее приближающихся, можно было заметить, как от отряда отделились два всадника и галопом поскакали вперед. За ними погнались еще двое: один со знаменем Мерсии, другой – с северо-валлийским. Голова одного из всадников была непокрыта, и нортумбрийцы при первом же взгляде узнали в нем Эдвина Ласкового, брата Моркара. Тот побежал ему навстречу, и братья обнялись под радостные восклицания обеих армий.
– Представляю тебе, дорогой Моркар, нашего брата Карадока, сына Гриффита Отважного, – сказал Эдвин, указывая на своего спутника.
Моркар протянул Карадоку руку и поцеловал его в лоб. Карадок был еще очень молод, но уже успел отличиться опустошением саксонских границ. Кроме того, он предал огню даже одно из укреплений Гарольда.
В это время с другой стороны надвигалось другое войско; лучи солнца преломлялись о блестящие его щиты так, что глазам было больно смотреть на них... Воины с напряженным вниманием смотрели на приближающееся огненное море, пока не разглядели двух знамен, которые, где бы они не показывались, предвещали победу; одно из них принадлежало королю Эдуарду, а другое – Гарольду. Тогда вожди бунтовщиков удалились на высоты и начали совещаться. Молодые графы должны были соглашаться с мнениями выбравших их старых вождей, которые решили послать к Гарольду людей для переговоров с предложением мира.
– Граф, – сказал Бьёрн Старый, глава восстания, – человек справедливый, который скорее пожертвовал бы своей собственной жизнью, чем кровью англичан: он будет по отношению к нам справедливым.
– Неужели ты думаешь, что он пойдет против брата?! – воскликнул Эдвин.
– Ну да, и против брата, как только мы объясним ему суть дела, – ответил Бьёрн невозмутимо.
Товарищи подтвердили его слова наклоном головы. Глаза Карадока метали искры, но он молчал, играя золотым обручем.
Дружины прошли почти мимо лагеря, и смелые лазутчики сообщили Моркару, что они видели Гарольда без кольчуги в первом ряду войска. Это сочли хорошим предзнаменованием, и двадцать из благороднейших танов Нортумбрии отправились для переговоров к неприятелю.
Рядом с Гарольдом гарцевал на статном коне Тости. Он по дороге присоединился к брату с пятью или шестью десятками вооруженных сеорлей, больше он не мог отыскать для своего подкрепления. Казалось, будто братья не ладили друг с другом: лицо Гарольда пылало и голос его звучал, резко и строго, когда он произнес:
– Брани меня, как хочешь, Тости, но не могу же я, подобно хищному зверю, напасть на своих земляков, не переговорив с ними предварительно, по мудрому обычаю наших предков.
– Черт возьми! – воскликнул Тости. – Да, ведь это просто срам и позор! С какою же целью двинулся ты против них со всей армией? Я думал, что ты хочешь проучить их.
– Нет. Я задался единственной целью, Тости, – свершить правосудие.
Тости не успел ответить, потому что к ним приближались нортумбрийские послы под предводительством старейшего из танов.
– Клянусь мечом, к нам подходят изменники – Бьёрн и Глонейон! – воскликнул Тости. – Ты, конечно, не выслушаешь их? А если сделаешь это, то я удалюсь... Подобным наглецам я отвечаю только ударом секиры.
– Тости, ведь это самые знаменитые таны графства! Будь же благоразумен: вели отпереть городские ворота, я намерен выслушать послов в городе.
– Берегись же, если ты решишь дело не в пользу брата! – прошипел Тости и поскакал в город к воротам Нортгемптона.
В воротах Гарольд соскочил с коня, стал под знаменем короля и собрал вокруг себя знатнейших из вождей. Нортумбрийцы почтительно подошли к нему.
Первым заговорил Бьёрн. Хотя Гарольд заранее был уверен, что Тости подал повод к восстанию, но рассказ Бьёрна превзошел все его ожидания: Тости не только взимал противозаконную дань, но и совершал возмутительные убийства. Так, он пригласил к себе в гости некоторых высокородных танов, которые противились его требованиям, и велел своим слугам умертвить их. Злодейства была настолько страшны, что кровь буквально стыла в жилах Гарольда, когда ему передали их перечень.
– Можешь ли ты теперь осудить нас за то, что мера нашего терпения переполнилась? – спросил Бьёрн, окончив свою речь. – Сначала возмутилось только двести человек, но потом к нам присоединился весь народ; даже в других графствах нашлись сочувствующие нам; друзья стекаются к нам отовсюду. Прими к сведению, что тебе придется вступить в бой с половиной Англии.
– Но вы, таны, – начал Гарольд, – выступили уже не против вашего графа, Тости, а угрожаете королю и закону. Несите ваши жалобы государю в Витан; предоставьте ему рассудить вас с графом и будьте уверены, что виновного накажут, правого же оправдают.
– Так как ты, благородный граф, вернулся снова к нам, то мы готовы предстать перед королем и Витаном, – ответил Старый Бьёрн выразительно, – пока же тебя не было, мы могли надеяться только на свое оружие.
– Я благодарен вам за ваше доверие ко мне, но вы слишком несправедливо относитесь к королю и к Витану, если сомневаетесь в их беспристрастности. Вы думали, что достаточно доказали вину Тости, если прибегли к оружию, но этого мало. Я верю, что Тости преступил границы своей власти и нарушил ваши права, но вы не должны забывать, что едва ли вам удастся найти другого вождя, который обладал бы таким бесстрашным сердцем и такой твердой рукой, как Тости, и был бы так способен защитить вас от страшных набегов викингов. Он сын датчанки – помните это и простите его как одноплеменника. Если вы опять примете его в качестве вашего графа, то я, Гарольд, обещаю от его имени, что он больше никогда не будет выступать против вас и ваших законов.
– Лучше и не говори об этом! – воскликнули все таны. – Мы люди свободные и не хотим иметь гордых, своевольных вождей, наша свобода для нас дороже жизни!
Гарольд заметил по лицам своих танов, что они одобряют эти слова и что ему, как он ни любим и ни уважаем, трудно было бы принудить их поднять оружие на своих земляков, которых они полностью считали правыми. Но сдаться на доводы Бьёрна и прекратить сразу дело, он тоже не мог, так как от Тости можно было ожидать самого худшего, если бы Гарольд восстановил его против себя; поэтому он пригласил вождей придти к нему через несколько дней, а в это время обдумать их требования, чтобы их можно было представить королю.
Невозможно описать, в какую ярость пришел Тости, когда Гарольд повторил ему все возведенные на него обвинения и предложил оправдаться. Строптивый граф считал нужным оправдываться не словами, а исключительно оружием, придерживаясь убеждения, что сильный не бывает виноват.
Гарольд, не желая быть единственным судьей брата, уговорил его передать свое дело на обсуждение танов, стоявших под знаменем короля.
Тости явился на это собрание разряженным, как женщина: в красном плаще, вышитым золотом. Внешний вид имел такое громадное значение в то время, что судьи при виде прекрасного, статного обвиняемого готовы были забыть половину его возмутительных поступков. Но как только Тости заговорил, то он мгновенно восстановил всех против себя своей грубостью. И чем больше он говорил, тем делался нахальнее, и таны, выведенные из терпения, даже не пожелали дослушать до конца.
– Довольно! – воскликнул Вебба. – Из твоей речи стало очевидным, что ни королю, ни Витану нельзя вернуть тебе прежнюю власть... Замолчи ради Бодана! Не рассказывай больше о своих злодеяниях! Они так отвратительны, что мы сами прогнали бы тебя, если бы нортумбрийцы не догадались сделать это раньше!
– Возьмите свое золото, свои корабли и ступай во Фландрию к графу Болдуину, – сказал Таральд, могущественный датчанин из Линкольншира, – здесь даже имя Гарольда не будет в состоянии спасти тебя от изгнания.
Тости окинул взглядом блестящее собрание, но прочел на всех лицах одно негодование.
– Это все твои холопы, Гарольд! – процедил он сквозь зубы и, круто повернувшись, вышел гордо из залы.
Вечером того же дня он поскакал к Эдуарду, чтобы просить его защиты. На следующее утро Гарольд снова принял нортумбрийских вождей, которые согласились ждать решения короля и Витана; до тех пор оба войска должны были оставаться под оружием. Король же, склоняемый Альредом, прибыл в Оксфорд, куда к нему немедленно отправился Гарольд.
ГЛАВА 4
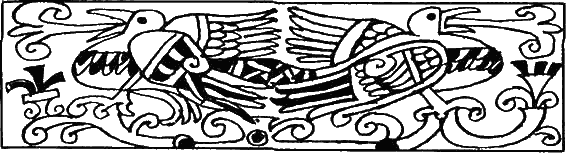
На этот раз собрание было гораздо многолюднее, чем во время суда над обвиненным Свейном, потому что границы гласности были расширены из-за важности обсуждаемого предмета: дело шло не только о Тости и возмутившихся против него подданных, но и о престолонаследии.
Понятно, что мысли всех были нацелены на Гарольда. Король, очевидно, был близок к могиле, а с ним прекращался род Сердика, так как об Эдгаре Этелинге не могло быть и речи из-за его неспособности занять английский трон. Не будь этого, его, быть может, и выбрали бы, несмотря на его малолетство и на то, что по закону запрещалось избрание на царствование сына некоронованного отца. Беспорядки, происходившие в государстве, старые, почти забытые предсказания, теперь снова восставшие из мрака, предчувствия Эдуарда, что Англии грозит великая опасность, слухи о происках Вильгельма Нормандского, подтвержденные Хаконом, все указывали на необходимость выбрать самого опытного воина и правителя, а им был только один Гарольд.
Больше всех других стояли за Гарольда жители Эссекса и Кента, которые были ядром всего английского народа и имели влияние, одинаковое с англодатчанами; кроме того, желали его избрания таны Ост-Англии, Кембриджа, Гунтингдона, Норфолька, часть Лондона, торговцы и главное – войско.
Даже многие таны забыли свою ненависть к роду Годвина, потому что Гарольд во время своих многочисленных походов ни разу ничего не украл из принадлежавшего им земельного имущества, как делал даже Леофрик. Против Гарольда были только приверженцы Моркара и Эдвина; эта партия была велика: к ней принадлежали все чтившие память Леофрика и Сиварда, таны Нортумбрии, Мерсии, Валлиса, часть населения Восточной Англии, но в конце концов оказалось, что и они готовы присоединится к друзьям Гарольда и ждут поощрения с его стороны.
Гарольд решился не подавать голоса в деле Тости; это значило бы поощрять насилие и своеволие, но и против Тости он тоже не хотел высказываться, тем более что ему было неприятно видеть, как Нортумбрия переходит в руки его соперников.
Тости, поселившись отдельно от Гарольда, в крепости близ оксфордских ворот, заботился очень мало о примирении с врагами или о приобретении новых друзей; он очень надеялся на заступничество Эдуарда, который не был расположен к семейству Альгара.
До открытия Витана оставалось всего три дня. Гарольд сидел у окна дома, в котором жил, и смотрел на улицу, когда вошел Хакон, сказав, что Гарольда желают видеть несколько танов и достойный Альред.
– Знаешь ты, что привело их ко мне? – спросил Гарольд.
Юноша побледнел больше обыкновенного и сказал почти шепотом:
– Исполняются предсказания Хильды.
Граф вздрогнул, и глаза его вспыхнули огнем радости под влиянием вновь проснувшегося честолюбия, но он овладел собой и попросил Хакона ввести к нему гостей.
Они вошли попарно; их было так много, что обширная приемная едва могла вместить всех. Гарольд узнал в них важнейших танов и удивился, заметив, что рядом с преданнейшими его друзьями шли люди, которые прежде были расположены к нему враждебно. Все остановились перед возвышением, на котором стоял Гарольд, и Альред отклонил его предложение взойти на помост.
Достойный старец произнес глубоко прочувствованную речь, в которой описал бедственное положение страны, коснулся близкой кончины Эдуарда, после которого прекращалась линия Сердика; признался откровенно, что имел намерение повлиять на Витан в пользу Эдгара Этелинга, несмотря на его несовершеннолетие, но теперь это намерение отклонено им с одобрения всех.
