Страница:
В гнездо родное возвращаться будем
И мирно спать до утренней зари.
[209]
Или во что обратился бы этот гневный возглас Отвея:
– С удовольствием бы, – отвечал актер, – но я ее забыл.
– Да, когда вы ее играли, вы еще не достигли достаточного совершенства, – воскликнул поэт, – а то бы вы стяжали такие аплодисменты, каких еще не знавала сцена! О, как мне было жаль вас, когда вы их лишились!
– Право, – говорит актер, – насколько я помню, этому монологу свистали сильнее, чем всему остальному в пьесе.
– Да, свистали тому, как бы его произнесли, – сказал поэт.
– Как я произнес! – сказал актер.
– То есть тому, что вы его не произносите, – сказал поэт, – вы ушли со сцены, и тут поднялся свист.
– Поднялся свист, и тут я вышел, насколько я помню, – ответил актер, – и могу, не хвастаясь, сказать вам: вся публика признала, что я отдал должное роли; так что не относите провал вашей пьесы на мой счет.
– Не знаю, что вы разумеете под провалом, – ответил поэт.
– Но вы же знаете, что она игралась один только вечер! – вскричал актер.
– Да, – сказал поэт, – вы и весь город преследовали меня враждой; партер был полон моих врагов, мерзавцев, которые перерезали бы мне горло, если б их не удерживал страх перед виселицей. Все портные, сэр, все портные!
– С чего бы это портным так на вас взъяриться? – восклицает актер. – Не у всех же у них, надеюсь, вы шили себе платье?
– Принимаю вашу остроту, – ответил поэт, – но вы помните, как все было, не хуже меня самого; и вы знаете, что в партере и на верхней галерее засели те, кто отнюдь не желал, чтобы пьесу мою продолжали давать на театре, хотя многие, огромное большинство – в частности, все ложи, – очень этого хотели, да и большинство дам клялось, что их ноги не будет в театре, покуда мою пьесу не сыграют еще раз… И я должен признать, эти люди держались правильной политики, когда не допускали, чтобы пьеса дана была вторично: негодяи знали, что, пройди она во второй раз, она пройдет и в пятидесятый; если когда-либо трагедия передавала отчаянье… я не питаю пристрастия к собственному произведению, но если бы я сказал вам, что говорили о нем лучшие судьи… Однако не из-за одних только врагов моих она не имела того успеха на театре, какой получила она потом среди утонченных читателей, ибо вы не можете утверждать, что исполнители отдали ей должное.
– Я думаю, – отвечал актер, – они отдали должное всему заключенному в ней отчаянью, ибо мы поистине были в отчаянье, когда в последнем акте нас забросали апельсинами; нам всем казалось, что он станет последним актом нашей жизни.
Поэт, вскипев яростью, приготовился ответить, когда спору их положило конец одно происшествие; и если читателю не терпится узнать, какое именно, то придется ему перескочить через следующую главу, являющую собой в некотором роде противоположность этой и содержащую, может быть, нечто самое прекрасное и торжественное во всей книге, а именно – беседу между пастором Абраамом Адамсом и мистером Джозефом Эндрусом.
И мирно спать до утренней зари.
[209]
Или во что обратился бы этот гневный возглас Отвея:
– Стойте, стойте! – сказал поэт. – Прочтите лучше ту нежную речь в третьем акте моей пьесы, в которой вы были так блистательны!
…Кто захочет быть
Той тварью, что зовется человеком?
[210]
– С удовольствием бы, – отвечал актер, – но я ее забыл.
– Да, когда вы ее играли, вы еще не достигли достаточного совершенства, – воскликнул поэт, – а то бы вы стяжали такие аплодисменты, каких еще не знавала сцена! О, как мне было жаль вас, когда вы их лишились!
– Право, – говорит актер, – насколько я помню, этому монологу свистали сильнее, чем всему остальному в пьесе.
– Да, свистали тому, как бы его произнесли, – сказал поэт.
– Как я произнес! – сказал актер.
– То есть тому, что вы его не произносите, – сказал поэт, – вы ушли со сцены, и тут поднялся свист.
– Поднялся свист, и тут я вышел, насколько я помню, – ответил актер, – и могу, не хвастаясь, сказать вам: вся публика признала, что я отдал должное роли; так что не относите провал вашей пьесы на мой счет.
– Не знаю, что вы разумеете под провалом, – ответил поэт.
– Но вы же знаете, что она игралась один только вечер! – вскричал актер.
– Да, – сказал поэт, – вы и весь город преследовали меня враждой; партер был полон моих врагов, мерзавцев, которые перерезали бы мне горло, если б их не удерживал страх перед виселицей. Все портные, сэр, все портные!
– С чего бы это портным так на вас взъяриться? – восклицает актер. – Не у всех же у них, надеюсь, вы шили себе платье?
– Принимаю вашу остроту, – ответил поэт, – но вы помните, как все было, не хуже меня самого; и вы знаете, что в партере и на верхней галерее засели те, кто отнюдь не желал, чтобы пьесу мою продолжали давать на театре, хотя многие, огромное большинство – в частности, все ложи, – очень этого хотели, да и большинство дам клялось, что их ноги не будет в театре, покуда мою пьесу не сыграют еще раз… И я должен признать, эти люди держались правильной политики, когда не допускали, чтобы пьеса дана была вторично: негодяи знали, что, пройди она во второй раз, она пройдет и в пятидесятый; если когда-либо трагедия передавала отчаянье… я не питаю пристрастия к собственному произведению, но если бы я сказал вам, что говорили о нем лучшие судьи… Однако не из-за одних только врагов моих она не имела того успеха на театре, какой получила она потом среди утонченных читателей, ибо вы не можете утверждать, что исполнители отдали ей должное.
– Я думаю, – отвечал актер, – они отдали должное всему заключенному в ней отчаянью, ибо мы поистине были в отчаянье, когда в последнем акте нас забросали апельсинами; нам всем казалось, что он станет последним актом нашей жизни.
Поэт, вскипев яростью, приготовился ответить, когда спору их положило конец одно происшествие; и если читателю не терпится узнать, какое именно, то придется ему перескочить через следующую главу, являющую собой в некотором роде противоположность этой и содержащую, может быть, нечто самое прекрасное и торжественное во всей книге, а именно – беседу между пастором Абраамом Адамсом и мистером Джозефом Эндрусом.
Глава XI,
содержащая увещания пастора Адамса, обращенные к его убитому горем другу; написана в целях наставления и усовершенствования читателя
Не успел Джозеф вполне прийти в себя и увидеть, что возлюбленной нет, как скорбь его о ее утрате излилась в стенаниях, которые пронзили бы всякое сердце, кроме лишь такого, что сделано из состава, по твердости и прочим свойствам весьма похожего на кремень, ибо вы можете высекать из него огонь, который брызнет искрами из глаз, но из глаз этих не выльется ни капли влаги. Однако у бедного юноши сердце было из более мягкого состава, и при словах: «О моя дорогая Фанни! О моя любовь! Неужели я никогда, никогда больше не увижу тебя!» – его глаза наводнились слезами, которые приличны были бы кому угодно, только не герою. Словом, его отчаяние было таково, что легче его вообразить, чем описывать…
Мистер Адамс, сидевший к Джозефу спиною, после долгих его сетований повел в скорбном духе такую речь:
– Не думай, мое дорогое дитя, что я всецело порицаю эти первые муки твоего горя, ибо когда невзгоды поражают нас внезапно, чтобы им противиться, нужно обладать неизмеримо большими знаниями, чем обладаешь ты; однако человеку и христианину подобает призывать себе на помощь рассудительность, и она тотчас научит его терпению и покорности. А потому утешься, дитя мое, говорю тебе, утешься! Правда, ты потерял самую красивую, самую добрую, прелестную и милую молодую женщину, ту, с кем ты, быть может, располагал жить в счастье, целомудрии и чистоте, ту, от кого, быть может, ты льстил себя надеждою иметь много милых крошек, которые стали бы вашей радостью в молодые ваши лета и утешением в старости. Ты ее не только утратил, но у тебя есть основания опасаться грубой обиды, какую могут учинить над нею похоть и сила. Следственно, тебе легко вообразить всяческие ужасы и прийти в отчаянье.
– О, я сойду с ума! – воскликнул Джозеф. – О, если бы я только мог высвободить руки, я бы вырвал себе глаза и разодрал свое тело!
– Если ты хочешь воспользоваться руками в таких целях, то я рад, что ты связан, – ответил Адамс. – Я изобразил твои несчастья так сильно, как только мог; но, с другой стороны, ты должен подумать и о том, что ты христианин, что ничто не свершается с нами без попущенья божьего и что долг человека, а тем паче христианина – смиряться. Мы не сами себя создали; и та сила, что создала нас, управляет и располагает нами по воле своей. Творец наш делает с нами, что ему угодно, и мы не вправе сетовать. Второе основание, почему не должны мы сетовать, – наше невежество, ибо как мы не знаем будущих событий, так равно не можем и сказать, к какой цели клонится то или иное происшествие; и то, что поначалу грозит нам злом, может в конце пойти нам на благо. Я должен бы, в сущности, сказать, что мы невежественны вдвойне (только сейчас у меня нет времени как следует это разъяснить), ибо как мы не знаем, к какой цели направлено в конечном счете то или иное происшествие, так равно не можем с уверенностью сказать, какой причиной оно изначально порождено. Ты – человек, и следовательно – грешник; и, может быть, это тебе послано в наказание за твои грехи; в таком смысле это воистину может быть почтено за благо для тебя, – да, за величайшее благо, довлеющее гневу небесному и предотвращающее ярость, которая неизбежно ввергла бы нас в гибель. В-третьих, наше бессилие помочь самим себе служит доказательством безрассудства и бессмысленности наших сетований, ибо кому противимся мы или на кого мы сетуем, если не на ту силу, от чьих стрел не охранят нас никакие доспехи, не даст убежать никакая быстрота. На ту силу, которая не оставляет нам иной надежды, помимо смирения.
– О сэр! – воскликнул Джозеф. – Все это очень верно и очень хорошо, и я мог бы слушать вас до вечера, когда бы не было у меня такого горя на сердце, как сейчас.
– Разве стал бы ты, – говорит Адамс, – принимать лекарство, когда ты здоров, и отказываться от него, когда болен? Разве мы подаем утешение не угнетенному горем, а тем, кто радуется, или тем, кто в покое?
– Да вы же не сказали мне еще ни слова утешения! – возразил Джозеф.
– Не сказал? – вскричал Адамс. – А что же я делаю? Что могу я сказать тебе в утешение?
– О, скажите мне, – взмолился Джозеф, – что Фанни вернется в мои объятия, что я вновь обниму это милое создание во всей его прелести, во всей незапятнанной чистоте.
– Что ж, может быть, – воскликнул Адамс, – но я не могу обещать тебе ничего на будущее. Ты должен с полной покорностью ждать событий; когда будет она тебе возвращена, твой долг – благодарить небо; и в том же он, когда не будет. Джозеф, если ты мудр и поистине знаешь собственную свою выгоду, ты мирно и спокойно подчинишься всем вершениям промысла господня, в полной уверенности, что все несчастья, посылаемые праведному, как бы ни были они велики, посылаются ради его же блага. Да не только собственная твоя выгода, но и долг твой велит тебе воздержаться от неумеренного горя, поддаваясь которому ты не достоин имени христианина.
Он проговорил последние слова несколько более строго, чем обычно. Тогда Джозеф попросил пастора не гневаться, говоря, что тот ошибается, если предполагает в нем отрицание своего долга: нет, он издавна знает свой долг!
– Чего стоит твое знание долга, если ты его не выполняешь? – ответил Адамс. – Знание твое только усугубляет вину… Ох, Джозеф, я никогда не полагал в тебе такого упрямства.
Джозеф ответил, что пастор, видимо, неправильно понял его.
– Уверяю вас, – сказал он, – вы ошибаетесь, если думаете, что я нарочно стараюсь горевать; клянусь душой своей, нет!
Адамс упрекнул его за клятву и пустился снова в рассуждения о неразумии горести, указывая Джозефу, что все мудрецы и философы, будь они даже язычники, писали против нее; он привел ряд выдержек из Сенеки и из «Утешения», которое, хоть и не принадлежит перу Цицерона, почти не уступает, сказал он, любому из его произведений;
[211]и заключил замечанием, что неумеренная скорбь может прогневить ту силу, которая одна лишь властна вернуть ему Фанни.
Этот довод – или, скорее, порожденная им мысль о возможности возвращения любимой – возымел больше действия, чем все сказанное пастором раньше, и на минуту унял мучения Джозефа; но когда страхи достаточно ясно нарисовали его взору опасность, нависшую над несчастной Фанни, горе овладело им с удвоенной яростью, и Адамс ни в малой мере не мог его смягчить; хотя заметим в пользу пастора, что и сам Сократ едва ли достиг бы здесь большего успеха.
Они приумолкли на время, у обоих вырывались только стоны и вздохи; наконец Джозеф разразился следующим монологом:
– Эх, пьесы могут научить только язычеству! – сказал Адамс. – Кроме «Катона» и «Совестливых влюбленных»
[213], я не слыхивал ни о единой пьесе, достойной, чтоб ее читал христианин. Зато во второй из них, сознаюсь, есть места, почти достаточно торжественные для проповеди…
Теперь, однако, мы оставим их на время и разузнаем о той, которая являлась предметом их беседы.
Мистер Адамс, сидевший к Джозефу спиною, после долгих его сетований повел в скорбном духе такую речь:
– Не думай, мое дорогое дитя, что я всецело порицаю эти первые муки твоего горя, ибо когда невзгоды поражают нас внезапно, чтобы им противиться, нужно обладать неизмеримо большими знаниями, чем обладаешь ты; однако человеку и христианину подобает призывать себе на помощь рассудительность, и она тотчас научит его терпению и покорности. А потому утешься, дитя мое, говорю тебе, утешься! Правда, ты потерял самую красивую, самую добрую, прелестную и милую молодую женщину, ту, с кем ты, быть может, располагал жить в счастье, целомудрии и чистоте, ту, от кого, быть может, ты льстил себя надеждою иметь много милых крошек, которые стали бы вашей радостью в молодые ваши лета и утешением в старости. Ты ее не только утратил, но у тебя есть основания опасаться грубой обиды, какую могут учинить над нею похоть и сила. Следственно, тебе легко вообразить всяческие ужасы и прийти в отчаянье.
– О, я сойду с ума! – воскликнул Джозеф. – О, если бы я только мог высвободить руки, я бы вырвал себе глаза и разодрал свое тело!
– Если ты хочешь воспользоваться руками в таких целях, то я рад, что ты связан, – ответил Адамс. – Я изобразил твои несчастья так сильно, как только мог; но, с другой стороны, ты должен подумать и о том, что ты христианин, что ничто не свершается с нами без попущенья божьего и что долг человека, а тем паче христианина – смиряться. Мы не сами себя создали; и та сила, что создала нас, управляет и располагает нами по воле своей. Творец наш делает с нами, что ему угодно, и мы не вправе сетовать. Второе основание, почему не должны мы сетовать, – наше невежество, ибо как мы не знаем будущих событий, так равно не можем и сказать, к какой цели клонится то или иное происшествие; и то, что поначалу грозит нам злом, может в конце пойти нам на благо. Я должен бы, в сущности, сказать, что мы невежественны вдвойне (только сейчас у меня нет времени как следует это разъяснить), ибо как мы не знаем, к какой цели направлено в конечном счете то или иное происшествие, так равно не можем с уверенностью сказать, какой причиной оно изначально порождено. Ты – человек, и следовательно – грешник; и, может быть, это тебе послано в наказание за твои грехи; в таком смысле это воистину может быть почтено за благо для тебя, – да, за величайшее благо, довлеющее гневу небесному и предотвращающее ярость, которая неизбежно ввергла бы нас в гибель. В-третьих, наше бессилие помочь самим себе служит доказательством безрассудства и бессмысленности наших сетований, ибо кому противимся мы или на кого мы сетуем, если не на ту силу, от чьих стрел не охранят нас никакие доспехи, не даст убежать никакая быстрота. На ту силу, которая не оставляет нам иной надежды, помимо смирения.
– О сэр! – воскликнул Джозеф. – Все это очень верно и очень хорошо, и я мог бы слушать вас до вечера, когда бы не было у меня такого горя на сердце, как сейчас.
– Разве стал бы ты, – говорит Адамс, – принимать лекарство, когда ты здоров, и отказываться от него, когда болен? Разве мы подаем утешение не угнетенному горем, а тем, кто радуется, или тем, кто в покое?
– Да вы же не сказали мне еще ни слова утешения! – возразил Джозеф.
– Не сказал? – вскричал Адамс. – А что же я делаю? Что могу я сказать тебе в утешение?
– О, скажите мне, – взмолился Джозеф, – что Фанни вернется в мои объятия, что я вновь обниму это милое создание во всей его прелести, во всей незапятнанной чистоте.
– Что ж, может быть, – воскликнул Адамс, – но я не могу обещать тебе ничего на будущее. Ты должен с полной покорностью ждать событий; когда будет она тебе возвращена, твой долг – благодарить небо; и в том же он, когда не будет. Джозеф, если ты мудр и поистине знаешь собственную свою выгоду, ты мирно и спокойно подчинишься всем вершениям промысла господня, в полной уверенности, что все несчастья, посылаемые праведному, как бы ни были они велики, посылаются ради его же блага. Да не только собственная твоя выгода, но и долг твой велит тебе воздержаться от неумеренного горя, поддаваясь которому ты не достоин имени христианина.
Он проговорил последние слова несколько более строго, чем обычно. Тогда Джозеф попросил пастора не гневаться, говоря, что тот ошибается, если предполагает в нем отрицание своего долга: нет, он издавна знает свой долг!
– Чего стоит твое знание долга, если ты его не выполняешь? – ответил Адамс. – Знание твое только усугубляет вину… Ох, Джозеф, я никогда не полагал в тебе такого упрямства.
Джозеф ответил, что пастор, видимо, неправильно понял его.
– Уверяю вас, – сказал он, – вы ошибаетесь, если думаете, что я нарочно стараюсь горевать; клянусь душой своей, нет!
Адамс упрекнул его за клятву и пустился снова в рассуждения о неразумии горести, указывая Джозефу, что все мудрецы и философы, будь они даже язычники, писали против нее; он привел ряд выдержек из Сенеки и из «Утешения», которое, хоть и не принадлежит перу Цицерона, почти не уступает, сказал он, любому из его произведений;
[211]и заключил замечанием, что неумеренная скорбь может прогневить ту силу, которая одна лишь властна вернуть ему Фанни.
Этот довод – или, скорее, порожденная им мысль о возможности возвращения любимой – возымел больше действия, чем все сказанное пастором раньше, и на минуту унял мучения Джозефа; но когда страхи достаточно ясно нарисовали его взору опасность, нависшую над несчастной Фанни, горе овладело им с удвоенной яростью, и Адамс ни в малой мере не мог его смягчить; хотя заметим в пользу пастора, что и сам Сократ едва ли достиг бы здесь большего успеха.
Они приумолкли на время, у обоих вырывались только стоны и вздохи; наконец Джозеф разразился следующим монологом:
Адамс спросил у него, что он такое декламирует. Джозеф ответил, что это строки из одной пьесы, которые ему запомнились.
Да! Буду скорбь мою нести, как муж.
Но должно мне и чувствовать как мужу.
Мне не забыть, что было это все —
И было мне так дорого!…
[212]
– Эх, пьесы могут научить только язычеству! – сказал Адамс. – Кроме «Катона» и «Совестливых влюбленных»
[213], я не слыхивал ни о единой пьесе, достойной, чтоб ее читал христианин. Зато во второй из них, сознаюсь, есть места, почти достаточно торжественные для проповеди…
Теперь, однако, мы оставим их на время и разузнаем о той, которая являлась предметом их беседы.
Глава XII
Еще приключения, которые, надеемся мы, не только удивят, но и порадуют читателя
Ни забавный диалог, происходивший между поэтом и актером, ни важные и поистине возвышенные речи мистера Адамса, как мы полагаем, не вознаградят достаточно читателя за его беспокойство о несчастной Фанни, которую он оставил в таком плачевном положении. Поэтому мы приступим теперь к рассказу о том, что случилось с этой прекрасной и невинной девой после того, как попала она в недобрые руки капитана.
Сей служитель Марса, умчав свою прелестную добычу из гостиницы незадолго до рассвета, со всей доступной, ему быстротой поспешил к дому сквайра, где нежному созданию предстояло быть принесенным в жертву сластолюбию насильника. В дороге он был не только глух ко всем ее жалобам и мольбам, но еще изливал ей в уши непристойности, настолько непривычные для ее слуха, что девушка, на свое счастье, почти не понимала их. Наконец капитан изменил тон и попробовал успокоить ее и прельстить, расписывая ей блеск и роскошь, какие доставит ей мужчина, который и склонен и властен дать ей все, чего она пожелает; он также выразил уверенность, что вскоре она начнет смотреть благосклоннее и на него, виновника этого счастья, и забудет того жалкого человека, полюбить которого она могла лишь по своему неведению. Она ответила, что ей невдомек, о ком он говорит: никогда она не любила никакого «жалкого человека».
– Вас задело, сударыня, – говорит он, – что я его так назвал. Но что лучшего можно сказать о человеке в ливрее, невзирая на всю вашу склонность к нему?
Она ответила, что не понимает его, что тот человек был слугой в одном с нею доме, и, насколько ей известно, вполне честным; а что до склонности к мужчинам…
– Ручаюсь вам, – вскричал капитан, – мы найдем способы, которые научат вас склоняться; и я советую вам покориться добром, потому что, можете не сомневаться, не в вашей власти, сколько бы вы ни противились, сохранить свою девственность еще хоть на два часа. Вам выгоднее согласиться: сквайр будет много «любезнее к вам, если насладится вами по доброй вашей воле, а не насильственно.
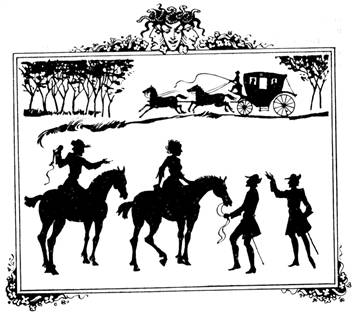
При этих его словах Фанни начала громко звать на помощь (было уже совсем светло); но так как никто не откликнулся, она возвела глаза к небу и стала молить, чтобы сила небесная помогла ей сохранить невинность. Капитан ей сказал, что если она не перестанет визжать, то он найдет способ заткнуть ей глотку. Тогда несчастная, не видя надежды на помощь, предалась отчаянью. «Джозеф! Джозеф!» – вздыхала она, и слезы рекой катились по милым ее щекам, увлажняя косынку, покрывавшую ей грудь. На дороге показался всадник, и тут капитан крепко пригрозил ей, чтоб она не смела жаловаться; однако в то мгновение, как незнакомец поравнялся с ней, она стала убедительно просить его вызволить несчастное создание из рук насильника. Всадник при этих словах остановил своего коня, но капитан стал уверять его, что это его жена и что он ее везет домой от ее любовника; незнакомцу, человеку пожилому (а может быть, к тому же и женатому), объяснение показалось столь вразумительным, что он пожелал капитану счастливого пути и поскакал дальше. Едва дав ему удалиться, капитан принялся крепко ругать девицу за то, что она преступает его приказания, и пригрозил ей кляпом, но тут прямо перед ними выехали на дорогу еще два всадника, вооруженные пистолетами. Один при этом сказал другому:
– А хороша девчонка, Джек! Кто бы ни был этот парень, хотел бы я быть на его месте.
Но другой с жаром воскликнул:
– Фью! Да я же ее знаю! – И обратившись к ней, сказал: – Никак, вы Фанни Гудвил?
– Да, да, это я! – закричала она. – Ох, Джон, теперь я вас узнала… Небо вас послало мне на помощь, чтобы вырвать меня из рук дурного человека, который увозит меня для своих подлых целей… О, ради бога, спасите меня от него!
Тотчас завязался ожесточенный спор между капитаном и теми двумя; и так как они были при пистолетах, да и коляска, которую они сопровождали, теперь тоже подъехала, капитан сообразил, что ни сила, ни хитрость ему не помогут, и попробовал обратиться в бегство, в чем, однако, он не преуспел. Джентльмен, ехавший в коляске, приказал остановить лошадей и с видом судьи стал вникать в обстоятельства дела; и когда Фанни изложила их, а парень, знавший ее, подтвердил, что ей можно верить, он приказал, чтобы капитана, который весь был в крови после сражения в гостинице, повели за его коляской в качестве пленника, девице же весьма учтиво предложил сесть рядом с ним в коляску, ибо, сказать по правде, этот джентльмен (а был он не кто иной, как небезызвестный мистер Питер Паунс, опередивший леди Буби всего лишь на несколько миль, так как выехал в то же утро, но немного пораньше) был отменно галантен и любил хорошеньких женщин больше всего на свете, за исключением денег – собственных и чужих.
Коляска уже приближалась к гостинице, которая, как известно было Фанни, лежала на их пути и куда она прибыла в то самое время, когда поэт и актер вели свой спор внизу, а мистер Адамс и Джозеф беседовали спина к спине наверху; как раз в ту минуту, до которой мы довели тех и других в двух предшествующих главах, коляска остановилась у входа, и Фанни, выпрыгнув из нее, мгновенно побежала к Джозефу. О читатель, вообрази, если можешь, радость, загоревшуюся в груди наших любовников при этой встрече, и если сердце твое бессильно помочь твоему воображению, я искренне тебя сожалею всем своим собственным сердцем, ибо да узнает жестокосердный негодяй, что в нежном сочувствии заключается услада превыше всех, какие сам он способен вкушать!
Питер, узнав от Фанни о присутствии здесь Адамса, отправился наверх навестить его и принять от него дань уважения: поскольку Питер был лицемером – порода людей, в которой Адамс никогда не умел разобраться, – то последний воздавал его кажущейся доброте эту дань, которую первый относил к своему богатству; поэтому мистер Адамс был у Паунса в таком фаворе, что однажды он, спасая пастора от тюрьмы, одолжил ему четыре фунта тринадцать шиллингов шесть пенсов только лишь под расписку и честное слово, каковыми Паунс едва ли мог как-нибудь воспользоваться, если бы деньги не были своевременно возвращены (пастор, однако, вернул их точно в срок).
Нелегко, пожалуй, описать сейчас фигуру Адамса: он ночью встал с кровати в такой страшной спешке, что был без штанов и без чулок, и не снял он еще с головы красного в крапинку платка, которым на сон грядущий прикрутил к голове вывернутый наизнанку парик. На нем была разодранная ряса и полукафтанье, но как висели из-под этого полукафтанья останки рясы, так из-под рясы выглядывала узкая полоса белой или, верней, беловатой рубахи; к этому добавьте несколько разных красок, сочетавшихся на его лице: длинная, в подпалинах мочи борода послужила к удержанию жидкости из каменного сосуда и другой – почернее, натекшей с тряпки… Как только эта фигура, освобожденная милой Фанни от уз, явилась взору Питера, степенная важность мускулов его лица нарушилась; однако он тут же посоветовал пастору обчиститься и не стал принимать от него дань уважения, покуда он не приведет себя в должный вид.
Поэт и актер, увидев капитана в положении узника, сразу же помыслили, как им обеспечить собственную безопасность, единственным средством к чему им представилось бегство; поэтому они взгромоздились вдвоем на лошадь поэта и начали отступление со всею доступной им быстротой.
Хозяин гостиницы, хорошо знавший мистера Паунса и ливрею леди Буби, был немало смущен этой переменой картины, и его смущение отнюдь не рассеялось, когда его супруга, поднявшись только что с постели и выслушав от него отчет о происшедшем, не скупясь надавала ему «дураков» и «болванов», спросила затем, почему он с ней не посоветовался, и сказала, что он, как видно, не перестанет следовать идиотским указаниям своей пустой башки, покуда не доведет до разорения жену и детей.
Джозеф, услыхав о прибытии капитана и видя, что Фанни в безопасности, оставил ее на короткое время, сбежал с лестницы, подошел прямо к обидчику, скинул кафтан и вызвал его на бой; но капитан отклонил вызов, говоря, что кулачного боя он не признает. Тогда Джозеф взял в правую руку дубинку и, левой рукой схватив капитана за шиворот, жестоко его оттузил, в заключение сказав, что получил теперь частичное удовлетворение за то, что вытерпела его дорогая Фанни.
Когда мистер Паунс немного подкрепился провиантом, который был у него в коляске, а мистер Адамс придал себе наилучший вид, какой возможен был при его одежде, Паунс приказал привести к нему капитана, ибо, сказал он, тот совершил уголовное преступление и ближайший мировой судья засадит его в тюрьму; но слуги (чья жажда мести быстро утоляется), вполне удовлетворенные расправой, которую учинил над капитаном Джозеф и которая, надо сказать, была не слишком милостивой, позволили ему заблаговременно удалиться, что он и сделал, пригрозив суровым мщением Джозефу; однако я не слышал, чтобы он когда-либо почел удобным привести свою угрозу в исполнение.
Хозяйка дома по собственному почину предстала пред лицо мистера Паунса и с бесчисленными приседаниями сказала ему, что его честь, как она надеется, простит ее неразумному мужу ради его семейства; правда, говорила она, если бы можно было погубить его одного, то она бы с радостью на это согласилась, а спросят, почему, так его милости хорошо известно, что муж ее того заслуживает; но у нее трое малых детей, которые не могут сами заботиться о своем пропитании; и ежели ее мужа отправят в тюрьму, то им всем придется жить на средства прихода, потому что она, бедная, слабая женщина, только и знает, что носить детей, а работать на них ей и вовсе некогда. Так что, она надеется, его честь примет это в свое милостивое соображение и простит на этот раз ее супруга; он никогда не замышлял зла ни на кого, будь то мужчина, женщина или ребенок, и если б не дурья его голова, то в остальном он мужчина хоть куда: она за неполных три года родила от него троих детей и вот-вот должна разрешиться четвертым.
Она бы долго еще продолжала в том же роде, когда бы Питер не остановил ее, заявив, что ничего не имеет ни против ее мужа, ни против ее самой. И когда Адамс и другие разъяснили ей, что все прощено, она со слезами и приседаниями вышла из комнаты.
Мистер Паунс хотел, чтобы Фанни продолжала путешествие в его коляске; но она наотрез отказалась, заявив, что поедет с Джозефом на лошади, которую ему предоставляет один из слуг леди Буби. Но увы! Когда лошадь привели, она оказалась не чем иным, как тем самым скакуном, которого мистер Адамс оставил в гостинице и которого эти добрые люди, зная пастора, выкупили за него у хозяина. Впрочем, какого бы коня ни предложили Джозефу, его не убедили бы сесть в седло – даже и с тем, чтобы ехать с его возлюбленной Фанни, – покуда не достали бы коня и для пастора; а тем более не стал бы он лишать своего друга его же собственной лошади, которую он узнал с первого взгляда, хотя Адамс и не узнал; однако, когда пастору напомнили, как было дело, и сказали, что привели лошадь, оставленную им в пути, он ответил: «Смотри-ка! Ведь я и впрямь ее там оставил!»
Адамс настаивал, чтобы Джозеф с Фанни поехали верхом на этой лошади, и объявил, что сам он охотно дойдет до дому пешком.
– Если бы мне идти одному, – сказал он, – то я поставил бы шиллинг за то, что пешеход обгонит конных путешественников; но так как я намерен взять себе в спутники трубку, то возможно, что я прибуду часом позже.
Один из слуг шепнул Джозефу, чтобы он поймал пастора на слове и предоставил старику идти пешком, коли ему так угодно. На это предложение Джозеф ответил гневным взглядом и непреложным отказом; подхватив свою Фанни на руки, он твердо сказал, что скорее пронесет ее так всю дорогу, чем, отобрав лошадь у мистера Адамса, позволит ему идти пешком.
Может быть, читатель, ты видел, как быстро разрешался спор двух джентльменов или двух леди, когда оба, или обе, уверяли, что не станут кушать этот лакомый кусочек, настаивая, каждый или каждая, на принятии его другим, – хотя в действительности каждому очень хотелось проглотить его самому. Но не заключай отсюда, что и этот спор пришел бы к быстрому разрешению, ибо здесь обе стороны настаивали искренне, и очень возможно, что они и по сей день стояли бы так и спорили во дворе гостиницы, если бы добрый Питер Паунс не примирил их: убедившись, что у него не остается надежды на благосклонность Фанни, которая давно дразнила его аппетит, и желая иметь около себя кого-нибудь, пред кем он мог похвалиться своим величием, он сказал пастору, что подвезет его до дому в своей коляске. Это одолжение было принято Адамсом с бесчисленными поклонами и изъявлениями признательности, хотя впоследствии он и говорил, что сел в коляску «больше для того, чтоб не было обиды, чем из желания ехать в ней, так как в душе предпочитает пешую ходьбу даже езде в экипаже». Вопрос, таким образом, разрешился, коляска с Адамсом и Паунсом тронулась, а Фанни уже уселась на подушку двойного седла, данного Джозефу на подержание хозяином гостиницы, и ухватилась за кушак, которым ее возлюбленный нарочно для того опоясался, но умное животное, подумав, что двое – чет, а трое – нечет, что там, где двое, – третий лишний и так далее, нашло свою двойную ношу весьма неудобной и, перебирая задними ногами, как передними, стало двигаться не вперед, а в прямо противоположном направлении. Даже и Джозеф, при всем своем искусстве наездника, не мог убедить лошадку пойти, как надо: не питая никакого почтения к прелестной части тела прелестнейшей девушки, сидевшей у нее на крупе, она выкидывала такие штуки, что, не подоспей на помощь один из слуг, Фанни, попросту говоря, шлепнулась бы наземь. Затруднение было быстро разрешено посредством обмена коней; и когда Фанни снова посадили в седло с подушкой, водруженное на более благонравное и лучше откормленное животное, лошадь пастора, найдя, что с четом и нечетом все теперь в порядке, согласилась двинуться вперед; и вся процессия потянулась в Буби-холл, куда и прибыла через несколько часов спустя, причем дорогой не произошло ничего примечательного, если не считать любопытного диалога между пастором и управляющим, который, говоря языком одного небезызвестного апологета, образца для всех биографов, «дожидается читателя в следующей главе».
[214]
Сей служитель Марса, умчав свою прелестную добычу из гостиницы незадолго до рассвета, со всей доступной, ему быстротой поспешил к дому сквайра, где нежному созданию предстояло быть принесенным в жертву сластолюбию насильника. В дороге он был не только глух ко всем ее жалобам и мольбам, но еще изливал ей в уши непристойности, настолько непривычные для ее слуха, что девушка, на свое счастье, почти не понимала их. Наконец капитан изменил тон и попробовал успокоить ее и прельстить, расписывая ей блеск и роскошь, какие доставит ей мужчина, который и склонен и властен дать ей все, чего она пожелает; он также выразил уверенность, что вскоре она начнет смотреть благосклоннее и на него, виновника этого счастья, и забудет того жалкого человека, полюбить которого она могла лишь по своему неведению. Она ответила, что ей невдомек, о ком он говорит: никогда она не любила никакого «жалкого человека».
– Вас задело, сударыня, – говорит он, – что я его так назвал. Но что лучшего можно сказать о человеке в ливрее, невзирая на всю вашу склонность к нему?
Она ответила, что не понимает его, что тот человек был слугой в одном с нею доме, и, насколько ей известно, вполне честным; а что до склонности к мужчинам…
– Ручаюсь вам, – вскричал капитан, – мы найдем способы, которые научат вас склоняться; и я советую вам покориться добром, потому что, можете не сомневаться, не в вашей власти, сколько бы вы ни противились, сохранить свою девственность еще хоть на два часа. Вам выгоднее согласиться: сквайр будет много «любезнее к вам, если насладится вами по доброй вашей воле, а не насильственно.
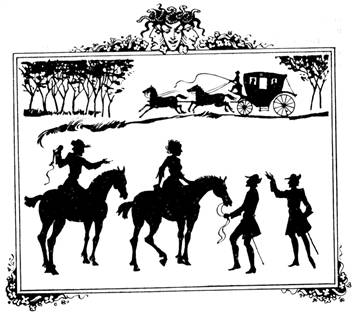
При этих его словах Фанни начала громко звать на помощь (было уже совсем светло); но так как никто не откликнулся, она возвела глаза к небу и стала молить, чтобы сила небесная помогла ей сохранить невинность. Капитан ей сказал, что если она не перестанет визжать, то он найдет способ заткнуть ей глотку. Тогда несчастная, не видя надежды на помощь, предалась отчаянью. «Джозеф! Джозеф!» – вздыхала она, и слезы рекой катились по милым ее щекам, увлажняя косынку, покрывавшую ей грудь. На дороге показался всадник, и тут капитан крепко пригрозил ей, чтоб она не смела жаловаться; однако в то мгновение, как незнакомец поравнялся с ней, она стала убедительно просить его вызволить несчастное создание из рук насильника. Всадник при этих словах остановил своего коня, но капитан стал уверять его, что это его жена и что он ее везет домой от ее любовника; незнакомцу, человеку пожилому (а может быть, к тому же и женатому), объяснение показалось столь вразумительным, что он пожелал капитану счастливого пути и поскакал дальше. Едва дав ему удалиться, капитан принялся крепко ругать девицу за то, что она преступает его приказания, и пригрозил ей кляпом, но тут прямо перед ними выехали на дорогу еще два всадника, вооруженные пистолетами. Один при этом сказал другому:
– А хороша девчонка, Джек! Кто бы ни был этот парень, хотел бы я быть на его месте.
Но другой с жаром воскликнул:
– Фью! Да я же ее знаю! – И обратившись к ней, сказал: – Никак, вы Фанни Гудвил?
– Да, да, это я! – закричала она. – Ох, Джон, теперь я вас узнала… Небо вас послало мне на помощь, чтобы вырвать меня из рук дурного человека, который увозит меня для своих подлых целей… О, ради бога, спасите меня от него!
Тотчас завязался ожесточенный спор между капитаном и теми двумя; и так как они были при пистолетах, да и коляска, которую они сопровождали, теперь тоже подъехала, капитан сообразил, что ни сила, ни хитрость ему не помогут, и попробовал обратиться в бегство, в чем, однако, он не преуспел. Джентльмен, ехавший в коляске, приказал остановить лошадей и с видом судьи стал вникать в обстоятельства дела; и когда Фанни изложила их, а парень, знавший ее, подтвердил, что ей можно верить, он приказал, чтобы капитана, который весь был в крови после сражения в гостинице, повели за его коляской в качестве пленника, девице же весьма учтиво предложил сесть рядом с ним в коляску, ибо, сказать по правде, этот джентльмен (а был он не кто иной, как небезызвестный мистер Питер Паунс, опередивший леди Буби всего лишь на несколько миль, так как выехал в то же утро, но немного пораньше) был отменно галантен и любил хорошеньких женщин больше всего на свете, за исключением денег – собственных и чужих.
Коляска уже приближалась к гостинице, которая, как известно было Фанни, лежала на их пути и куда она прибыла в то самое время, когда поэт и актер вели свой спор внизу, а мистер Адамс и Джозеф беседовали спина к спине наверху; как раз в ту минуту, до которой мы довели тех и других в двух предшествующих главах, коляска остановилась у входа, и Фанни, выпрыгнув из нее, мгновенно побежала к Джозефу. О читатель, вообрази, если можешь, радость, загоревшуюся в груди наших любовников при этой встрече, и если сердце твое бессильно помочь твоему воображению, я искренне тебя сожалею всем своим собственным сердцем, ибо да узнает жестокосердный негодяй, что в нежном сочувствии заключается услада превыше всех, какие сам он способен вкушать!
Питер, узнав от Фанни о присутствии здесь Адамса, отправился наверх навестить его и принять от него дань уважения: поскольку Питер был лицемером – порода людей, в которой Адамс никогда не умел разобраться, – то последний воздавал его кажущейся доброте эту дань, которую первый относил к своему богатству; поэтому мистер Адамс был у Паунса в таком фаворе, что однажды он, спасая пастора от тюрьмы, одолжил ему четыре фунта тринадцать шиллингов шесть пенсов только лишь под расписку и честное слово, каковыми Паунс едва ли мог как-нибудь воспользоваться, если бы деньги не были своевременно возвращены (пастор, однако, вернул их точно в срок).
Нелегко, пожалуй, описать сейчас фигуру Адамса: он ночью встал с кровати в такой страшной спешке, что был без штанов и без чулок, и не снял он еще с головы красного в крапинку платка, которым на сон грядущий прикрутил к голове вывернутый наизнанку парик. На нем была разодранная ряса и полукафтанье, но как висели из-под этого полукафтанья останки рясы, так из-под рясы выглядывала узкая полоса белой или, верней, беловатой рубахи; к этому добавьте несколько разных красок, сочетавшихся на его лице: длинная, в подпалинах мочи борода послужила к удержанию жидкости из каменного сосуда и другой – почернее, натекшей с тряпки… Как только эта фигура, освобожденная милой Фанни от уз, явилась взору Питера, степенная важность мускулов его лица нарушилась; однако он тут же посоветовал пастору обчиститься и не стал принимать от него дань уважения, покуда он не приведет себя в должный вид.
Поэт и актер, увидев капитана в положении узника, сразу же помыслили, как им обеспечить собственную безопасность, единственным средством к чему им представилось бегство; поэтому они взгромоздились вдвоем на лошадь поэта и начали отступление со всею доступной им быстротой.
Хозяин гостиницы, хорошо знавший мистера Паунса и ливрею леди Буби, был немало смущен этой переменой картины, и его смущение отнюдь не рассеялось, когда его супруга, поднявшись только что с постели и выслушав от него отчет о происшедшем, не скупясь надавала ему «дураков» и «болванов», спросила затем, почему он с ней не посоветовался, и сказала, что он, как видно, не перестанет следовать идиотским указаниям своей пустой башки, покуда не доведет до разорения жену и детей.
Джозеф, услыхав о прибытии капитана и видя, что Фанни в безопасности, оставил ее на короткое время, сбежал с лестницы, подошел прямо к обидчику, скинул кафтан и вызвал его на бой; но капитан отклонил вызов, говоря, что кулачного боя он не признает. Тогда Джозеф взял в правую руку дубинку и, левой рукой схватив капитана за шиворот, жестоко его оттузил, в заключение сказав, что получил теперь частичное удовлетворение за то, что вытерпела его дорогая Фанни.
Когда мистер Паунс немного подкрепился провиантом, который был у него в коляске, а мистер Адамс придал себе наилучший вид, какой возможен был при его одежде, Паунс приказал привести к нему капитана, ибо, сказал он, тот совершил уголовное преступление и ближайший мировой судья засадит его в тюрьму; но слуги (чья жажда мести быстро утоляется), вполне удовлетворенные расправой, которую учинил над капитаном Джозеф и которая, надо сказать, была не слишком милостивой, позволили ему заблаговременно удалиться, что он и сделал, пригрозив суровым мщением Джозефу; однако я не слышал, чтобы он когда-либо почел удобным привести свою угрозу в исполнение.
Хозяйка дома по собственному почину предстала пред лицо мистера Паунса и с бесчисленными приседаниями сказала ему, что его честь, как она надеется, простит ее неразумному мужу ради его семейства; правда, говорила она, если бы можно было погубить его одного, то она бы с радостью на это согласилась, а спросят, почему, так его милости хорошо известно, что муж ее того заслуживает; но у нее трое малых детей, которые не могут сами заботиться о своем пропитании; и ежели ее мужа отправят в тюрьму, то им всем придется жить на средства прихода, потому что она, бедная, слабая женщина, только и знает, что носить детей, а работать на них ей и вовсе некогда. Так что, она надеется, его честь примет это в свое милостивое соображение и простит на этот раз ее супруга; он никогда не замышлял зла ни на кого, будь то мужчина, женщина или ребенок, и если б не дурья его голова, то в остальном он мужчина хоть куда: она за неполных три года родила от него троих детей и вот-вот должна разрешиться четвертым.
Она бы долго еще продолжала в том же роде, когда бы Питер не остановил ее, заявив, что ничего не имеет ни против ее мужа, ни против ее самой. И когда Адамс и другие разъяснили ей, что все прощено, она со слезами и приседаниями вышла из комнаты.
Мистер Паунс хотел, чтобы Фанни продолжала путешествие в его коляске; но она наотрез отказалась, заявив, что поедет с Джозефом на лошади, которую ему предоставляет один из слуг леди Буби. Но увы! Когда лошадь привели, она оказалась не чем иным, как тем самым скакуном, которого мистер Адамс оставил в гостинице и которого эти добрые люди, зная пастора, выкупили за него у хозяина. Впрочем, какого бы коня ни предложили Джозефу, его не убедили бы сесть в седло – даже и с тем, чтобы ехать с его возлюбленной Фанни, – покуда не достали бы коня и для пастора; а тем более не стал бы он лишать своего друга его же собственной лошади, которую он узнал с первого взгляда, хотя Адамс и не узнал; однако, когда пастору напомнили, как было дело, и сказали, что привели лошадь, оставленную им в пути, он ответил: «Смотри-ка! Ведь я и впрямь ее там оставил!»
Адамс настаивал, чтобы Джозеф с Фанни поехали верхом на этой лошади, и объявил, что сам он охотно дойдет до дому пешком.
– Если бы мне идти одному, – сказал он, – то я поставил бы шиллинг за то, что пешеход обгонит конных путешественников; но так как я намерен взять себе в спутники трубку, то возможно, что я прибуду часом позже.
Один из слуг шепнул Джозефу, чтобы он поймал пастора на слове и предоставил старику идти пешком, коли ему так угодно. На это предложение Джозеф ответил гневным взглядом и непреложным отказом; подхватив свою Фанни на руки, он твердо сказал, что скорее пронесет ее так всю дорогу, чем, отобрав лошадь у мистера Адамса, позволит ему идти пешком.
Может быть, читатель, ты видел, как быстро разрешался спор двух джентльменов или двух леди, когда оба, или обе, уверяли, что не станут кушать этот лакомый кусочек, настаивая, каждый или каждая, на принятии его другим, – хотя в действительности каждому очень хотелось проглотить его самому. Но не заключай отсюда, что и этот спор пришел бы к быстрому разрешению, ибо здесь обе стороны настаивали искренне, и очень возможно, что они и по сей день стояли бы так и спорили во дворе гостиницы, если бы добрый Питер Паунс не примирил их: убедившись, что у него не остается надежды на благосклонность Фанни, которая давно дразнила его аппетит, и желая иметь около себя кого-нибудь, пред кем он мог похвалиться своим величием, он сказал пастору, что подвезет его до дому в своей коляске. Это одолжение было принято Адамсом с бесчисленными поклонами и изъявлениями признательности, хотя впоследствии он и говорил, что сел в коляску «больше для того, чтоб не было обиды, чем из желания ехать в ней, так как в душе предпочитает пешую ходьбу даже езде в экипаже». Вопрос, таким образом, разрешился, коляска с Адамсом и Паунсом тронулась, а Фанни уже уселась на подушку двойного седла, данного Джозефу на подержание хозяином гостиницы, и ухватилась за кушак, которым ее возлюбленный нарочно для того опоясался, но умное животное, подумав, что двое – чет, а трое – нечет, что там, где двое, – третий лишний и так далее, нашло свою двойную ношу весьма неудобной и, перебирая задними ногами, как передними, стало двигаться не вперед, а в прямо противоположном направлении. Даже и Джозеф, при всем своем искусстве наездника, не мог убедить лошадку пойти, как надо: не питая никакого почтения к прелестной части тела прелестнейшей девушки, сидевшей у нее на крупе, она выкидывала такие штуки, что, не подоспей на помощь один из слуг, Фанни, попросту говоря, шлепнулась бы наземь. Затруднение было быстро разрешено посредством обмена коней; и когда Фанни снова посадили в седло с подушкой, водруженное на более благонравное и лучше откормленное животное, лошадь пастора, найдя, что с четом и нечетом все теперь в порядке, согласилась двинуться вперед; и вся процессия потянулась в Буби-холл, куда и прибыла через несколько часов спустя, причем дорогой не произошло ничего примечательного, если не считать любопытного диалога между пастором и управляющим, который, говоря языком одного небезызвестного апологета, образца для всех биографов, «дожидается читателя в следующей главе».
[214]
Глава XIII
Любопытный диалог, имевший место между мистером Авраамом Адамсом и мистером Питером Паунсом и более достойный прочтения, чем все труды Колли Сиббера и многих других
Вскоре после того как коляска тронулась в путь, мистер Адамс заметил, что погода стоит прекрасная.
– Да,. и местность тоже прекрасная, – ответил Паунс.
– Я думал бы так же, – возразил Адамс, – не приведись мне недавно в моем путешествии пересечь холмы, где виды, по-моему, превосходят красотою и этот и всякий другой на свете.
– Да,. и местность тоже прекрасная, – ответил Паунс.
– Я думал бы так же, – возразил Адамс, – не приведись мне недавно в моем путешествии пересечь холмы, где виды, по-моему, превосходят красотою и этот и всякий другой на свете.
