«В настоящую минуту, — писал другой английский корреспондент, — дождь идет как из ведра, небо черно как чернила, ветер воет над колеблющимися палатками, траншеи превратились в каналы, в палатках вода иногда стоит на целый фут, у наших солдат нет ни теплой, ни непромокаемой одежды, они проводят по двенадцати часов в траншеях, подвержены всем бедствиям зимней кампании; между тем нет, кажется, ни души, которая позаботилась бы об их удобствах, или даже о сохранении их жизни. Самый жалкий нищий, бродящий по лондонским улицам, ведет роскошную жизнь в сравнении с британскими солдатами, которые жертвуют здесь своею жизнью».
По словам историка «Севастопольской обороны», «с каждым днем лагерь союзников все более и более погружался в грязь; палатки не держались против ветра и дождей. Каждый помышлял о том, как бы выстроить себе пристанище и устроиться в нем удобнее. Но это удалось весьма немногим; большинство же вставало и ложилось посреди грязи, ила и сора и часто не просыпалось, потому что сырость и холод были нестерпимы».
Не имея теплой одежды и порядочного жилья, союзники к тому же терпели недостаток в пище и топливе. В течение многих дней они довольствовались корабельными сухарями, очень дурною водою и сушеным мясом, но последним в весьма малом количестве. «Исхудалые лица, небритые бороды, всевозможные и всецветные одежды, покрытые недельною грязью, ежедневно возобновляемою, — таков наш вид, столь же жалкий, как и новый», — писал один французский офицер.
Французы не имели топлива и для согревания употребляли все, что только способно было гореть; корни деревьев, не исключая винограда, и все остатки исчезнувшей растительности шли на дрова, если только попадались под руку.
Снег для союзников был настоящим бедствием.
О бедственном положении союзников сообщали и перебежчики, но — главное — корреспонденты, бывшие при неприятельских армиях, и газеты — особенно английские — не стеснялись знакомить публику с правдой, как она ни была ужасна.
И князь Меншиков знал все это. И в Петербурге благодаря газетам знали об армии союзников едва ли не более, чем о нашей.
Если Меншиков, потерявший сражение при Евпатории, показал в донесении к государю убитых триста человек, тогда как в действительности их было семьсот семьдесят, то не мудрено, что подчиненные относились к правде еще бесцеремонней, тем более что в те времена она далеко не была удобной.
Союзники благословляли бездействие нашей армии осенью и зимой, благодаря чему они могли дождаться подкреплений и весны.
— Наши главнокомандующие умны, — острили французы, — а русские еще умнее!
В Петербурге нетерпеливо ожидали известий о наступлении.
— Доложите князю Горчакову, — говорил князь Меншиков, отправляя в южную армию Столыпина, — что я не решаюсь атаковать неприятеля с нашею пехотою, которая получает в год только по два боевых патрона, и с кавалерией, которая после сражения при Полтаве [56] не сделала ни одной порядочной атаки.
Севастопольцы, не понимавшие поведения нашего главнокомандующего в эти два месяца, едко подсмеивались над ним и его штабом:
— Два месяца почти совершенное бездействие. По три раза в день набожно смотрят на термометр и молятся норд-осту!
Матросы, ожидая смерти на своих бастионах, повторяли «выдумку» одного товарища:
— Хотел, братцы мои, господь наказать за наши беззакония чумой. Однако показалось мало. Дай я вместо чумы накажу Севастополь Менщиком.
В это время Меншиков всякий намек на возможность атаки считал личным оскорблением и жаловался, что фельдмаршал Паскевич [57] чернит его в глазах государя.
По словам историка «Севастопольской обороны», «с каждым днем лагерь союзников все более и более погружался в грязь; палатки не держались против ветра и дождей. Каждый помышлял о том, как бы выстроить себе пристанище и устроиться в нем удобнее. Но это удалось весьма немногим; большинство же вставало и ложилось посреди грязи, ила и сора и часто не просыпалось, потому что сырость и холод были нестерпимы».
Не имея теплой одежды и порядочного жилья, союзники к тому же терпели недостаток в пище и топливе. В течение многих дней они довольствовались корабельными сухарями, очень дурною водою и сушеным мясом, но последним в весьма малом количестве. «Исхудалые лица, небритые бороды, всевозможные и всецветные одежды, покрытые недельною грязью, ежедневно возобновляемою, — таков наш вид, столь же жалкий, как и новый», — писал один французский офицер.
Французы не имели топлива и для согревания употребляли все, что только способно было гореть; корни деревьев, не исключая винограда, и все остатки исчезнувшей растительности шли на дрова, если только попадались под руку.
Снег для союзников был настоящим бедствием.
О бедственном положении союзников сообщали и перебежчики, но — главное — корреспонденты, бывшие при неприятельских армиях, и газеты — особенно английские — не стеснялись знакомить публику с правдой, как она ни была ужасна.
И князь Меншиков знал все это. И в Петербурге благодаря газетам знали об армии союзников едва ли не более, чем о нашей.
Если Меншиков, потерявший сражение при Евпатории, показал в донесении к государю убитых триста человек, тогда как в действительности их было семьсот семьдесят, то не мудрено, что подчиненные относились к правде еще бесцеремонней, тем более что в те времена она далеко не была удобной.
Союзники благословляли бездействие нашей армии осенью и зимой, благодаря чему они могли дождаться подкреплений и весны.
— Наши главнокомандующие умны, — острили французы, — а русские еще умнее!
В Петербурге нетерпеливо ожидали известий о наступлении.
— Доложите князю Горчакову, — говорил князь Меншиков, отправляя в южную армию Столыпина, — что я не решаюсь атаковать неприятеля с нашею пехотою, которая получает в год только по два боевых патрона, и с кавалерией, которая после сражения при Полтаве [56] не сделала ни одной порядочной атаки.
Севастопольцы, не понимавшие поведения нашего главнокомандующего в эти два месяца, едко подсмеивались над ним и его штабом:
— Два месяца почти совершенное бездействие. По три раза в день набожно смотрят на термометр и молятся норд-осту!
Матросы, ожидая смерти на своих бастионах, повторяли «выдумку» одного товарища:
— Хотел, братцы мои, господь наказать за наши беззакония чумой. Однако показалось мало. Дай я вместо чумы накажу Севастополь Менщиком.
В это время Меншиков всякий намек на возможность атаки считал личным оскорблением и жаловался, что фельдмаршал Паскевич [57] чернит его в глазах государя.
ГЛАВА XII
I
В одно ноябрьское воскресенье погода была отчаянная.
Норд-ост дышал ледяным дыханием и крепчал. К концу дня он ревел.
Ревела и бухта.
Волны поднимались в каком-то бешенстве и яростно разбивались одна о другую. Седые гребни рассыпались алмазной пылью. Ее подхватывал ветер, и бушующая бухта была подернута точно мглой.
Нечего и говорить, что ялики не могли ходить. Яличники вытащили свои шлюпки на берег и разошлись по домам.
Бугай и Маркушка, оба в полушубках, с обмотанными шарфами шеями, все-таки очень зазябли на ледяном ветре. Особенно холодно было ногам. Они быстро направились домой и скоро вошли в свою маленькую комнату в домишке близ рынка, против Артиллерийской бухты. Домишко этот принадлежал солдатке Бондаренко, жене крепостного артиллериста, служившего на одном из приморских фортов.
В комнате было тепло. Солдатка догадалась вытопить печь. Сожители обогревались, испытывая физическое удовольствие тепла.
— Славно! — воскликнул Маркушка.
— То-то, брат, тепло!
«А на баксионах не тепло!» — подумал Бугай, но промолчал.
Скоро крепкая, приземистая чернявая солдатка, которую Бугай называл «Ивановной», принесла разогретый борщ и кусок баранины и, между прочим, рассказала, что утром совсем близко залетела шальная бомба и убила двух мальчиков.
Бугай выпил сегодня за ужином более своих обычных двух стаканчиков водки.
— Праздник и видишь, Маркушка, какая собака — погода! Так чтоб ног не ломило! — проговорил Бугай, словно бы считая нужным объяснить Маркушке свои соображения, заставившие его выпить полштоф. Поднес он два раза по стаканчику Ивановне.
— С праздником, Ивановна! И будьте здоровы! А борщ и барашек у вас, Ивановна, форменные. Настоящий хохлацкий борщ!
— На то я и хохлушка. С праздником!
После ужина напились чаю и зажгли сальную свечку.
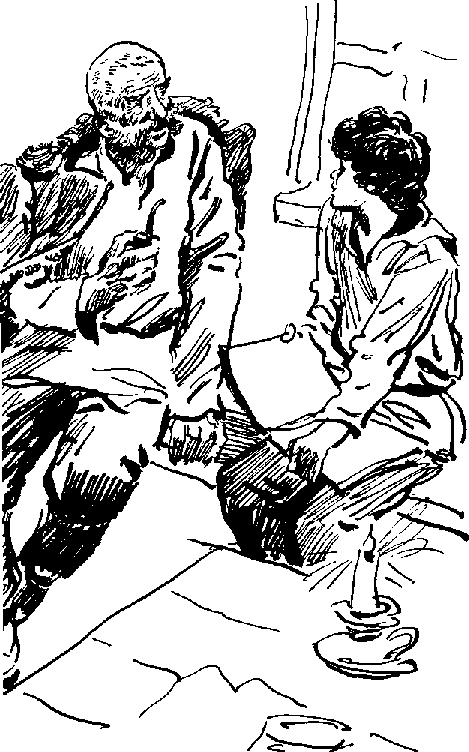
Тогда Маркушка достал из-за пазухи свою довольно захватанную и грязную книжку, подсел к Бугаю и значительно произнес:
— Хотите послушать книжку, дяденька?
— Опять заскулишь рцы, мрцы… бра-вра? — промолвил старик, усмехаясь.
— Я по-настоящему, дяденька…
— Что ж… Попытай! — недоверчиво сказал Бугай.
Затягивая слоги и повторяя слова с серьезным видом напряженного и нахмуренного лица, словно бы одолевавшего необыкновенно трудные препятствия, читая по-книжному и несколько монотонно-торжественно, не меняя интонации, Маркушка читал крошечный рассказик о великодушном льве.
Бугай, казалось, не верил ушам.
Он пришел в восторженное изумление. Несомненно, Маркушка читал по книжке про льва. Маркушка являлся в глазах Бугая более необыкновенным мальчиком, чем лев, про которого так же напряженно слушал, как напряженно Маркушка читал.
Когда Маркушка наконец кончил и поднял глаза на старика, ожидая его приговора, Бугай глядел на мальчика точно на героя, свершившего нечто необыкновенное.
Словно бы еще не освободившийся от чар Маркушки и, пожалуй, отчасти и от чар полштофа, почти умиленный, Бугай в первую минуту, казалось, не находил слов.
И наконец воскликнул:
— Ну и башка. До чего дошел!
— И все можно понять, дяденька? — необыкновенно довольный, спросил Маркушка.
— Чего еще лучше?.. Слушать лестно.
— Так я, дяденька, непременно буду вам читать в книжку…
— Спасибо, мой умник… Но только не тяжело ли читать по книжке? Может, ушам больно или брюхо, что ли, болит? — участливо осведомился Бугай, заметивший, какие гримасы выделывал Маркушка при чтении.
Маркушка рассмеялся. Он сказал, что ничего не болит и будет читать дяденьке.
Бугай уж не сомневался, что такому башковатому мальчику предстоит большая перемена жизни. Только выучится еще писать да пойдет в обучение — так покажет!.. Хоть в генералы выйдет, ежели захочет по военной части.
Но пока Бугаю хотелось угостить будущего генерала «детским припасом», как называл старик все сладкое, и выпить еще стаканчик-другой по тому случаю, что Маркушка сам выучился понимать по книжке.
И Бугай надел полушубок и исчез.
Минут через десять он уже выложил перед Маркушкой горку миндальных пряников, а перед собой поставил полштоф водки и две рюмки, было убранные.
В ту же минуту вошла и Ивановна. Бугай ей поднес и спросил:
— Скажи, Ивановна, видала ты такого башковатого мальчишку, как Маркушка?..
Ивановна охотно ответила, что не видала.
И Бугай поднес ей другой стаканчик.
Скоро Маркушка прикончил пряники. И он и Бугай, оба довольные друг другом, нашли, что пора спать.
Прошла неделя, и сестра милосердия зашла проведать Маркушку.
Бугай тотчас же рассказал, что нынче Маркушка обученный и читает ему по книжке.
— Ну-ка, прочти милосердной.
Маркушка прочел. Сестра Ольга похвалила мальчика и обещала дать ему новую книжку, прописи и бумаги.
«Решительно, надо заняться Маркушей!» — думала она, взглядывая на мальчика, и, разумеется, и не думала, что скоро уж ей не придется никем и ничем заниматься.
Она видимо худела и покашливала. Заметили это Бугай и Маркушка, и оба советовали ей передохнуть.
— В свое место поехали бы, милосердная! — сказал Бугай.
— Где ваше место? — спросил Маркушка.
— Далеко, милый!.. И я никуда не поеду отсюда! — спокойно, решительно ответила она.
И прибавила:
— А разве, Маркуша, тебе кажется, что я так больна?
— Дюже похудали, милая барыня… Вроде как покойная мамка, когда хворь на нее напала.
— Я не больная… Я поправлюсь! — промолвила сестра и улыбнулась.
Но в этой ласковой улыбке было что-то бесконечно тоскливое.
Норд-ост дышал ледяным дыханием и крепчал. К концу дня он ревел.
Ревела и бухта.
Волны поднимались в каком-то бешенстве и яростно разбивались одна о другую. Седые гребни рассыпались алмазной пылью. Ее подхватывал ветер, и бушующая бухта была подернута точно мглой.
Нечего и говорить, что ялики не могли ходить. Яличники вытащили свои шлюпки на берег и разошлись по домам.
Бугай и Маркушка, оба в полушубках, с обмотанными шарфами шеями, все-таки очень зазябли на ледяном ветре. Особенно холодно было ногам. Они быстро направились домой и скоро вошли в свою маленькую комнату в домишке близ рынка, против Артиллерийской бухты. Домишко этот принадлежал солдатке Бондаренко, жене крепостного артиллериста, служившего на одном из приморских фортов.
В комнате было тепло. Солдатка догадалась вытопить печь. Сожители обогревались, испытывая физическое удовольствие тепла.
— Славно! — воскликнул Маркушка.
— То-то, брат, тепло!
«А на баксионах не тепло!» — подумал Бугай, но промолчал.
Скоро крепкая, приземистая чернявая солдатка, которую Бугай называл «Ивановной», принесла разогретый борщ и кусок баранины и, между прочим, рассказала, что утром совсем близко залетела шальная бомба и убила двух мальчиков.
Бугай выпил сегодня за ужином более своих обычных двух стаканчиков водки.
— Праздник и видишь, Маркушка, какая собака — погода! Так чтоб ног не ломило! — проговорил Бугай, словно бы считая нужным объяснить Маркушке свои соображения, заставившие его выпить полштоф. Поднес он два раза по стаканчику Ивановне.
— С праздником, Ивановна! И будьте здоровы! А борщ и барашек у вас, Ивановна, форменные. Настоящий хохлацкий борщ!
— На то я и хохлушка. С праздником!
После ужина напились чаю и зажгли сальную свечку.
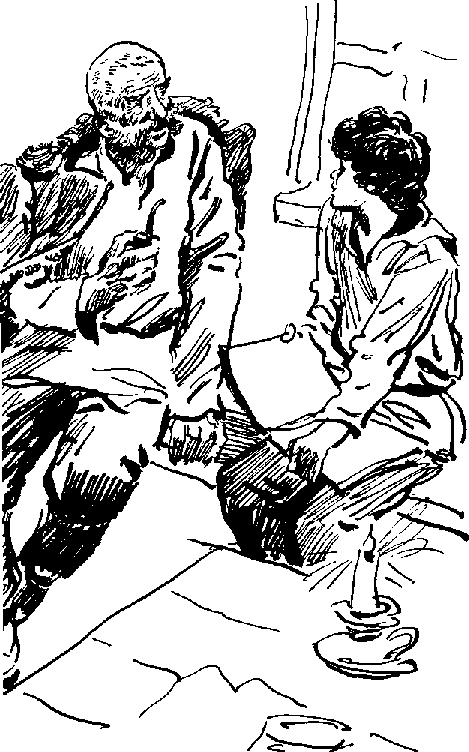
Тогда Маркушка достал из-за пазухи свою довольно захватанную и грязную книжку, подсел к Бугаю и значительно произнес:
— Хотите послушать книжку, дяденька?
— Опять заскулишь рцы, мрцы… бра-вра? — промолвил старик, усмехаясь.
— Я по-настоящему, дяденька…
— Что ж… Попытай! — недоверчиво сказал Бугай.
Затягивая слоги и повторяя слова с серьезным видом напряженного и нахмуренного лица, словно бы одолевавшего необыкновенно трудные препятствия, читая по-книжному и несколько монотонно-торжественно, не меняя интонации, Маркушка читал крошечный рассказик о великодушном льве.
Бугай, казалось, не верил ушам.
Он пришел в восторженное изумление. Несомненно, Маркушка читал по книжке про льва. Маркушка являлся в глазах Бугая более необыкновенным мальчиком, чем лев, про которого так же напряженно слушал, как напряженно Маркушка читал.
Когда Маркушка наконец кончил и поднял глаза на старика, ожидая его приговора, Бугай глядел на мальчика точно на героя, свершившего нечто необыкновенное.
Словно бы еще не освободившийся от чар Маркушки и, пожалуй, отчасти и от чар полштофа, почти умиленный, Бугай в первую минуту, казалось, не находил слов.
И наконец воскликнул:
— Ну и башка. До чего дошел!
— И все можно понять, дяденька? — необыкновенно довольный, спросил Маркушка.
— Чего еще лучше?.. Слушать лестно.
— Так я, дяденька, непременно буду вам читать в книжку…
— Спасибо, мой умник… Но только не тяжело ли читать по книжке? Может, ушам больно или брюхо, что ли, болит? — участливо осведомился Бугай, заметивший, какие гримасы выделывал Маркушка при чтении.
Маркушка рассмеялся. Он сказал, что ничего не болит и будет читать дяденьке.
Бугай уж не сомневался, что такому башковатому мальчику предстоит большая перемена жизни. Только выучится еще писать да пойдет в обучение — так покажет!.. Хоть в генералы выйдет, ежели захочет по военной части.
Но пока Бугаю хотелось угостить будущего генерала «детским припасом», как называл старик все сладкое, и выпить еще стаканчик-другой по тому случаю, что Маркушка сам выучился понимать по книжке.
И Бугай надел полушубок и исчез.
Минут через десять он уже выложил перед Маркушкой горку миндальных пряников, а перед собой поставил полштоф водки и две рюмки, было убранные.
В ту же минуту вошла и Ивановна. Бугай ей поднес и спросил:
— Скажи, Ивановна, видала ты такого башковатого мальчишку, как Маркушка?..
Ивановна охотно ответила, что не видала.
И Бугай поднес ей другой стаканчик.
Скоро Маркушка прикончил пряники. И он и Бугай, оба довольные друг другом, нашли, что пора спать.
Прошла неделя, и сестра милосердия зашла проведать Маркушку.
Бугай тотчас же рассказал, что нынче Маркушка обученный и читает ему по книжке.
— Ну-ка, прочти милосердной.
Маркушка прочел. Сестра Ольга похвалила мальчика и обещала дать ему новую книжку, прописи и бумаги.
«Решительно, надо заняться Маркушей!» — думала она, взглядывая на мальчика, и, разумеется, и не думала, что скоро уж ей не придется никем и ничем заниматься.
Она видимо худела и покашливала. Заметили это Бугай и Маркушка, и оба советовали ей передохнуть.
— В свое место поехали бы, милосердная! — сказал Бугай.
— Где ваше место? — спросил Маркушка.
— Далеко, милый!.. И я никуда не поеду отсюда! — спокойно, решительно ответила она.
И прибавила:
— А разве, Маркуша, тебе кажется, что я так больна?
— Дюже похудали, милая барыня… Вроде как покойная мамка, когда хворь на нее напала.
— Я не больная… Я поправлюсь! — промолвила сестра и улыбнулась.
Но в этой ласковой улыбке было что-то бесконечно тоскливое.
II
Князь Меншиков болел. Испытывавший и нравственные и физические страдания, он большую часть времени лежал в постели, не мог заниматься делами и никого не принимал к себе.
Армия была без главнокомандующего.
Наконец в феврале Меншиков просил о немедленном увольнении его.
Не выждавши нового, он сдал в один день командование начальнику севастопольского гарнизона генералу барону Сакену [58] и уехал в Симферополь брать ванны.
Просьба Меншикова уже была предупреждена.
До получения ее император Николай, уже больной, за два дня до своей смерти, велел наследнику Александру Николаевичу написать своему любимцу об увольнении, ссылаясь на болезнь главнокомандующего, о которой он не раз доводил до сведения государя через разных лиц, приезжавших с донесениями князя.
Никакая награда не сопровождала любезного по форме рескрипта [59].
Одновременно по приказанию государя наследник написал князю М.Д.Горчакову о назначении его главнокомандующим крымской армии.
Армия была без главнокомандующего.
Наконец в феврале Меншиков просил о немедленном увольнении его.
Не выждавши нового, он сдал в один день командование начальнику севастопольского гарнизона генералу барону Сакену [58] и уехал в Симферополь брать ванны.
Просьба Меншикова уже была предупреждена.
До получения ее император Николай, уже больной, за два дня до своей смерти, велел наследнику Александру Николаевичу написать своему любимцу об увольнении, ссылаясь на болезнь главнокомандующего, о которой он не раз доводил до сведения государя через разных лиц, приезжавших с донесениями князя.
Никакая награда не сопровождала любезного по форме рескрипта [59].
Одновременно по приказанию государя наследник написал князю М.Д.Горчакову о назначении его главнокомандующим крымской армии.
III
В первое время многие обрадовались новому главнокомандующему.
«Он привел с собой свежие войска, — писал один из участников войны, — обширную власть и неограниченные средства, а главное — поднял нравственный дух войск. Все надеялись, что он начнет смелые наступательные действия и сделает блистательный переворот кампании».
Ввел в такое заблуждение главнокомандующий.
Сам по характеру далеко не решительный, писавший военному министру, что край истощен и что продовольствие, одежда, госпитали и пути сообщения невозможны, князь Горчаков еще с самого приезда не верил в возможность успеха.
Но в приказе по армии, между прочим, писал:
«Самое трудное для вас время миновалось: пути восстановляются, подвозы всякого рода запасов идут безостановочно, и сильные подкрепления, к вам на помощь направленные, сближаются».
И приказ оканчивался упованием главнокомандующего на то, что «вскоре, с божией помощью, конечный успех увенчает наши усилия и что мы оправдаем ожидания нашего государя и России».
Прошел месяц, и радость так же скоро исчезла, как и явилась.
Подходили постепенно и подкрепления, но ежедневная потеря людей на бастионах была так велика, что надо было пополнять гарнизон. Горчаков просил больших подкреплений, но вначале получить их не мог. А неприятель усиливался. После взятия наших передовых редутов, обращенных неприятелем в свои, — бомбардировки наносили сильный вред бастионам, убивали массу защитников и уже обращали Севастополь в развалины.
Горчаков не раз подумывал оставить Севастополь, но не решался на этот поступок без разрешения, тем более что и по военным законам можно оставить крепость только по отбитии трех штурмов.
Император Александр Николаевич разрешил только в крайнем случае заключить капитуляцию, но ни в каком случае не соглашаться на сдачу гарнизона.
«Эта мера крайняя и которую я бы желал избегнуть», — прибавлял в рескрипте государь.
И Горчаков снова колебался.
— Видали вы подлость? — спросил однажды Нахимов у одного сослуживца.
Тот не понимал, о какой подлости говорил Нахимов.
— Видали ли вы подлость? Разве не видели, что готовят мост через бухту?
Нахимов не мог допустить мысли об оставлении Севастополя. Он не сомневался, что надо только умереть, защищая его.
Князь Горчаков, совершенно справедливо считавший свое положение отчаянным, тем не менее откладывал свою мысль оставить город, отбивавшийся уже девять месяцев. Он понимал, каким нареканиям подвергнется его репутация, если он оставит Севастополь, не отбив хотя одного штурма. Но в то же время сознавал, что, упорствуя в дальнейшей защите города, все равно обреченного, он потеряет и армию. Только «мир, чума или холера могут мне помочь», — писал он военному министру.
Но несколько позже, когда приближались подкрепления, князь Горчаков говорил [60]:
Но вскоре успех обнадежил защитников.
Первый штурм был отбит.
В числе защитников на четвертом бастионе был и Маркушка.
Зимой и весной он и не думал быть там. По-прежнему он был неразлучен со своим другом, пестуном и поклонником, вместе перевозил пассажиров, беседовал о войне, о новом главнокомандующем (и Бугай и Маркушка находили, что он в очках не имеет «надежного вида» и похож на филина), вместе коротали вечера в новой квартире на Северной стороне, после того как домишко солдатки был разрушен бомбой. И Маркушка читал Бугаю книжки и однажды даже поднес ему письмо.
Бугай не знал, что оно было написано довольно смелыми каракулями и со смелой орфографией, но рассматривал его с необыкновенным почтением и предрекал Маркушке «вытти в генералы». И совсем умилился, когда Маркушка прочитал ему:
Там Маркушка увидал убитого Бугая и узнал, что «добрая барыня» на днях умерла.
Маркушка остался совсем одиноким.
«Он привел с собой свежие войска, — писал один из участников войны, — обширную власть и неограниченные средства, а главное — поднял нравственный дух войск. Все надеялись, что он начнет смелые наступательные действия и сделает блистательный переворот кампании».
Ввел в такое заблуждение главнокомандующий.
Сам по характеру далеко не решительный, писавший военному министру, что край истощен и что продовольствие, одежда, госпитали и пути сообщения невозможны, князь Горчаков еще с самого приезда не верил в возможность успеха.
Но в приказе по армии, между прочим, писал:
«Самое трудное для вас время миновалось: пути восстановляются, подвозы всякого рода запасов идут безостановочно, и сильные подкрепления, к вам на помощь направленные, сближаются».
И приказ оканчивался упованием главнокомандующего на то, что «вскоре, с божией помощью, конечный успех увенчает наши усилия и что мы оправдаем ожидания нашего государя и России».
Прошел месяц, и радость так же скоро исчезла, как и явилась.
Подходили постепенно и подкрепления, но ежедневная потеря людей на бастионах была так велика, что надо было пополнять гарнизон. Горчаков просил больших подкреплений, но вначале получить их не мог. А неприятель усиливался. После взятия наших передовых редутов, обращенных неприятелем в свои, — бомбардировки наносили сильный вред бастионам, убивали массу защитников и уже обращали Севастополь в развалины.
Горчаков не раз подумывал оставить Севастополь, но не решался на этот поступок без разрешения, тем более что и по военным законам можно оставить крепость только по отбитии трех штурмов.
Император Александр Николаевич разрешил только в крайнем случае заключить капитуляцию, но ни в каком случае не соглашаться на сдачу гарнизона.
«Эта мера крайняя и которую я бы желал избегнуть», — прибавлял в рескрипте государь.
И Горчаков снова колебался.
— Видали вы подлость? — спросил однажды Нахимов у одного сослуживца.
Тот не понимал, о какой подлости говорил Нахимов.
— Видали ли вы подлость? Разве не видели, что готовят мост через бухту?
Нахимов не мог допустить мысли об оставлении Севастополя. Он не сомневался, что надо только умереть, защищая его.
Князь Горчаков, совершенно справедливо считавший свое положение отчаянным, тем не менее откладывал свою мысль оставить город, отбивавшийся уже девять месяцев. Он понимал, каким нареканиям подвергнется его репутация, если он оставит Севастополь, не отбив хотя одного штурма. Но в то же время сознавал, что, упорствуя в дальнейшей защите города, все равно обреченного, он потеряет и армию. Только «мир, чума или холера могут мне помочь», — писал он военному министру.
Но несколько позже, когда приближались подкрепления, князь Горчаков говорил [60]:
«Я все еще не могу решиться оставить Севастополь. При настоящем положении дел, мне кажется, следует попытать счастие в отбитии штурма. Но если неприятель, вместо того чтобы штурмовать, возобновит ужасное и продолжительное бомбардирование, я буду вынужден отдать ему город, ибо он истолчет, как в ступке, не только настоящий гарнизон, но и всю армию. Предыдущее бомбардирование доказывает это. Пополнив необходимые потери новыми полками, я кончу тем, что город возьмут приступом, и тогда мне не с чем будет держаться в поле».И Горчаков в своем донесении государю писал, что «не только нельзя надеяться на какой-либо успех, но даже можно опасаться больших неудач».
Но вскоре успех обнадежил защитников.
Первый штурм был отбит.
В числе защитников на четвертом бастионе был и Маркушка.
Зимой и весной он и не думал быть там. По-прежнему он был неразлучен со своим другом, пестуном и поклонником, вместе перевозил пассажиров, беседовал о войне, о новом главнокомандующем (и Бугай и Маркушка находили, что он в очках не имеет «надежного вида» и похож на филина), вместе коротали вечера в новой квартире на Северной стороне, после того как домишко солдатки был разрушен бомбой. И Маркушка читал Бугаю книжки и однажды даже поднес ему письмо.
Бугай не знал, что оно было написано довольно смелыми каракулями и со смелой орфографией, но рассматривал его с необыкновенным почтением и предрекал Маркушке «вытти в генералы». И совсем умилился, когда Маркушка прочитал ему:
«Дяденька Бугай. Я никогда не оставлю тебя!»Но на второй же день пасхи, когда началась одна из адских бомбардировок, Бугай оставил Маркушку навсегда, убитый осколком около госпиталя в морском клубе, куда ходил справиться о «милосердной».
Там Маркушка увидал убитого Бугая и узнал, что «добрая барыня» на днях умерла.
Маркушка остался совсем одиноким.
ГЛАВА XIII
I
В этот день обезумевший от горя Маркушка не отходил от покойного Бугая.
Маркушка заглядывал в строго-вдумчивое мертвое лицо друга и пестуна и о чем-то шептал, что-то обещал ему. Он то плакал, то ругал «француза» и грозил ему. И тогда заплаканные глаза мальчика зажигались огоньком.
Маркушка видел, как Бугая отнесли на баркас, полный другими мертвецами. Он тоже сел на баркас и смотрел, как Бугая вместе с многими убитыми зарыли в братской могиле на Северной стороне, после короткого отпевания старым батюшкой.
После этого Маркушка с озлобленным и вызывающим лицом мальчика, принявшего, казалось, какое-то важное решение, пошел быстрыми шагами к пристани.
Тем временем несколько яличников — большей частью отставные матросы-старики — в ожидании пассажиров решали судьбу Маркушки, которого все любили и жалели.
Решили, что надо приютить и не обижать мальчонку, чтобы ему было так же хорошо, как и у Бугая. Недаром же Маркушка был привержен, как собачонка… Решили, что надо присмотреть и за имуществом Бугая, оставленным Маркушке.
— А вот и Маркушка! — воскликнул кто-то.
Но прежде чем объявить ему о своем решении, яличники накормили Маркушку, и затем уже седой как лунь старик, в шлюпке которого Маркушка пообедал тем, что надавали ему яличники, сказал:
— Никто как бог, Маркушка. А ты при нас останешься. В рулевых останешься!
— Не бойсь, никто не обидит.
— Всякий яличник возьмет такого рулевого!
— Дяденька! — начал было Маркушка.
Но седой как лунь яличник строго остановил Маркушку:
— Сперва слухай, что люди говорят! На то ты вроде корабельного юнги! После обскажешь, Маркушка!
И с разных сторон говорили Маркушке:
— За тебя богу ответим, Маркушка! Потому вовсе ты сирота!
— Не пропьем! — засмеялся кто-то из «дяденек», особенно склонный к пропиванию вещей, когда не было денег.
— Ялик твой вроде в ренду сдадим, за правильную цену.
— Деньги твои сбережем.
— И Бугая вещи, которые тебе не нужны, продадим!
— А платье его носи на здоровье… Только укоротить маленько!
— А тебя, Маркушку, разыграем. Чтоб никому не было обидно!
— Набросаем в шапку по меченой уключине. Чью вытянешь — к тому и в подручные!
— Положим жалованье. Фатеру и харч… А водки не будет, Маркушка!
Когда все эти грубоватые и сочувственные слова смолкли, Маркушка взволнованно проговорил:
— Спасибо, добрые дяденьки!.. Но только не останусь в рулевых!
Слова Маркушки удивили старых яличников.
Несколько секунд длилось молчание.
И наконец раздались голоса:
— Уйдешь, значит, из Севастополя, Маркушка?
— Это ты надумал с рассудком, Маркушка!.. Недолга — здесь и убьют мальчонку!
Все обещали обрядить Маркушку как следует.
Ялик его продадут, и будет сирота с карбованцами. Карбованцы обменяют на бумажки, зашьют в тряпицу и повесят на грудь, а на руки на рубль мелких денег дадут. И парусинную котомку справят. И сапоги купят.
— Одним словом, хоть до самого Петербурга иди, Маркушка!
Однако все советовали так далеко не ходить, чтоб быть ближе к Севастополю.
И многие посылали в Симферополь, Перекоп и Бериславль. У одного жил брат при месте; у другого сестра замужем за лавочником; у третьего внук в кучерах. Все охотно помогут такому башковатому мальчонке поступить на место.
Не желая обижать «дедушку» — того самого старика, который уж раз остановил Маркушку, — мальчик нетерпеливо слушал и, когда яличники замолчали, обиженно и негодующе воскликнул:
— Из Севастополя не уйду…
Все посмотрели на Маркушку.
— Куда ж ты денешься, Маркушка? — спросил «дедушка».
— На баксион пойду!
— Убьют там тебя, чертенка!
— И пусть! Зато и я француза убью…
— Пальцем, что ли?
— Не бойсь, найду чем…
Напрасно яличники и отсоветовали и подсмеивались над Маркушкой.
Он решительно сказал, что пойдет на «баксион».
— Так и пустят мальчонку на расстрел!
— Пустят! Один мальчик из мортирки на баксионе во французов палит. И есть мальчики, которые защищают Севастополь! [61] Я за тятьку и дяденьку Бугая, может, десять французов убью! — прибавил возбужденно Маркушка, сверкая глазами.
— Обезумел ты, Маркушка! — протянул «дедушка». — Если, бог даст, жив сегодня останешься и одумаешься на баксионе, — вечером же вали ко мне, Маркушка! Я на Николаевской батарее.
Маркушка молчал.
Он не сомневался, что не придет к «дедушке».
Маркушка, еще не переживший остроты горя, не забыл, что обезумев при виде убитого Бугая, дал покойнику слово отомстить за него и за отца проклятому «французу», который убивает столько людей.
Подходили пассажиры. Несколько человек село в шлюпку «дедушки».
Маркушка по привычке сел на руль. «Дедушка» перекрестился, поплевал на мозолистые ладони и загреб.
День был прелестный. Тепло и мертвый штиль. Солнце не жарило. Стояла чудная крымская весна.
— Спаси тебя господь, отчаянного, — строго и вдумчиво протянул «дедушка», когда шлюпка пристала к Севастополю.
С этими словами яличник перекрестился и перекрестил Маркушку, словно бы благословлял этого отчаянного мальчика на глупый поступок, который все-таки тронул старика.
И, пожимая руку мальчика, прибавил:
— Мне вот пора умирать, а тебе, дураку, надо жить!.. Оставайся. Все равно скоро Севастополю конец!
Маркушка заглядывал в строго-вдумчивое мертвое лицо друга и пестуна и о чем-то шептал, что-то обещал ему. Он то плакал, то ругал «француза» и грозил ему. И тогда заплаканные глаза мальчика зажигались огоньком.
Маркушка видел, как Бугая отнесли на баркас, полный другими мертвецами. Он тоже сел на баркас и смотрел, как Бугая вместе с многими убитыми зарыли в братской могиле на Северной стороне, после короткого отпевания старым батюшкой.
После этого Маркушка с озлобленным и вызывающим лицом мальчика, принявшего, казалось, какое-то важное решение, пошел быстрыми шагами к пристани.
Тем временем несколько яличников — большей частью отставные матросы-старики — в ожидании пассажиров решали судьбу Маркушки, которого все любили и жалели.
Решили, что надо приютить и не обижать мальчонку, чтобы ему было так же хорошо, как и у Бугая. Недаром же Маркушка был привержен, как собачонка… Решили, что надо присмотреть и за имуществом Бугая, оставленным Маркушке.
— А вот и Маркушка! — воскликнул кто-то.
Но прежде чем объявить ему о своем решении, яличники накормили Маркушку, и затем уже седой как лунь старик, в шлюпке которого Маркушка пообедал тем, что надавали ему яличники, сказал:
— Никто как бог, Маркушка. А ты при нас останешься. В рулевых останешься!
— Не бойсь, никто не обидит.
— Всякий яличник возьмет такого рулевого!
— Дяденька! — начал было Маркушка.
Но седой как лунь яличник строго остановил Маркушку:
— Сперва слухай, что люди говорят! На то ты вроде корабельного юнги! После обскажешь, Маркушка!
И с разных сторон говорили Маркушке:
— За тебя богу ответим, Маркушка! Потому вовсе ты сирота!
— Не пропьем! — засмеялся кто-то из «дяденек», особенно склонный к пропиванию вещей, когда не было денег.
— Ялик твой вроде в ренду сдадим, за правильную цену.
— Деньги твои сбережем.
— И Бугая вещи, которые тебе не нужны, продадим!
— А платье его носи на здоровье… Только укоротить маленько!
— А тебя, Маркушку, разыграем. Чтоб никому не было обидно!
— Набросаем в шапку по меченой уключине. Чью вытянешь — к тому и в подручные!
— Положим жалованье. Фатеру и харч… А водки не будет, Маркушка!
Когда все эти грубоватые и сочувственные слова смолкли, Маркушка взволнованно проговорил:
— Спасибо, добрые дяденьки!.. Но только не останусь в рулевых!
Слова Маркушки удивили старых яличников.
Несколько секунд длилось молчание.
И наконец раздались голоса:
— Уйдешь, значит, из Севастополя, Маркушка?
— Это ты надумал с рассудком, Маркушка!.. Недолга — здесь и убьют мальчонку!
Все обещали обрядить Маркушку как следует.
Ялик его продадут, и будет сирота с карбованцами. Карбованцы обменяют на бумажки, зашьют в тряпицу и повесят на грудь, а на руки на рубль мелких денег дадут. И парусинную котомку справят. И сапоги купят.
— Одним словом, хоть до самого Петербурга иди, Маркушка!
Однако все советовали так далеко не ходить, чтоб быть ближе к Севастополю.
И многие посылали в Симферополь, Перекоп и Бериславль. У одного жил брат при месте; у другого сестра замужем за лавочником; у третьего внук в кучерах. Все охотно помогут такому башковатому мальчонке поступить на место.
Не желая обижать «дедушку» — того самого старика, который уж раз остановил Маркушку, — мальчик нетерпеливо слушал и, когда яличники замолчали, обиженно и негодующе воскликнул:
— Из Севастополя не уйду…
Все посмотрели на Маркушку.
— Куда ж ты денешься, Маркушка? — спросил «дедушка».
— На баксион пойду!
— Убьют там тебя, чертенка!
— И пусть! Зато и я француза убью…
— Пальцем, что ли?
— Не бойсь, найду чем…
Напрасно яличники и отсоветовали и подсмеивались над Маркушкой.
Он решительно сказал, что пойдет на «баксион».
— Так и пустят мальчонку на расстрел!
— Пустят! Один мальчик из мортирки на баксионе во французов палит. И есть мальчики, которые защищают Севастополь! [61] Я за тятьку и дяденьку Бугая, может, десять французов убью! — прибавил возбужденно Маркушка, сверкая глазами.
— Обезумел ты, Маркушка! — протянул «дедушка». — Если, бог даст, жив сегодня останешься и одумаешься на баксионе, — вечером же вали ко мне, Маркушка! Я на Николаевской батарее.
Маркушка молчал.
Он не сомневался, что не придет к «дедушке».
Маркушка, еще не переживший остроты горя, не забыл, что обезумев при виде убитого Бугая, дал покойнику слово отомстить за него и за отца проклятому «французу», который убивает столько людей.
Подходили пассажиры. Несколько человек село в шлюпку «дедушки».
Маркушка по привычке сел на руль. «Дедушка» перекрестился, поплевал на мозолистые ладони и загреб.
День был прелестный. Тепло и мертвый штиль. Солнце не жарило. Стояла чудная крымская весна.
— Спаси тебя господь, отчаянного, — строго и вдумчиво протянул «дедушка», когда шлюпка пристала к Севастополю.
С этими словами яличник перекрестился и перекрестил Маркушку, словно бы благословлял этого отчаянного мальчика на глупый поступок, который все-таки тронул старика.
И, пожимая руку мальчика, прибавил:
— Мне вот пора умирать, а тебе, дураку, надо жить!.. Оставайся. Все равно скоро Севастополю конец!
II
Маркушка побежал по улицам Севастополя, мимо домов, пронизанных ядрами, с заколоченными окнами. Чем дальше шел Маркушка, тем более было пустых, разрушенных домов и развалин.
Улицы были пусты. Только, прижимаясь к стенам, проходили солдаты. Часто встречались носилки с ранеными. Изредка пробирались бабы, направляясь на бастионы к мужьям. Палисадники зеленели, и акации расцветали. Природа радовалась, ликовала весна. Но люди были сосредоточенней и сердитей по мере приближения к оборонительной линии.
Вот и театр в развалинах и за ним прежний бульвар с свежей зеленью немногих оставшихся деревьев. Зеленели уцелевшие кустарники, поднималась роскошная трава.
Здесь же, как пчелки, повизгивали тысячи пуль и шлепались на землю. Свистели ядра и разрывались бомбы. Никого не было видно. Все, шедшие на бастионы, шли траншейками, вившимися зигзагами вокруг. Но Маркушка не знал или забыл их и летел как стрела прямиком по «Грибку», испуганный и в то же время обрадованный, что бежит на четвертый бастион и убьет француза.
Маркушка, казалось, и не понимал, какой опасности подвергался он, и в возбужденной голове его проносились мысли и о том, как он «победит» француза, и о том, что он совершит какой-нибудь подвиг и ему дадут георгиевский крест. И он вдруг замирал от страха и прилегал на землю, жмуря глаза и повторяя «Отче наш», единственную молитву, которую знал, когда бомба вертелась, шипя горевшей трубкой, почти рядом с ним.
И снова вскакивал, и летел, и, наконец, задыхавшийся прибежал на четвертый бастион.


Там стоял рев от выстрелов и все было застлано дымом. То и дело откатывались и заряжались орудия. На бастион сыпались ядра и пули. Молча стояли у орудий матросы. Раздавались стоны раненых. И их куда-то уносили.
Маркушка решительно не мог сообразить положения бастиона. Он только видел изрытую землю, осыпавшиеся брустверы и почерневших от дыма людей, наполнявших площадку за насыпью. Никто не обратил внимания на Маркушку.
В это самое время четвертый бастион с особенной силой отбивался от новой французской батареи, громившей бастион.
На людях Маркушка забыл страх. Он точно опьянел. Точно какая-то волна прилила к сердцу, и он бросился к сложенным пирамидкой ядрам и стал подавать их зарядчику. Вдруг около орудия упала бомба. Все прилегли. Маркушка внезапно вырвал горевшую трубку, бросил ее за банкет и подбежал к орудию, у которого подавал снаряды.
— Ай да мальчишка!
— Молодца!
— Ничего не боится…
— И вовсе маленький!
Эти восклицания матросов не заставили Маркушку возгордиться собой.
Он был слишком возбужден воинственным настроением, полным чего-то злого и жестокого, напоминающего зверька, озлобленного на охотника, и, разумеется, и не думал, что свершил подвиг, рискуя жизнью.
Свидетелем этого подвига был начальник бастиона, Николай Николаевич Бельцов, пожилой моряк в солдатской шинели с штаб-офицерскими погонами и с георгиевской ленточкой в петлице. Он всю осаду пробыл на бастионе, каким-то чудом еще уцелевший. На легкую рану в руку пулей навылет, полученную еще в начале осады, он не обращал внимания и после перевязки возвратился опять «домой», как называл он свой бастион.
Его заросшее темными волосами темное лицо, под нависшими бровями с темными глазами, казалось суровым. Несколько сутуловатый, он хладнокровно и спокойно взглядывал в подзорную трубу на неприятельские батареи и только нервно пожимал плечами, когда наши снаряды ложились неправильно, то есть не несли смерти неприятелю. И тогда он сам поверял наводку.
— Ты зачем здесь, мальчик? — окрикнул моряк.
Маркушка подумал, что этот суровый человек, с длинной бородой, сейчас же прогонит его с бастиона и Маркушке не придется пристрелить француза.
Улицы были пусты. Только, прижимаясь к стенам, проходили солдаты. Часто встречались носилки с ранеными. Изредка пробирались бабы, направляясь на бастионы к мужьям. Палисадники зеленели, и акации расцветали. Природа радовалась, ликовала весна. Но люди были сосредоточенней и сердитей по мере приближения к оборонительной линии.
Вот и театр в развалинах и за ним прежний бульвар с свежей зеленью немногих оставшихся деревьев. Зеленели уцелевшие кустарники, поднималась роскошная трава.
Здесь же, как пчелки, повизгивали тысячи пуль и шлепались на землю. Свистели ядра и разрывались бомбы. Никого не было видно. Все, шедшие на бастионы, шли траншейками, вившимися зигзагами вокруг. Но Маркушка не знал или забыл их и летел как стрела прямиком по «Грибку», испуганный и в то же время обрадованный, что бежит на четвертый бастион и убьет француза.
Маркушка, казалось, и не понимал, какой опасности подвергался он, и в возбужденной голове его проносились мысли и о том, как он «победит» француза, и о том, что он совершит какой-нибудь подвиг и ему дадут георгиевский крест. И он вдруг замирал от страха и прилегал на землю, жмуря глаза и повторяя «Отче наш», единственную молитву, которую знал, когда бомба вертелась, шипя горевшей трубкой, почти рядом с ним.
И снова вскакивал, и летел, и, наконец, задыхавшийся прибежал на четвертый бастион.


Там стоял рев от выстрелов и все было застлано дымом. То и дело откатывались и заряжались орудия. На бастион сыпались ядра и пули. Молча стояли у орудий матросы. Раздавались стоны раненых. И их куда-то уносили.
Маркушка решительно не мог сообразить положения бастиона. Он только видел изрытую землю, осыпавшиеся брустверы и почерневших от дыма людей, наполнявших площадку за насыпью. Никто не обратил внимания на Маркушку.
В это самое время четвертый бастион с особенной силой отбивался от новой французской батареи, громившей бастион.
На людях Маркушка забыл страх. Он точно опьянел. Точно какая-то волна прилила к сердцу, и он бросился к сложенным пирамидкой ядрам и стал подавать их зарядчику. Вдруг около орудия упала бомба. Все прилегли. Маркушка внезапно вырвал горевшую трубку, бросил ее за банкет и подбежал к орудию, у которого подавал снаряды.
— Ай да мальчишка!
— Молодца!
— Ничего не боится…
— И вовсе маленький!
Эти восклицания матросов не заставили Маркушку возгордиться собой.
Он был слишком возбужден воинственным настроением, полным чего-то злого и жестокого, напоминающего зверька, озлобленного на охотника, и, разумеется, и не думал, что свершил подвиг, рискуя жизнью.
Свидетелем этого подвига был начальник бастиона, Николай Николаевич Бельцов, пожилой моряк в солдатской шинели с штаб-офицерскими погонами и с георгиевской ленточкой в петлице. Он всю осаду пробыл на бастионе, каким-то чудом еще уцелевший. На легкую рану в руку пулей навылет, полученную еще в начале осады, он не обращал внимания и после перевязки возвратился опять «домой», как называл он свой бастион.
Его заросшее темными волосами темное лицо, под нависшими бровями с темными глазами, казалось суровым. Несколько сутуловатый, он хладнокровно и спокойно взглядывал в подзорную трубу на неприятельские батареи и только нервно пожимал плечами, когда наши снаряды ложились неправильно, то есть не несли смерти неприятелю. И тогда он сам поверял наводку.
— Ты зачем здесь, мальчик? — окрикнул моряк.
Маркушка подумал, что этот суровый человек, с длинной бородой, сейчас же прогонит его с бастиона и Маркушке не придется пристрелить француза.
