Страница:
– Тогда, как я говорю, за работу! Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега.
– Который Завета? Или…
– Другой.
– А он здесь при чём?
– Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать классификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При этом птичьи термины не должны походить на рыбьи.
– Замысел представляется мне… э… дерзким.
– Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Мое – наше – дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери – так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый – двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые континентальные учёные, склонные к афеизму, способны злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в Книге Бытия, якобы не могли произойти.
– Рискну даже предположить, что некие иезуиты направят их против вас – как свидетельство ваших будто бы афеистических воззрений, доктор Уилкинс.
– Истинная правда, Даниель! Посему совершенно необходимо приложить, отдельной главою, полный план Ноева Ковчега и показать не только, где размещалось каждое животное, но и где хранился фураж для травоядных, где стоял скот для хищников и где хранился фураж, которым кормили жвачных, пока их не съедят хищники.
– Еще нужна была пресная вода, – задумчиво произнёс Даниель.
Уилкинс, который имел обыкновение, говоря, наступать на собеседника, покуда тот не начинал пятиться, схватил кипу бумаг и огрел Даниеля по голове.
– Читайте Библию, неуч! Дождь шёл без остановки!
– Конечно, конечно, они могли пить дождевую воду, – проговорил совершенно раздавленный Даниель.
– Мне пришлось несколько вольно обойтись с мерой «локоть», – заговорщицки поведал Уилкинс, – но я думаю, Ною должно было хватить восьмисот двадцати пяти овец. Я имею в виду, чтобы кормить хищников.
– Овцы занимали целую палубу?!
– Дело не в пространстве, которое они занимали, а в навозе, который надо было выгребать за борт – представьте, какая это работа!… Так или иначе, вы понимаете, что история с Ковчегом надолго застопорила создание философского языка. А вас я попрошу перейти к оскорбительным выражениям.
– Сэр!
– Не задевает ли вас, Даниель, когда ваш брат-лондонец бросается такими словами, как «гнусный подлец», «жалкое ничтожество», «хитрый пройдоха», «праздный бездельник» или «льстивый угодник»?
– Смотря кто кого так обозвал…
– Попробую проще: «развратная шлюха».
– Это тавтология и потому оскорбляет просвещённый слух.
– «Безмозглый фат».
– Тоже тавтология, как «льстивый угодник» и всё прочее.
– Итак, очевидно, что в философском языке не потребуются отдельные имена прилагательные и существительные для подобных понятий.
– Как вам «грязный неряха»?
– Превосходно! Запишите это, Даниель!
– «Беспутный повеса», «язвительный зубоскал», «вероломный предатель»… – Покуда Даниель продолжал в том же духе, Уилкинс подскочил к конторке, вынул из чернильницы перо, стряхнул избыток чернил и, вложив перо в руку Даниеля, подвёл того к чистому листу.
Итак, за работу. В несколько коротких часов Даниель исчерпал оскорбительные выражения и перешёл к добродетелям (умственным, естественным и христианским), цветам, звукам, вкусам и запахам, занятиям (например, плотничеству, шитью, алхимии) и так далее. Дни проходили за днями. Уилкинсу надоедало, когда Даниель (или кто-то ещё) слишком много работает, поэтому они часто устраивали «семинары» и «симпозиумы» на кухне – варили флип из мёда, которым учёных исправно снабжал готический апиарий Рена. Чарльз Комсток, пятнадцатилетний сын их высокородного хозяина, заходил послушать Уилкинса и Гука. Как правило, он приносил с собой письма Королевскому обществу от Гюйгенса, Левенгука, Сваммердама, Спинозы. Нередко в письмах содержались новые понятия, и Даниелю приходилось втискивать их в таблицы философского языка.
Даниель прилежно составлял перечень предметов, которыми человек может владеть (акведуки, дворцы, тележные оси, дверные петли и так далее), когда Уилкинс срочно позвал его вниз. Юноша спустился на первый этаж и увидел, что преподобный держит в руках внушительного вида письмо, а Чарльз Комсток расчищает стол: скатывает в рулоны чертежи Ковчега и расписания кормлений для восьмисот двадцати пяти овец, освобождая место для более важных занятий. Карл II, милостью Божьей король Англии, прислал им письмо. Его величество заметил, что муравьиные яйца больше самих муравьев, и любопытствовал, как такое возможно.
Даниель сбегал и разорил муравейник. Он вернулся, победно неся на лопате сердцевину муравьиной кучи. В гостиной Уилкинс диктовал, а Чарльз Комсток записывал письмо королю – не содержательную часть (ответа они пока не знали), а долгие вступительные абзацы обильной лести. «Сияние Вашего ума озаряет чертоги, дотоле… э… прозябавшие в… э…»
– Звучит скорее как намек на Короля-Солнце, – предупредил Чарльз.
– Так вымарывай! Умён, хвалю. Теперь читай ещё раз, что получилось.
Даниель замер перед лабораторией Гука, собираясь с духом, чтобы постучать. Однако Гук уже услышал шаги и сам распахнул дверь. Он поманил Даниеля внутрь и указал на заляпанный стол, расчищенный для работы. Юноша вошёл, сгрузил муравьиную кучу, поставил лопату и лишь затем отважился вдохнуть. В лаборатории пахло совсем не так дурно, как он опасался.
Гук двумя руками убрал волосы с лица и стянул на затылке бечёвкой. Даниель не переставал удивляться, что тот лишь на десять лет его старше. Гуку стукнуло тридцать несколько недель назад, в июне, примерно тогда же, когда Исаак с Даниелем сбежали из чумного Кембриджа и разъехались по домам.
Сейчас Гук смотрел на кучу грязи. Взгляд его всегда был устремлён в одну точку, словно он смотрит на мир через тростинку. На улице или даже в гостиной это казалось странным, но обретало смысл, когда Гук, как сейчас, созерцал крохотный мир на столе. Муравьи бегали туда-сюда, выносили яйца из разрушенного жилища, устанавливали оборонительный периметр. Даниель стоял напротив и смотрел туда же, куда и Гук, однако явно видел не то же самое.
Через две минуты Даниель разглядел всё, что мог, через пять ему стало скучно, через десять он бросил притворяться, будто изучает муравьев, и принялся расхаживать по лаборатории, глазея на останки всего, что когда-либо побывало под микроскопом: осколки пористого камня, клочки плесневелой сапожной кожи, склянку с этикеткой «моча Уилкинса», кусочки окаменелого дерева, бесчисленные пакетики с семенами, насекомых в банках, клочки всевозможных тканей, крохотные горшочки, подписанные «зубы улитки» или «гадючье жало». В углу валялась ржавые ножи, бритвы, иголки. Повод для злой остроты: если дать Гуку бритву, он скорее положит её под микроскоп, чем побреется.
Ожидание затягивалось, и Даниель решил, что может с тем же успехом пополнить своё образование. Он осторожно потянулся к груде колющих и режущих инструментов, вытащил иголку и пошёл к столу, на который падал яркий свет из окна (Гук захватил все южные комнаты, поскольку нуждался в хорошем освещении). Здесь, на подставке, размешалась трубка размером со свёрнутый лист писчей бумаги, с линзой наверху, чтобы смотреть, и другой, совсем маленькой, не больше куриного глаза, внизу, над ярко освещенным предметным столиком. Даниель положил на него иглу и заглянул в окуляр.
Он ожидал увидеть блестящий зеркальный стержень, но увидел изъеденную дубинку. Острие походило на кучу шлака.
– Мистер Уотерхауз, – сказал Гук, – когда вы закончите, чем там занимаетесь, я хотел бы справиться с моим верным Меркурием.
Даниель обернулся. В первый миг он подумал, что Гук просит принести ртуть (которую время от времени пил как средство от мигрени, головокружений и прочих недомоганий). Однако огромные глаза Гука были устремлены на микроскоп.
– Разумеется! – воскликнул Даниель. Меркурий, вестник богов, податель знания.
– И что вы теперь думаете об иголках? – спросил Гук.
Даниель взял иглу и подошёл к окну, глядя на неё в совершенно новом свете.
– Она выглядит почти отталкивающей, – ответил он.
– Бритва еще хуже. Формы любые, кроме желаемой, – сказал Гук. – Вот почему я больше не смотрю в микроскоп на изделия человеческих рук – грубость и неумелость искусства терзает взор. То же, что должно, казалось бы, отвращать, при увеличении оказывается прекрасным. Можете взглянуть на мои рисунки, пока я буду удовлетворять любознательность короля. – Гук указал на кипу бумаг, а сам понес муравьиное яйцо под микроскоп.
Даниель принялся перебирать рисунки.
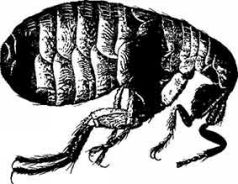 – Сэр, я и не знал, что вы – художник, – сказал он.
– Сэр, я и не знал, что вы – художник, – сказал он.
– Когда умер мой отец, меня отдали в ученье к живописцу.
– Ваш наставник хорошо вас научил.
– Этот осёл не научил меня ничему. Всякий, если он не полный болван, может научиться рисовать, просто глядя на картины. Так зачем идти в подмастерья?
– Ваша блоха – великолепнейшее творение…
– Это не искусство, а лишь более высокая форма пачкотни, – возразил Гук. – Когда я смотрел на блоху под микроскопом, я видел в её глазу полное и совершенное отражение садов и усадьбы – розы на кустах, колыхание занавесей на окнах.
– По мне, рисунок прекрасен, – произнес Даниель. Он говорил от души, не пытаясь быть льстивым угодником или хитрым пройдохой.
Однако Гук только рассердился.
– Скажу вам еще раз: истинную красоту нужно искать в природе! Чем сильнее мы увеличиваем, чем пристальнее вглядываемся в творения искусства, тем грубее и глупее они кажутся. Когда же мы увеличиваем естественный мир, он становится лишь сложнее и превосходнее.
Уилкинс спрашивал Даниеля, что тот предпочитает: стеклянный улей Рена или пчелиные соты внутри. Потом предупредил, что подходит Гук. Теперь Даниель понял почему: для Гука существовал только один ответ.
– Склоняюсь перед вашим мнением, сэр.
– Спасибо, сэр.
– Не желая показаться каверзным иезуитом, всё же спрошу: моча Уилкинса – творение Природы или искусства?
– Вы видели склянку.
– Да.
– Если взять мочу преподобного, слить жидкость и посмотреть осадок под микроскопом, вам предстанет груда самоцветов, от которых лишился бы чувств Великий Могол. При малом увеличении она кажется кучкой щебня, но если взять линзы помощнее и получше осветить, вы узрите гору кристаллов – пластинок, ромбоидов, прямоугольников, квадратов, – белых, жёлтых и красных, сверкающих, подобно алмазам на перстне царедворца.
– И такова же моча всех остальных людей?
– Его – в большей мере, чем у большинства, – сказал Гук. – У доктора камень.
– О Господи!
– Пока всё не так плохо, но камень увеличивается и через несколько лет сведёт его в могилу, – сказал Гук.
– И камень в мочевом пузыре состоит из тех же кристаллов, что вы видели в моче?
– Полагаю, да.
– Есть ли способ…
– Растворить их? Купоросное масло[22] растворяет – но не думаю, что преподобный согласится влить его в свой мочевой пузырь. Никто не препятствует вам провести собственные изыскания. Всё очевидное я уже перепробовал.
Пришла весть, что умер Ферма, оставив после себя недоказанную теорему-другую. Король испанский Филипп тоже умер, и на трон вступил его сын; однако молодой Карл II был таким болезненным, что ему давали срок от силы до конца года. Португалия обрела независимость. В Польше некий князь Любомирский поднял мятеж.
Джон Уилкинс пытался улучшить конные экипажи; чтобы их испытать, он подвешивал над колодцем груз, который, опускаясь вниз, тянул за собой повозку. Скорость измеряли при помощи туковых часов. Обязанность эта лежала на Чарльзе Комстоке; он проводил на лугу целые дни, засекая время или чиня сломанные колёса. Слугам его отца надо было набирать воду, поэтому Чарльза частенько просили убрать помехи от колодца. Даниель забавлялся этим зрелищем через окно, составляя список казней.
Отделение членов, как то:
головы от тела: ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ, отсечение головы
членов от членов: ЧЕТВЕРТОВАНИЕ, разрубание на части
Нанесение ран
с расстояния, либо
рукой: ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ
посредством орудия, такого как ружьё, лук и проч.: РАССТРЕЛИВАНИЕ
с близи, посредством
веса, как то:
чего-либо другого: РАЗДАВЛИВАНИЕ
собственного: СБРАСЫВАНИЕ С ВЫСОКОГО МЕСТА, ИЗ ОКНА
орудия, как то:
в любом направлении: ЗАКОЛАНИЕ
снизу вверх: НАСАЖИВАНИЕ НА КОЛ
оставлением без пищи либо даванием чего-либо вредного
УМАРИВАНИЕ ГОЛОДОМ
ОТРАВЛЕНИЕ, отрава, яд
Преграждением доступа воздуха
через рот
в воздухе: УДУШЕНИЕ
в земле: ПОГРЕБЕНИЕ ЗАЖИВО
в воде: УТОПЛЕНИЕ
в огне: СОЖЖЕНИЕ
через горло
весом собственного тела казнимого: ПОВЕШЕНИЕ
усилиями других: УДАВЛИВАНИЕ, удушение
расположено вертикально: РАСПЯТИЕ
лежит на колесе: КОЛЕСОВАНИЕ
ТЕЛУ
по общему названию, означающему сильную боль: ИСТЯЗАНИЕ, мученье
по родам:
посредством ударов;
гибким орудием: ПОРКА, бичевание, стегание, хлестание, кнут, поза, плеть, прут, розга, хлыст
твёрдым орудием: БИТЬЁ ДУБИНОЙ, бастонадо, заушение, палка, трость
посредством сильного растяжения членов: ДЫБА
СВОБОДЕ, КОТОРОЙ НАКАЗУЕМЫЙ ЛИШАЕТСЯ ПУТЁМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
внутри
места: ЗАТОЧЕНИЕ, заключение под стражу, застенок, каземат, острог, темница, тюрьма, узилище
орудий: УЗЫ, вервия, кандалы ножные и ручные, колодки, цепи, оковы, путы
из места либо страны, как то:
в любую другую: ИЗГНАНИЕ, высылка, остракизм
в определенное место: ССЫЛКА
РЕПУТАЦИИ, КАК ТО:
более мягко: УНИЖЕНИЕ, позорный столб
более сурово, путём прижигания калёным железом: КЛЕЙМЕНИЕ
СОСТОЯНИЮ, КАК ТО:
частично: ШТРАФ, взыскание, пеня
целиком: КОНФИСКАЦИЯ, изъятие
ДОСТОИНСТВУ И ВЛАСТИ
отрешением от должности или сана: РАЗЖАЛОВАНИЕ, отставка, увольнение, запрещение в служении, смещение, свержение, низложение
поражением в правах: ЛИШЕНИЕ ДЕЕ(ПРАВО)СПОСОБНОСТИ, гражданских прав и привилегии.
Покуда Даниель бичевал, истязал и вздёргивал на дыбу свой мозг, силясь придумать казнь, которую они с Уилкинсом ещё не вспомнили, он услышал, как Гук на первом этаже высекает огонь кремнём об огниво, и пошел узнать, что там происходит.
Гук высекал искры над листом бумаги.
– Отмечайте, куда они падают, – распорядился он.
Даниель взял перо, склонился над бумагой и принялся обводить те места, куда падали особенно большие искры. Потом они осмотрели бумагу под микроскопом и обнаружили в центре каждого кружка более или менее правильную сферу, по всей видимости, стальную.
– Вы видите, что алхимическая концепция жара нелепа, – сказал Гук. – Нет никакой стихии огня. Жар – всего лишь краткое возбуждение частиц тела. Ударьте камнем о сталь посильнее – отлетит кусочек стали…
– И будет искрой?
– Да.
– Но почему искра светится?
– Сила удара возбуждает её частицы столь сильно, что сталь плавится.
– Да, но коли ваша гипотеза верна – коли нет стихии огня, лишь движение частиц, – то почему раскалённая материя излучает свет?
– Думаю, что свет – это колебания. Если частицы движутся достаточно сильно, они испускают свет, как вибрирующий от удара колокол издаёт звук.
Даниель думал, что разговор окончен, пока однажды не пошел с Гуком к реке ловить водных насекомых. Они присели на корточки у того места, где ручей, переливаясь через камень, стекал в озерцо. Пузырьки воздуха, затянутые струями под воду, всплывали на поверхность: мириады крошечных сфер. Гук заметил это, задумался и через несколько минут сказал:
– Планеты и звёзды сферичны потому же, почему искры и пузыри.
– Что?!
– Жидкое тело, окружённое другой жидкостью, принимает сферическую форму. Так, воздух, окружённый водой, принимает форму сферы, которую мы зовем пузырьком. Капелька расплавленной стали, окружённая воздухом, принимает форму сферы, которую мы зовём искрой. Земной расплав, окружённый небесным эфиром, принимает форму сферы, которую мы называем планетой.
По пути назад, когда они смотрели на ущербную луну, Гук сказал:
– Если бы мы получили искру или вспышку столь яркую, что она отразилась бы от затенённой стороны Луны, то измерили бы скорость света.
– Если делать это при помощи пороха, – задумчиво произнёс Даниель, – Джон Комсток охотно поддержит эксперимент.
Гук, обернувшись, несколько мгновений холодно созерцал его, словно пытаясь определить, состоит ли и Даниель из клеток, потом изрек:
– Вы говорите как придворный.
В этих словах не было ни досады, ни осуждения, только констатация факта.
Главным назначением вышепомянутого клуба было распространять новые причуды, способствовать механическим экзерсисам и проводить опыты как полезные, так и совершенно никчёмные. Дабы исполнить сие достойное начинание, всякого спятившего художника либо аптекаря, всякого сумасбродного прожектёра, которому пришла в голову какая-либо блажь или вздумалось, будто он совершил некое чудное открытие, встречали с распростёртыми объятиями и радостно принимали в общество, где члены почитались не за родовитость, а за проникновение в тайны природы либо за новшества, ими изобретённые, пусть даже самые распустячные. Итак, безумец, дни и ночи корпящий над горном в поисках философского камня, или полоумный врач, растративший отцовское наследство в тщетных попытках получить панацею, Sal Graminis[23] из жжёной соломы, были здесь в изрядной чести, как и те механикусы из числа знатных особ, что дни напролёт просиживают на чердаках, обтачивая слоновью кость, покуда их благоверные при помощи кузенов добывают мужьям рога.
Нед Уорд, «Клуб любознатца».
Листья желтели, в Лондоне чума свирепствовала пуще прежнего. В одну неделю умерло восемь тысяч человек. Неподалёку, в Эпсоме, Уилкинс покончил с Ковчегом и начал составлять для философского языка грамматику и систему письма. Даниель закончил кое-какую мелочевку, а именно – предметы, до морского дела относящиеся: ванты и выбленки, бейфуты и бык-гордени, кнехты и кабаляринги.
Снизу доносилось странное треньканье, словно кто-то бесконечно настраивает лютню. Даниель спустился и увидел, что Гук дергает струну, натянутую на деревянный ящик, а из уха у него торчит перо. Гуку случалось заниматься и более странными вещами, поэтому Даниель, ничуть не удивясь, вернулся к работе: поискам состава, который растворил бы мочевой гравий Уилкинса. Гук по-прежнему тренькал и гудел. Наконец Даниель не выдержал и пошёл выяснять, чем тот занят.
На пере, торчащем из Гукова уха, сидел овод. Даниель попытался его согнать. Насекомое дёрнулось, но не взлетело. Всмотревшись, Даниель понял, что оно приклеено.
– Давайте ещё раз, это меняет тон, – потребовал Гук.
– Вы слышите трепетание крылышек?
– Оно звучит на одной определённой ноте. Если я настраиваю струну – трень, трень – на ту же ноту, то, значит, крылышки и струна колеблются с одной частотой. Мне известно, как определить частоту колебаний струны, следовательно, я знаю, сколько раз за секунду трепещут крылышки овода. Полезно для строительства летающей машины.
От осенних дождей поле развезло, и опыты с колясками пришлось оставить. Чарльзу Комстоку следовало искать другое занятие. Он недавно поступил в Кембридж, но университет закрылся на время чумы. Уилкинс должен был учить его натурфилософии за то, что живёт в Эпсоме, однако учеба состояла по большей части в чёрной работе, которая требовалась для различных опытов Уилкинса. Теперь, когда погода испортилась, опыты переместились в подвал коттеджа. Уилкинс посадил жабу в стеклянную банку и морил голодом, проверяя, выведутся ли из неё новые жабы. Ещё был карп, который жил без воды; его кормили размоченным хлебом, а Чарльз должен был несколько раз в день смачивать рыбине плавники. Королевский вопрос про муравьев сподвигнул Уилкинса на опыт, который тот давно собирался поставить; теперь в подвале между голодной жабой и карпом появилась личинка размером с человеческую ляжку; её надлежало кормить тухлым мясом и раз в день взвешивать. Личинка начала приванивать, и её переместили в сарай, где Уилкинс ставил опыты по зарождению мух, червей и проч. в испорченном мясе, сыре и других субстанциях. Все знали или думали, будто знают, что это происходит самопроизвольно. Гук, разглядывая под микроскопом нижнюю сторону некоторых листьев, обнаружил на них точечки, которые затем развились в насекомых, а в воде – крохотные комариные яйца. Это навело его на мысль, что в воздухе и в воде полно невидимых глазу зародышей и семян, которые начинают развиваться, попав на что-нибудь мягкое и гниющее.
Время от времени повозке или карете разрешали проехать в ворота и к господскому дому. С одной стороны, приятно было сознавать, что в Англии остался кто-то живой, с другой стороны…
– Что за безумец разъезжает в разгар чумы, – спросил Даниель, – и зачем Джон Комсток пускает его в дом? Этот шаромыжник всех нас перезаразит.
– Джону Комстоку так же невозможно обойтись без встреч с этим человеком, как и воздержаться от воздуха, – отвечал Уилкинс, с безопасного расстояния наблюдая за каретой в подзорную трубу. – Это денежный поверенный.
Даниель никогда прежде не слышал такого слова.
– Я покамест не дошёл до того места таблиц, где определяется «денежный поверенный». Он делает то же, что златокузнец?
– Куёт золото? Нет.
– Разумеется, нет. Я о том, чем златокузнецы занялись в последнее время – оборотом бумаг, которые служат взамен денег.
– Такой человек, как граф Эпсомский, не подпустил бы златокузнеца и на милю к своему дому! – возмущенно проговорил Уилкинс. – Денежный поверенный – совершенно другое дело! Хоть и делает примерно то же самое.
– Не растолкуете ли попонятней? – спросил Даниель, но тут Гук из другой комнаты крикнул:
– Даниель! Раздобудьте пушку!
В другом месте исполнить эту просьбу было бы весьма затруднительно. Однако они жили в поместье человека, который производил порох и снабжал короля Карла II значительной частью вооружений. Поэтому Даниель пошёл и завербовал его сына, юного Чарльза Комстока, а тот, в свою очередь, рекрутировал отряд слуг и несколько лошадей. Они вытащили полевое орудие из личного хозяйского арсенала на поле перед коттеджем. Тем временем Гук распорядился привести из города некоего слугу, глухого как пень, и велел ему стать в ярде от пушки (правда, сбоку!). Чарльз умело зарядил пушку лучшим отцовским порохом, вставил в запальное отверстие фитиль, поджёг его и отбежал. Результатом стало внезапное сильное сжатие воздуха, которое, по расчётам Гука, должно было проникнуть в череп слуги и выбить скрытую преграду, ставшую причиной глухоты. В усадьбе Джона Комстока вылетели несколько стёкол, что подтвердило правильность исходной посылки. Глухого, правда, исцелить не удалось.
– Как вам известно, сейчас в моем доме проживает немало людей из города, – сказал Джон Комсток, граф Эпсомский и лорд-канцлер Англии.
Он вошёл внезапно и без предупреждения. Уилкинс и Гук наперебой пытались докричаться до глухого и понять, слышит ли тот хоть что-нибудь. Даниель первым заметил посетителя и присоединился к общему ору:
– Простите! Господа! ПРЕПОДОБНЫЙ УИЛКИНС!
После недолго замешательства, смущения и торопливых вежливых фраз Уилкинс и Комсток уселись за стол с бокалами кларета. Гук, Уотерхауз и глухой слуга тем временем подпирали спинами ближайшую стену.
Комстоку было под шестьдесят. У себя в усадьбе он обходился без париков и прочего придворного фатовства; его седые волосы были заплетены в косицу, а плечи облекал простой охотничий наряд.
– В год моего рождения основали Джемстаун, пилигримы бежали в Лейден, и началась работа над Библией короля Якова. Я пережил различные лондонские бунты и беспорядки, моровые поветрия и пороховые заговоры. Я спасался из горящих зданий. Был ранен при Ньюарке и с определёнными тяготами достиг Парижа. Я присутствовал при коронации его величества в Сконе, в изгнании, и при его торжественном вступлении в Лондон. Я убивал людей. Всё это вам известно, доктор Уилкинс. Я говорю не из хвастовства, но чтобы подчеркнуть: живи я уединённо в большом доме, вы могли бы устраивать канонады и взрывы в любой час дня или ночи без предупреждения или сложить груду тухлого мяса в пять саженей высотой под окнами моей спальни – нимало меня тем не обеспокоив. Однако сейчас в моем доме проживает множество знатных персон. Часть из них – королевской крови. Многие принадлежат к слабому полу, а некоторые ещё и малылетами. Две из них – всё разом.
– Который Завета? Или…
– Другой.
– А он здесь при чём?
– Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать классификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При этом птичьи термины не должны походить на рыбьи.
– Замысел представляется мне… э… дерзким.
– Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Мое – наше – дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери – так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый – двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые континентальные учёные, склонные к афеизму, способны злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в Книге Бытия, якобы не могли произойти.
– Рискну даже предположить, что некие иезуиты направят их против вас – как свидетельство ваших будто бы афеистических воззрений, доктор Уилкинс.
– Истинная правда, Даниель! Посему совершенно необходимо приложить, отдельной главою, полный план Ноева Ковчега и показать не только, где размещалось каждое животное, но и где хранился фураж для травоядных, где стоял скот для хищников и где хранился фураж, которым кормили жвачных, пока их не съедят хищники.
– Еще нужна была пресная вода, – задумчиво произнёс Даниель.
Уилкинс, который имел обыкновение, говоря, наступать на собеседника, покуда тот не начинал пятиться, схватил кипу бумаг и огрел Даниеля по голове.
– Читайте Библию, неуч! Дождь шёл без остановки!
– Конечно, конечно, они могли пить дождевую воду, – проговорил совершенно раздавленный Даниель.
– Мне пришлось несколько вольно обойтись с мерой «локоть», – заговорщицки поведал Уилкинс, – но я думаю, Ною должно было хватить восьмисот двадцати пяти овец. Я имею в виду, чтобы кормить хищников.
– Овцы занимали целую палубу?!
– Дело не в пространстве, которое они занимали, а в навозе, который надо было выгребать за борт – представьте, какая это работа!… Так или иначе, вы понимаете, что история с Ковчегом надолго застопорила создание философского языка. А вас я попрошу перейти к оскорбительным выражениям.
– Сэр!
– Не задевает ли вас, Даниель, когда ваш брат-лондонец бросается такими словами, как «гнусный подлец», «жалкое ничтожество», «хитрый пройдоха», «праздный бездельник» или «льстивый угодник»?
– Смотря кто кого так обозвал…
– Попробую проще: «развратная шлюха».
– Это тавтология и потому оскорбляет просвещённый слух.
– «Безмозглый фат».
– Тоже тавтология, как «льстивый угодник» и всё прочее.
– Итак, очевидно, что в философском языке не потребуются отдельные имена прилагательные и существительные для подобных понятий.
– Как вам «грязный неряха»?
– Превосходно! Запишите это, Даниель!
– «Беспутный повеса», «язвительный зубоскал», «вероломный предатель»… – Покуда Даниель продолжал в том же духе, Уилкинс подскочил к конторке, вынул из чернильницы перо, стряхнул избыток чернил и, вложив перо в руку Даниеля, подвёл того к чистому листу.
Итак, за работу. В несколько коротких часов Даниель исчерпал оскорбительные выражения и перешёл к добродетелям (умственным, естественным и христианским), цветам, звукам, вкусам и запахам, занятиям (например, плотничеству, шитью, алхимии) и так далее. Дни проходили за днями. Уилкинсу надоедало, когда Даниель (или кто-то ещё) слишком много работает, поэтому они часто устраивали «семинары» и «симпозиумы» на кухне – варили флип из мёда, которым учёных исправно снабжал готический апиарий Рена. Чарльз Комсток, пятнадцатилетний сын их высокородного хозяина, заходил послушать Уилкинса и Гука. Как правило, он приносил с собой письма Королевскому обществу от Гюйгенса, Левенгука, Сваммердама, Спинозы. Нередко в письмах содержались новые понятия, и Даниелю приходилось втискивать их в таблицы философского языка.
Даниель прилежно составлял перечень предметов, которыми человек может владеть (акведуки, дворцы, тележные оси, дверные петли и так далее), когда Уилкинс срочно позвал его вниз. Юноша спустился на первый этаж и увидел, что преподобный держит в руках внушительного вида письмо, а Чарльз Комсток расчищает стол: скатывает в рулоны чертежи Ковчега и расписания кормлений для восьмисот двадцати пяти овец, освобождая место для более важных занятий. Карл II, милостью Божьей король Англии, прислал им письмо. Его величество заметил, что муравьиные яйца больше самих муравьев, и любопытствовал, как такое возможно.
Даниель сбегал и разорил муравейник. Он вернулся, победно неся на лопате сердцевину муравьиной кучи. В гостиной Уилкинс диктовал, а Чарльз Комсток записывал письмо королю – не содержательную часть (ответа они пока не знали), а долгие вступительные абзацы обильной лести. «Сияние Вашего ума озаряет чертоги, дотоле… э… прозябавшие в… э…»
– Звучит скорее как намек на Короля-Солнце, – предупредил Чарльз.
– Так вымарывай! Умён, хвалю. Теперь читай ещё раз, что получилось.
Даниель замер перед лабораторией Гука, собираясь с духом, чтобы постучать. Однако Гук уже услышал шаги и сам распахнул дверь. Он поманил Даниеля внутрь и указал на заляпанный стол, расчищенный для работы. Юноша вошёл, сгрузил муравьиную кучу, поставил лопату и лишь затем отважился вдохнуть. В лаборатории пахло совсем не так дурно, как он опасался.
Гук двумя руками убрал волосы с лица и стянул на затылке бечёвкой. Даниель не переставал удивляться, что тот лишь на десять лет его старше. Гуку стукнуло тридцать несколько недель назад, в июне, примерно тогда же, когда Исаак с Даниелем сбежали из чумного Кембриджа и разъехались по домам.
Сейчас Гук смотрел на кучу грязи. Взгляд его всегда был устремлён в одну точку, словно он смотрит на мир через тростинку. На улице или даже в гостиной это казалось странным, но обретало смысл, когда Гук, как сейчас, созерцал крохотный мир на столе. Муравьи бегали туда-сюда, выносили яйца из разрушенного жилища, устанавливали оборонительный периметр. Даниель стоял напротив и смотрел туда же, куда и Гук, однако явно видел не то же самое.
Через две минуты Даниель разглядел всё, что мог, через пять ему стало скучно, через десять он бросил притворяться, будто изучает муравьев, и принялся расхаживать по лаборатории, глазея на останки всего, что когда-либо побывало под микроскопом: осколки пористого камня, клочки плесневелой сапожной кожи, склянку с этикеткой «моча Уилкинса», кусочки окаменелого дерева, бесчисленные пакетики с семенами, насекомых в банках, клочки всевозможных тканей, крохотные горшочки, подписанные «зубы улитки» или «гадючье жало». В углу валялась ржавые ножи, бритвы, иголки. Повод для злой остроты: если дать Гуку бритву, он скорее положит её под микроскоп, чем побреется.
Ожидание затягивалось, и Даниель решил, что может с тем же успехом пополнить своё образование. Он осторожно потянулся к груде колющих и режущих инструментов, вытащил иголку и пошёл к столу, на который падал яркий свет из окна (Гук захватил все южные комнаты, поскольку нуждался в хорошем освещении). Здесь, на подставке, размешалась трубка размером со свёрнутый лист писчей бумаги, с линзой наверху, чтобы смотреть, и другой, совсем маленькой, не больше куриного глаза, внизу, над ярко освещенным предметным столиком. Даниель положил на него иглу и заглянул в окуляр.
Он ожидал увидеть блестящий зеркальный стержень, но увидел изъеденную дубинку. Острие походило на кучу шлака.
– Мистер Уотерхауз, – сказал Гук, – когда вы закончите, чем там занимаетесь, я хотел бы справиться с моим верным Меркурием.
Даниель обернулся. В первый миг он подумал, что Гук просит принести ртуть (которую время от времени пил как средство от мигрени, головокружений и прочих недомоганий). Однако огромные глаза Гука были устремлены на микроскоп.
– Разумеется! – воскликнул Даниель. Меркурий, вестник богов, податель знания.
– И что вы теперь думаете об иголках? – спросил Гук.
Даниель взял иглу и подошёл к окну, глядя на неё в совершенно новом свете.
– Она выглядит почти отталкивающей, – ответил он.
– Бритва еще хуже. Формы любые, кроме желаемой, – сказал Гук. – Вот почему я больше не смотрю в микроскоп на изделия человеческих рук – грубость и неумелость искусства терзает взор. То же, что должно, казалось бы, отвращать, при увеличении оказывается прекрасным. Можете взглянуть на мои рисунки, пока я буду удовлетворять любознательность короля. – Гук указал на кипу бумаг, а сам понес муравьиное яйцо под микроскоп.
Даниель принялся перебирать рисунки.
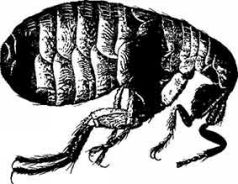
– Когда умер мой отец, меня отдали в ученье к живописцу.
– Ваш наставник хорошо вас научил.
– Этот осёл не научил меня ничему. Всякий, если он не полный болван, может научиться рисовать, просто глядя на картины. Так зачем идти в подмастерья?
– Ваша блоха – великолепнейшее творение…
– Это не искусство, а лишь более высокая форма пачкотни, – возразил Гук. – Когда я смотрел на блоху под микроскопом, я видел в её глазу полное и совершенное отражение садов и усадьбы – розы на кустах, колыхание занавесей на окнах.
– По мне, рисунок прекрасен, – произнес Даниель. Он говорил от души, не пытаясь быть льстивым угодником или хитрым пройдохой.
Однако Гук только рассердился.
– Скажу вам еще раз: истинную красоту нужно искать в природе! Чем сильнее мы увеличиваем, чем пристальнее вглядываемся в творения искусства, тем грубее и глупее они кажутся. Когда же мы увеличиваем естественный мир, он становится лишь сложнее и превосходнее.
Уилкинс спрашивал Даниеля, что тот предпочитает: стеклянный улей Рена или пчелиные соты внутри. Потом предупредил, что подходит Гук. Теперь Даниель понял почему: для Гука существовал только один ответ.
– Склоняюсь перед вашим мнением, сэр.
– Спасибо, сэр.
– Не желая показаться каверзным иезуитом, всё же спрошу: моча Уилкинса – творение Природы или искусства?
– Вы видели склянку.
– Да.
– Если взять мочу преподобного, слить жидкость и посмотреть осадок под микроскопом, вам предстанет груда самоцветов, от которых лишился бы чувств Великий Могол. При малом увеличении она кажется кучкой щебня, но если взять линзы помощнее и получше осветить, вы узрите гору кристаллов – пластинок, ромбоидов, прямоугольников, квадратов, – белых, жёлтых и красных, сверкающих, подобно алмазам на перстне царедворца.
– И такова же моча всех остальных людей?
– Его – в большей мере, чем у большинства, – сказал Гук. – У доктора камень.
– О Господи!
– Пока всё не так плохо, но камень увеличивается и через несколько лет сведёт его в могилу, – сказал Гук.
– И камень в мочевом пузыре состоит из тех же кристаллов, что вы видели в моче?
– Полагаю, да.
– Есть ли способ…
– Растворить их? Купоросное масло[22] растворяет – но не думаю, что преподобный согласится влить его в свой мочевой пузырь. Никто не препятствует вам провести собственные изыскания. Всё очевидное я уже перепробовал.
Пришла весть, что умер Ферма, оставив после себя недоказанную теорему-другую. Король испанский Филипп тоже умер, и на трон вступил его сын; однако молодой Карл II был таким болезненным, что ему давали срок от силы до конца года. Португалия обрела независимость. В Польше некий князь Любомирский поднял мятеж.
Джон Уилкинс пытался улучшить конные экипажи; чтобы их испытать, он подвешивал над колодцем груз, который, опускаясь вниз, тянул за собой повозку. Скорость измеряли при помощи туковых часов. Обязанность эта лежала на Чарльзе Комстоке; он проводил на лугу целые дни, засекая время или чиня сломанные колёса. Слугам его отца надо было набирать воду, поэтому Чарльза частенько просили убрать помехи от колодца. Даниель забавлялся этим зрелищем через окно, составляя список казней.
КАЗНИ СМЕРТНЫЯ
СИРЕЧЬ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЛИШЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЖИЗНИ ЗАКОННЫМ ПУТЁМ, КАКОВЫЕ У НЕКОТОРЫХ НАРОДОВ СУТЬ ИЛИ БЫЛИ ЛИБО ПРОСТЫМИ, ЧЕРЕЗ
Отделение членов, как то:
головы от тела: ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ, отсечение головы
членов от членов: ЧЕТВЕРТОВАНИЕ, разрубание на части
Нанесение ран
с расстояния, либо
рукой: ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ
посредством орудия, такого как ружьё, лук и проч.: РАССТРЕЛИВАНИЕ
с близи, посредством
веса, как то:
чего-либо другого: РАЗДАВЛИВАНИЕ
собственного: СБРАСЫВАНИЕ С ВЫСОКОГО МЕСТА, ИЗ ОКНА
орудия, как то:
в любом направлении: ЗАКОЛАНИЕ
снизу вверх: НАСАЖИВАНИЕ НА КОЛ
оставлением без пищи либо даванием чего-либо вредного
УМАРИВАНИЕ ГОЛОДОМ
ОТРАВЛЕНИЕ, отрава, яд
Преграждением доступа воздуха
через рот
в воздухе: УДУШЕНИЕ
в земле: ПОГРЕБЕНИЕ ЗАЖИВО
в воде: УТОПЛЕНИЕ
в огне: СОЖЖЕНИЕ
через горло
весом собственного тела казнимого: ПОВЕШЕНИЕ
усилиями других: УДАВЛИВАНИЕ, удушение
СОВМЕСТНЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ РАН И ЛИШЕНИЕМ ПИЩИ, ПРИ КОТОРОМ ТЕЛО
расположено вертикально: РАСПЯТИЕ
лежит на колесе: КОЛЕСОВАНИЕ
КАЗНИ (НАКАЗАНИЯ) НЕСМЕРТНЫЯ
РАЗЛИЧАЕМЫЕ ПО ТОМУ, ЧЕМУ В НИХ НАНОСИТСЯ УРОН, как то:
ТЕЛУ
по общему названию, означающему сильную боль: ИСТЯЗАНИЕ, мученье
по родам:
посредством ударов;
гибким орудием: ПОРКА, бичевание, стегание, хлестание, кнут, поза, плеть, прут, розга, хлыст
твёрдым орудием: БИТЬЁ ДУБИНОЙ, бастонадо, заушение, палка, трость
посредством сильного растяжения членов: ДЫБА
СВОБОДЕ, КОТОРОЙ НАКАЗУЕМЫЙ ЛИШАЕТСЯ ПУТЁМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
внутри
места: ЗАТОЧЕНИЕ, заключение под стражу, застенок, каземат, острог, темница, тюрьма, узилище
орудий: УЗЫ, вервия, кандалы ножные и ручные, колодки, цепи, оковы, путы
из места либо страны, как то:
в любую другую: ИЗГНАНИЕ, высылка, остракизм
в определенное место: ССЫЛКА
РЕПУТАЦИИ, КАК ТО:
более мягко: УНИЖЕНИЕ, позорный столб
более сурово, путём прижигания калёным железом: КЛЕЙМЕНИЕ
СОСТОЯНИЮ, КАК ТО:
частично: ШТРАФ, взыскание, пеня
целиком: КОНФИСКАЦИЯ, изъятие
ДОСТОИНСТВУ И ВЛАСТИ
отрешением от должности или сана: РАЗЖАЛОВАНИЕ, отставка, увольнение, запрещение в служении, смещение, свержение, низложение
поражением в правах: ЛИШЕНИЕ ДЕЕ(ПРАВО)СПОСОБНОСТИ, гражданских прав и привилегии.
Покуда Даниель бичевал, истязал и вздёргивал на дыбу свой мозг, силясь придумать казнь, которую они с Уилкинсом ещё не вспомнили, он услышал, как Гук на первом этаже высекает огонь кремнём об огниво, и пошел узнать, что там происходит.
Гук высекал искры над листом бумаги.
– Отмечайте, куда они падают, – распорядился он.
Даниель взял перо, склонился над бумагой и принялся обводить те места, куда падали особенно большие искры. Потом они осмотрели бумагу под микроскопом и обнаружили в центре каждого кружка более или менее правильную сферу, по всей видимости, стальную.
– Вы видите, что алхимическая концепция жара нелепа, – сказал Гук. – Нет никакой стихии огня. Жар – всего лишь краткое возбуждение частиц тела. Ударьте камнем о сталь посильнее – отлетит кусочек стали…
– И будет искрой?
– Да.
– Но почему искра светится?
– Сила удара возбуждает её частицы столь сильно, что сталь плавится.
– Да, но коли ваша гипотеза верна – коли нет стихии огня, лишь движение частиц, – то почему раскалённая материя излучает свет?
– Думаю, что свет – это колебания. Если частицы движутся достаточно сильно, они испускают свет, как вибрирующий от удара колокол издаёт звук.
Даниель думал, что разговор окончен, пока однажды не пошел с Гуком к реке ловить водных насекомых. Они присели на корточки у того места, где ручей, переливаясь через камень, стекал в озерцо. Пузырьки воздуха, затянутые струями под воду, всплывали на поверхность: мириады крошечных сфер. Гук заметил это, задумался и через несколько минут сказал:
– Планеты и звёзды сферичны потому же, почему искры и пузыри.
– Что?!
– Жидкое тело, окружённое другой жидкостью, принимает сферическую форму. Так, воздух, окружённый водой, принимает форму сферы, которую мы зовем пузырьком. Капелька расплавленной стали, окружённая воздухом, принимает форму сферы, которую мы зовём искрой. Земной расплав, окружённый небесным эфиром, принимает форму сферы, которую мы называем планетой.
По пути назад, когда они смотрели на ущербную луну, Гук сказал:
– Если бы мы получили искру или вспышку столь яркую, что она отразилась бы от затенённой стороны Луны, то измерили бы скорость света.
– Если делать это при помощи пороха, – задумчиво произнёс Даниель, – Джон Комсток охотно поддержит эксперимент.
Гук, обернувшись, несколько мгновений холодно созерцал его, словно пытаясь определить, состоит ли и Даниель из клеток, потом изрек:
– Вы говорите как придворный.
В этих словах не было ни досады, ни осуждения, только констатация факта.
Главным назначением вышепомянутого клуба было распространять новые причуды, способствовать механическим экзерсисам и проводить опыты как полезные, так и совершенно никчёмные. Дабы исполнить сие достойное начинание, всякого спятившего художника либо аптекаря, всякого сумасбродного прожектёра, которому пришла в голову какая-либо блажь или вздумалось, будто он совершил некое чудное открытие, встречали с распростёртыми объятиями и радостно принимали в общество, где члены почитались не за родовитость, а за проникновение в тайны природы либо за новшества, ими изобретённые, пусть даже самые распустячные. Итак, безумец, дни и ночи корпящий над горном в поисках философского камня, или полоумный врач, растративший отцовское наследство в тщетных попытках получить панацею, Sal Graminis[23] из жжёной соломы, были здесь в изрядной чести, как и те механикусы из числа знатных особ, что дни напролёт просиживают на чердаках, обтачивая слоновью кость, покуда их благоверные при помощи кузенов добывают мужьям рога.
Нед Уорд, «Клуб любознатца».
Листья желтели, в Лондоне чума свирепствовала пуще прежнего. В одну неделю умерло восемь тысяч человек. Неподалёку, в Эпсоме, Уилкинс покончил с Ковчегом и начал составлять для философского языка грамматику и систему письма. Даниель закончил кое-какую мелочевку, а именно – предметы, до морского дела относящиеся: ванты и выбленки, бейфуты и бык-гордени, кнехты и кабаляринги.
Снизу доносилось странное треньканье, словно кто-то бесконечно настраивает лютню. Даниель спустился и увидел, что Гук дергает струну, натянутую на деревянный ящик, а из уха у него торчит перо. Гуку случалось заниматься и более странными вещами, поэтому Даниель, ничуть не удивясь, вернулся к работе: поискам состава, который растворил бы мочевой гравий Уилкинса. Гук по-прежнему тренькал и гудел. Наконец Даниель не выдержал и пошёл выяснять, чем тот занят.
На пере, торчащем из Гукова уха, сидел овод. Даниель попытался его согнать. Насекомое дёрнулось, но не взлетело. Всмотревшись, Даниель понял, что оно приклеено.
– Давайте ещё раз, это меняет тон, – потребовал Гук.
– Вы слышите трепетание крылышек?
– Оно звучит на одной определённой ноте. Если я настраиваю струну – трень, трень – на ту же ноту, то, значит, крылышки и струна колеблются с одной частотой. Мне известно, как определить частоту колебаний струны, следовательно, я знаю, сколько раз за секунду трепещут крылышки овода. Полезно для строительства летающей машины.
От осенних дождей поле развезло, и опыты с колясками пришлось оставить. Чарльзу Комстоку следовало искать другое занятие. Он недавно поступил в Кембридж, но университет закрылся на время чумы. Уилкинс должен был учить его натурфилософии за то, что живёт в Эпсоме, однако учеба состояла по большей части в чёрной работе, которая требовалась для различных опытов Уилкинса. Теперь, когда погода испортилась, опыты переместились в подвал коттеджа. Уилкинс посадил жабу в стеклянную банку и морил голодом, проверяя, выведутся ли из неё новые жабы. Ещё был карп, который жил без воды; его кормили размоченным хлебом, а Чарльз должен был несколько раз в день смачивать рыбине плавники. Королевский вопрос про муравьев сподвигнул Уилкинса на опыт, который тот давно собирался поставить; теперь в подвале между голодной жабой и карпом появилась личинка размером с человеческую ляжку; её надлежало кормить тухлым мясом и раз в день взвешивать. Личинка начала приванивать, и её переместили в сарай, где Уилкинс ставил опыты по зарождению мух, червей и проч. в испорченном мясе, сыре и других субстанциях. Все знали или думали, будто знают, что это происходит самопроизвольно. Гук, разглядывая под микроскопом нижнюю сторону некоторых листьев, обнаружил на них точечки, которые затем развились в насекомых, а в воде – крохотные комариные яйца. Это навело его на мысль, что в воздухе и в воде полно невидимых глазу зародышей и семян, которые начинают развиваться, попав на что-нибудь мягкое и гниющее.
Время от времени повозке или карете разрешали проехать в ворота и к господскому дому. С одной стороны, приятно было сознавать, что в Англии остался кто-то живой, с другой стороны…
– Что за безумец разъезжает в разгар чумы, – спросил Даниель, – и зачем Джон Комсток пускает его в дом? Этот шаромыжник всех нас перезаразит.
– Джону Комстоку так же невозможно обойтись без встреч с этим человеком, как и воздержаться от воздуха, – отвечал Уилкинс, с безопасного расстояния наблюдая за каретой в подзорную трубу. – Это денежный поверенный.
Даниель никогда прежде не слышал такого слова.
– Я покамест не дошёл до того места таблиц, где определяется «денежный поверенный». Он делает то же, что златокузнец?
– Куёт золото? Нет.
– Разумеется, нет. Я о том, чем златокузнецы занялись в последнее время – оборотом бумаг, которые служат взамен денег.
– Такой человек, как граф Эпсомский, не подпустил бы златокузнеца и на милю к своему дому! – возмущенно проговорил Уилкинс. – Денежный поверенный – совершенно другое дело! Хоть и делает примерно то же самое.
– Не растолкуете ли попонятней? – спросил Даниель, но тут Гук из другой комнаты крикнул:
– Даниель! Раздобудьте пушку!
В другом месте исполнить эту просьбу было бы весьма затруднительно. Однако они жили в поместье человека, который производил порох и снабжал короля Карла II значительной частью вооружений. Поэтому Даниель пошёл и завербовал его сына, юного Чарльза Комстока, а тот, в свою очередь, рекрутировал отряд слуг и несколько лошадей. Они вытащили полевое орудие из личного хозяйского арсенала на поле перед коттеджем. Тем временем Гук распорядился привести из города некоего слугу, глухого как пень, и велел ему стать в ярде от пушки (правда, сбоку!). Чарльз умело зарядил пушку лучшим отцовским порохом, вставил в запальное отверстие фитиль, поджёг его и отбежал. Результатом стало внезапное сильное сжатие воздуха, которое, по расчётам Гука, должно было проникнуть в череп слуги и выбить скрытую преграду, ставшую причиной глухоты. В усадьбе Джона Комстока вылетели несколько стёкол, что подтвердило правильность исходной посылки. Глухого, правда, исцелить не удалось.
– Как вам известно, сейчас в моем доме проживает немало людей из города, – сказал Джон Комсток, граф Эпсомский и лорд-канцлер Англии.
Он вошёл внезапно и без предупреждения. Уилкинс и Гук наперебой пытались докричаться до глухого и понять, слышит ли тот хоть что-нибудь. Даниель первым заметил посетителя и присоединился к общему ору:
– Простите! Господа! ПРЕПОДОБНЫЙ УИЛКИНС!
После недолго замешательства, смущения и торопливых вежливых фраз Уилкинс и Комсток уселись за стол с бокалами кларета. Гук, Уотерхауз и глухой слуга тем временем подпирали спинами ближайшую стену.
Комстоку было под шестьдесят. У себя в усадьбе он обходился без париков и прочего придворного фатовства; его седые волосы были заплетены в косицу, а плечи облекал простой охотничий наряд.
– В год моего рождения основали Джемстаун, пилигримы бежали в Лейден, и началась работа над Библией короля Якова. Я пережил различные лондонские бунты и беспорядки, моровые поветрия и пороховые заговоры. Я спасался из горящих зданий. Был ранен при Ньюарке и с определёнными тяготами достиг Парижа. Я присутствовал при коронации его величества в Сконе, в изгнании, и при его торжественном вступлении в Лондон. Я убивал людей. Всё это вам известно, доктор Уилкинс. Я говорю не из хвастовства, но чтобы подчеркнуть: живи я уединённо в большом доме, вы могли бы устраивать канонады и взрывы в любой час дня или ночи без предупреждения или сложить груду тухлого мяса в пять саженей высотой под окнами моей спальни – нимало меня тем не обеспокоив. Однако сейчас в моем доме проживает множество знатных персон. Часть из них – королевской крови. Многие принадлежат к слабому полу, а некоторые ещё и малылетами. Две из них – всё разом.
