Страница:
– Милорд! – вскричал Уилкинс. Даниель внимательно наблюдал за преподобным – да и кто бы не наблюдал на его месте? Когда такой человек, как Комсток, распекает такого человека, как Уилкинс, это почище медвежьей травли в Саутуорке. Досей минуты Уилкинс изображал стыд, причём очень правдоподобно. Сейчас он по-настоящему устыдился.
Две из них – всё разом. Что бы это могло означать? Кто разом королевского рода, принадлежит к слабому полу и мал летами? У Карла II дочерей нет, по крайней мере законных. Елизавета, Зимняя королева, наплодила великое множество принцев и принцесс, но вряд ли бы кто-нибудь из них собрался в чумную Англию.
Комсток продолжал:
– Эти особы прибыли сюда в поисках убежища, они напуганы чумой и прочими ужасами, в том числе угрозой голландского вторжения. Сильное сжатие воздуха, которое мы с вами можем считать возможным средством от глухоты, воспринимается ими совершенно иначе.
Уилкинс ответил что-то страшно умное и уместное, а в последующие несколько дней усиленно извинялся и раболепствовал перед каждой благородной особой, чьи слух и обоняние оскорбили недавние опыты. Гуку он велел мастерить заводные игрушки для августейших девочек. Тем временем Даниель и Чарльз Комсток должны были свернуть все дурнопахнущие эксперименты, достойно похоронить останки и вообще навести вокруг чистоту.
Даниелю пришлось несколько дней смотреть из-за забора на щеголей и щеголих, разбирать гербы на каретах и копаться в генеалогиях различных семейств, чтобы дойти до того, что Уилкинс понял с полуслова и полудвижения брови их высокородного хозяина.
Рядом с домом Комстока был разбит регулярный сад, куда по понятным причинам натурфилософов не пускали. Там прогуливались особы, расфранчённые на французский лад. Само по себе это было не примечательно: для некоторых людей прохаживаться по саду – такая же каждодневная работа, как для конюхов – выгребать навоз. Издали они все были на одно лицо, по крайней мере для Даниеля. Уилкинс, более искушённый в придворной жизни, время от времени смотрел на них в подзорную трубу. Подобно тому, как мореходец, чтобы сориентироваться в ночи, первым делом отыскивает Большую Медведицу, самое большое и яркое из созвездий, так и доктор Уилкинс для начала направлял стекло на одну определённую даму, что было несложно, поскольку она в обхвате вдвое превосходила остальных. Много фарлонгов разноцветных тканей пошло на её юбки, заметные издали, как французский полковой штандарт. Время от времени из дома выходил светловолосый господин и прогуливался с нею, словно луна, сопутствующая планете на небесных путях. Издали он казался Даниелю похожим на Исаака.
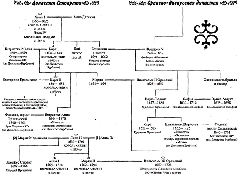
Даниель не знал, кто это, и боялся спросить, стыдясь своего невежества. Но однажды из Лондона прибыли кареты, из которых вышли несколько господ в адмиральских шляпах. Все сразу подошли к тому самому человеку, хотя прежде сняли шляпы и склонились в низком поклоне.
– Этот светловолосый, что гуляет по саду под руку с Большой Медведицей, уж не герцог ли Йоркский?
– Он самый, – отвечал Уилкинс. Доктор смотрел, затаив дыхание; на широко открытом глазу, устремленном в окуляр, лежали зеленоватые отсветы.
– И Верховный адмирал, – продолжал Даниель.
– У него много титулов, – ровным и спокойным тоном произнёс Уилкинс.
– Так эти в шляпах…
– Адмиралтейство, – коротко ответил Уилкинс, – или некая его часть. – Он отпрянул от трубы. Даниелю подумалось, что доктор приглашает его взглянуть, но нет: Уилкинс снял трубу с развилки дерева и сложил. Вероятно, Даниель увидел то, чего, по мнению Уилкинса, ему видеть не подобало.
Англия воевала с Голландией. Из-за чумы война поутихла, и Даниель начисто про неё забыл. Сейчас стояла зима. С наступлением холодов эпидемия пошла на убыль. Военные действия на море могли возобновиться не раньше весны, однако планировать кампанию следовало сейчас. Неудивительно, что Адмиралтейство прибыло на встречу с Верховным адмиралом, – удивительнее ему было бы не прибыть. Изумляло другое – какая Уилкинсу печаль, если он, Даниель, что-то увидел. Реставрация и вавилонское пленение в Кембридже убедили его в полном собственном ничтожестве, за исключением разве что области натурфилософской; впрочем, с каждым днём становилось всё яснее, что и здесь он полнейший ноль в сравнении с Гуком и Реном. Велика ли важность, если Даниель приметил флотилию адмиралов и заключил, что у Джона Комстока нашёл приют Джеймс, герцог Йоркский, брат Карла II и ближайший наследник трона?
Должно быть (заключил Даниель, шагая по облетевшему саду рядом с хмурым Уилкинсом), дело в том, что он – сын Дрейка. И хотя Дрейк – бывший застрельщик разгромленной и униженной секты – безвылазно сидит у себя дома, кто-то по-прежнему его опасается.
А коли не самого Дрейка, то его секты.
Однако секта распалась на тысячи клик и группировок. Кромвель в могиле, Дрейк – стар, Грегори Болструд казнён, его сын Нотт бежал на чужбину…
Остается одно. Они страшатся Даниеля.
– Что вас так насмешило? – спросил Уилкинс.
– Люди, – отвечал Даниель, – и то, что порою происходит у них в голове.
– Полагаю, вы это не обо мне?!
– Полноте, я не стал бы насмехаться над вышестоящими.
– И кто же, позвольте спросить, в этом поместье не выше вас?
Вопрос был трудный, и Даниель не ответил. Уилкинса его молчание, кажется, встревожило ещё больше.
– Я забыл, что вы – фанатик по рождению и воспитанию. – Что значило: «Вы не признаёте никого над собой, ведь так?»
– Напротив, я вижу, что вы никогда этого не забудете.
Однако мысли Уилкинса уже приняли новый оборот. Словно адмирал, лавирующий против ветра, он произвел некий ловкий манёвр и, после мгновенного замешательства, лёг на совершенно другой галс.
– Дама, которую вы видели, прежде звалась Анна Гайд. Она близкая родственница Комстока, то есть далёко не из простых. Однако недостаточно родовита для супруги герцога Йоркского. И всё же чересчур знатна, чтобы сбыть её с рук в какой-нибудь европейский монастырь, да и слишком тучна для столь дальнего путешествия. Она родила ему двух дочерей: Марию, затем Анну. Герцог в конце концов с нею обвенчался, хоть и не без труда. Поскольку Мария или Анна могут со временем унаследовать трон, этот брак стал вопросом государственной важности. Многих придворных уговорами, деньгами или угрозами заставили поклясться на стопке Библий, что они имели Анну Гайд сверху и снизу, на Британских островах и во Франции, в Нидерландах и на Шотландских нагорьях, в городах и весях, на кораблях и во дворцах, в постелях и в подвесных койках, в кустах, на клумбах, в отхожих местах и на чердаках, имели её пьяной и трезвой, поодиночке или всем скопом, сзади, спереди и с обоих боков, днём, ночью, во все фазы Луны и под всеми знаками Зодиака, а кроме того, доподлинно знают, что всё остальное время несчётное количество кузнецов, бродяг, французских жиголо, иезуитов, комедиантов, цирюльников и шорников предавались с ней подобным утехам. Тем не менее герцог Йоркский взял её за себя и запер в Сент-Джеймском дворце, где она разжирела, как некое энтомологическое диво в нашем подвале.
Разумеется, Даниель слышал много подобного дома – от людей, ищущих милости у Дрейка, отчего возникло странное впечатление, будто Уилкинс заискивает перед ним. Безусловно, совершенно ложное, поскольку Даниель не обладал ни властью, ни влиянием, ни перспективой когда-нибудь их заполучить.
Более правдоподобным представлялось другое объяснение: Уилкинс не боится Даниеля, а жалеет и пытается оградить от лишних опасностей, обучая, как жить в свете.
Если так, Даниелю следовало по меньшей мере усвоить урок, который Уилкинс пытался ему преподать. Принцессам, Марии и Анне, шёл соответственно четвёртый и второй год. Поскольку их мать – родственница Джона Комстока, им было естественно укрыться в его доме. Что объясняло слова графа: «Две из них – всё разом». Королевского рода, женского пола и малолетки.
Из-за тягостных ограничений, которые наложил на учёные изыскания хозяин поместья, пришлось провести длительный симпозиум на кухне. Уилкинс и Гук диктовали, а Даниель постепенно слабеющей рукой вел перечень опытов не шумных и не вонючих, но (с каждым часом) всё более причудливых. Гук поручил Даниелю чинить «сжимательную машину» – цилиндр с поршнем для сжатия и разрежения воздуха. Он считал, что воздух содержит некую субстанцию, поддерживающую жизнь и огонь; когда субстанция исчерпывается, они угасают. По этому поводу провели целый ряд опытов. В закупоренную стеклянную банку поместили мышь и горящую свечу и стали смотреть, что будет (свеча прожила дольше). Потом взяли большой бычий пузырь и, поднося его ко рту, поочерёдно дышали одним и тем же воздухом. Гук при помощи своей машины откачал воздух из стеклянного сосуда и заставил маятник колебаться в вакууме, а Чарльза – считать колебания. В первую же ясную зимнюю ночь Гук вынес на улицу телескоп и стал наблюдать Марс; он обнаружил на поверхности планеты тёмные и светлые пятна и с тех пор принялся следить за их смещением, чтобы определить длину марсианских суток. Он засадил Даниеля и Чарльза за шлифовку более мощных линз, а заодно выписал новые у Спинозы из Амстердама; потом все по очереди высматривали всё более мелкие детали лунной поверхности. И снова Гук видел то, чего не видел Даниель.
– Луна, как и Земля, обладает притяжением, – сказал он.
– Почему вы так решили?
– Горы и долины имеют устоявшуюся форму – какими бы зубчатыми они ни были, на всей планете нет ничего, что бы могло упасть под действием гравитации. Будь у меня линзы помощнее, я бы определил угол естественного откоса и рассчитал силу тяжести на Луне.
– Если Луна притягивает предметы, то должны притягивать и прочие небесные тела, – заметил Даниель[24].
Из Амстердама прибыл длинный свёрток. Даниель вскрыл его, ожидая увидеть очередную подзорную трубу, однако обнаружил тонкий прямой рог, покрытый спиральным рисунком.
– Что это? – спросил он Уилкинса.
Доктор оглядел предмет через очки и ответил с легкой досадой;
– Рог единорога.
– Но я думал, единорог – сказочное животное.
– Я ни одного не видел.
– Тогда откуда, как вы думаете, он взялся?
– Почём я знаю? – отвечал Уилкинс. – Мне известно лишь, что их можно приобрести в Амстердаме.
Даниель привык видеть, как герцог Йоркский выезжает на охоту со своими вельможными друзьями, – насколько сын Дрейка мог привыкнуть к такому зрелищу. Раз охотники проехали на расстоянии пущенной стрелы, и он услышал, как герцог обращается к спутнику – по-французски. Даниелю захотелось броситься и убить этого француза во французском наряде, которого прочат в английские короли. Он подавил порыв, вспомнив, как голова герцогского отца скатилась с плахи перед Дворцом для приёмов, и подумал про себя: «Ну и чудная же семейка!»
Кроме того, он уже не мог воскресить в душе прежней ненависти. Дрейк учил сыновей ненавидеть аристократов, при любом случае указывая на их привилегии. Доводы эти действовали безотказно не только в доме Дрейка, но и в любом другом, где собирались диссиденты, – отсюда Кромвель и всё последующее. Однако Кромвель сделал пуритан сильными, и сейчас Даниель чувствовал, как эта сила, словно самостоятельное живое существо, пытается перейти к нему, а следовательно, он тоже пользуется наследственными привилегиями.
Таблицы философского языка были закончены; по мирозданию прошлись частым бреднем, и теперь всё на небе и на земле оказалось в какой-нибудь из мириадов его ячей. Чтобы определить конкретную вещь, надо было лишь указать её положение в таблицах, выражаемое числами. Уилкинс придумал систему, по которой предметам давалось название, – разложив название на слоги, можно было найти ячейку в таблице и узнать, чему оно соответствует.
Уилкинс выпустил всю кровь из большого пса и влил в маленького. Через несколько минут песик уже бегал за палкой. Гук собрал часы новой конструкции. Некоторые мелкие детали он рассматривал под микроскопом и попутно обнаружил неведомые мельчайшие существа на тряпье, в которое эти детали были завёрнуты. Он зарисовал их, а потом три дня напролёт пытался подобрать средство против этих существ. Действеннее всего оказался флорентийский яд, который он готовил из табачных листьев.
Приехал сэр Роберт Мори, растёр кусок единорожьего рога в порошок, насыпал его кольцом и посадил в середину паука. Однако паук постоянно убегал. Мори объявил, что рог поддельный.
Однажды Уилкинс разбудил Даниеля в самый неурочный час, и они вдвоём на возу с сеном отправились по ночной дороге в эпсомскую тюрьму.
– Судьба благоволит нашему начинанию, – сказал Уилкинс. – Человека, которого мы собрались вопрошать, приговорили к повешению. Однако петля сдавила бы те органы, которые нас интересуют, – некоторые деликатные части горла. На нашу удачу, накануне казни приговорённый умер от кровавого поноса.
– Это будет какое-то дополнение к таблицам? – устало спросил Даниель.
– Не глупите – устройство горла известно давным-давно. Покойник поможет нам с истинным алфавитом.
– На котором будет писаться философский язык?
– Вам отлично это известно. Проснитесь, Даниель!
– Я спросил лишь потому, что вы составили уже несколько истинных алфавитов.
– Более или менее произвольных. Натурфилософ из какого-то другого мира, видя документ, написанный этими значками, решил бы, что читает не философский язык, а «Криптономикон»! Нам нужен систематический алфавит, в котором само начертание букв говорило бы об их произношении.
Слова эти вселили в Даниеля нехорошие предчувствия, которые полностью оправдались. К восходу солнца они уже забрали мертвеца из тюрьмы, доставили в коттедж и отрезали ему голову. Чарльза Комстока подняли с постели и велели ему разрезать покойника, дабы попрактиковаться в анатомии (а заодно избавиться от трупа). Тем временем Уилкинс и Гук присоединили большие мехи к дыхательному горлу мертвеца, чтобы пропускать воздух через связки. Даниелю поручили спилить верхнюю часть черепа и удалить мозг, чтобы он мог взяться рукой за нёбо, язык и прочие мягкие части гортани, ответственные за извлечение звуков. Таким образом, действуя все вместе – Даниель выступал в роли своеобразного марионеточника, Гук манипулировал губами и носом, Уилкинс качал мехи, – они заставили мертвеца заговорить. При определённом расположении губ, языка и проч. он произнёс очень отчётливое «О», от которого Даниелю, уже изрядно уставшему, стало чуточку не по себе. Уилкинс нарисовал О-образную букву по форме губ покойника. Эксперимент продолжался весь день. Когда кто-нибудь проявлял признаки усталости, Уилкинс напоминал, что голова, с таким трудом раздобытая, не вечна – как будто они сами этого не понимали. Им удалось извлечь тридцать четыре звука; для каждого Уилкинс придумал букву, схематически изображавшую положение губ, языка и проч. Наконец голову отдали Чарльзу Комстоку для дальнейших анатомических штудий, а Даниель лёг спать и увидел серию красочных кошмаров.
Наблюдения за Марсом навели Гука на мысли о небесных делах; по этому поводу они с Даниелем как-то утром выехали в фургоне, прихватив с собой ящик инструментов. Опыт, видимо, был важный, потому что Гук самолично уложил инструменты. Уилкинс убеждал их воспользоваться исполинским колесом и не докучать Комстоку просьбой о повозке. Уилкинс уверял, что колесо, приводимое в движение молодым и крепким Даниелем Уотерхаузом, может (в теории) легко пересекать поля, болота и даже неглубокие ручьи, так что они прибудут на место по прямой, а не окольными дорогами. Гук предложение отверг и выбрал фургон.
Они несколько часов добирались до некоего колодца, пробитого в сплошном меловом известняке. Уверяли, что глубина его больше трёхсот футов. При виде Гука местные крестьяне предпочли убраться подобру-поздорову; впрочем, они всё равно ничего полезного не делали, а предавались праздности и пьянству. Гук поручил Даниелю соорудить над колодцем прочную ровную платформу, а сам достал лучшие свои весы и принялся их калибровать. Он объяснил:
– Допустим гипотезы ради, что планеты удерживаются на орбитах не вихрями эфира, а силою тяготения.
– Да?
– Тогда путём вычислений мы убедимся, что это возможно лишь в одном случае: если притягательная сила уменьшается при удалении от самого центра притяжения.
– То есть вес тела уменьшается с подъёмом?
– И увеличивается с опусканием. – Гук выразительно глянул в сторону колодца.
– Ага! Значит, мы должны взвесить что-то на поверхности, а затем… – Даниель в ужасе осёкся.
Гук повернул скрюченную шею и пристально, вгляделся в Даниеля. Потом, впервые с начала их знакомства, рассмеялся.
– Вы боитесь, что я предлагаю спустить вас, Даниеля Уотерхауза, на триста футов в колодец, с весами, дабы вы что-то там взвесили? И что верёвка порвётся? – Снова смех. – Подумайте внимательнее о том, что я сказал.
– Да, конечно… так бы всё равно ничего не вышло, – проговорил глубоко сконфуженный Даниель.
– Почему? – вопросил Гук, словно намереваясь поймать его на противоречии.
– Мы взвешиваем при помощи гирь, и если на дне колодца предметы и впрямь становятся тяжелее, то ровно на столько же потяжелеют гири, и результат будет прежний, а мы ничего не установим.
– Помогите отмерить мне триста футов верёвки, – уже без улыбки распорядился Гук.
Они отмотали пятьдесят локтей, используя в качестве мерила палку длиной в локоть, и Гук привязал на верёвку тяжёлую медную гирю. Потом он водрузил весы на помост, сооружённый Даниелем, положил на одну чашку гирю вместе с верёвкой и тщательно её взвесил. Казалось, он никогда не закончит, тем более что налетающий время от времени ветерок сильно мешал работе. Часа два они убили на то, чтобы соорудить защитную холщовую ширму. Ещё полчаса Гук, глядя на стрелку весов в увеличительное стекло, подкладывал и убирал с чашки кусочки золотой фольги не тяжелее снежинок. Каждый раз стрелка начинала дрожать и успокаивалась только через несколько минут. Наконец Гук получил вес гири в фунтах, унциях, гранах и долях грана, а Даниель всё это записал. Затем Гук закрепил свободный конец верёвки в отверстии, которое заранее просверлил в чашке весов, и они с Даниелем, сменяясь, начали опускать гирю в колодец, на несколько дюймов за раз; если бы гиря качнулась, задела стенку и запачкалась мелом, она набрала бы лишний вес и опыт оказался бы испорчен. Когда они размотали все триста футов, Гук пошёл прогуляться, потому что гиря слегка покачивалась, а вместе с ней и чашка. Наконец она остановилась, и он снова смог взяться за увеличительное стекло и пинцет.
Короче, в тот день и у Даниеля было много времени на раздумья. Клетки, паучьи глаза, единорожьи рога, сжатый и разреженный воздух, необычные средства от глухоты, философские языки и летающие повозки были достаточно любопытны, но в последнее время интересы Гука переключились на дела небесные, и мысли Даниеля всё чаще устремлялись к однокашнику. Как доморощенный натурфилософ при дворе какого-нибудь европейского князька изнывает от желания проведать, что делают Уилкинс и Гук, так и Даниелю хотелось знать, чем занят Исаак в Вулсторпе.
– Вес одинаковый, – провозгласил наконец Гук. – Триста футов глубины не дают измеримой разницы.
Это был сигнал разобрать установку и убраться восвояси, чтобы крестьяне снова могли брать из колодца воду.
– Опыт ничего не доказывает, – сказал Гук, когда они в сумерках ехали домой. – Весы недостаточно точны. Однако если поместить маятниковые часы под стеклянный колпак, чтобы не влияли влажность и атмосферное давление… и на долгое время оставить в колодце… то разница в весе маятника проявит себя ускорением или замедлением хода.
– Но как узнать, что часы спешат или отстают? – спросил Даниель. – Их надо проверять по другим часам.
– Или по вращению Земли, – отвечал Гук. Вопрос Даниеля почему-то привёл его в мрачное настроение, и больше он ничего не сказал, пока, уже за полночь, они не вернулись в Эпсом.
Ночью температура стала опускаться ниже точки замерзания – пришло время градуировать термометры. Даниель, Чарльз и Гук уже несколько недель изготавливали их из длинных, в ярд, стеклянных трубок, которые заполняли подкрашенным кошенилью спиртом. Однако меток на них не было. В морозные ночи все трое закутывались потеплее, погружали термометры в бак с дистиллированной водой, а потом часами сидели, изредка помешивая воду, и ждали. Если внимательно слушать, можно было различить, как потрескивают, образуясь на поверхности, кристаллики льда; тогда они вставали и алмазом наносили метку на то место трубки, у которого остановилась красная жидкость.
Гук держал на улице квадратик чёрного бархата. Если днём шёл снег, он выносил микроскоп, клал бархат на предметный столик и разглядывал снежинки. Даниель, как и Гук, видел, что ни одна не повторяет другую. И вновь Гук заметил то, что упустил Даниель.
– У каждой конкретной снежинки все лучики одинаковы – почему так происходит? Почему каждый луч не принимает свою, отличную от других форму?
– Должно быть, тут действует некий центральный организующий принцип… – произнес Даниель.
– Это столь очевидно, что незачем было и говорить, – ответил Гук. – Будь у меня линзы получше, мы могли бы заглянуть в сердцевину снежинки и увидеть организующий принцип в действии.
Через неделю Гук вскрыл собаке грудную клетку и удалил рёбра, обнажив бьющееся сердце, однако лёгкие обмякли и, казалось, уже не работали.
Собака визжала почти как человек. Из дома Джона Комстока пришёл кто-то и низким красивым голосом осведомился, что происходит. Даниель, отупелый и полуслепой от усталости, принял его за мажордома.
– Я всё объясню в записке и присовокуплю извинения, – пробормотал Даниель, оглядываясь в поисках пера и вытирая окровавленные руки о штанины.
– И кому же вы адресуете записку, скажите на милость? – насмешливо проговорил мажордом. Впрочем, для мажордома он выглядел чересчур юным – ему явно ещё не исполнилось тридцати. Голова поблескивала короткой светлой щетиной – явный признак человека, который постоянно носит парик.
– Графу Эпсомскому.
– Почему бы не адресовать её герцогу Йоркскому?
– Хорошо, напишу герцогу.
– Тогда, может быть, обойдётесь без писанины и просто скажете мне, что вы тут, чёрт возьми, вытворяете?
Даниель возмутился было от такой дерзости, но тут, вглядевшись в посетителя, узнал герцога Йоркского.
Он должен был поклониться, однако от неожиданности лишь вздрогнул. Герцог движением руки показал, что принимает такой знак учтивости, а теперь, мол, давайте побыстрей к сути.
– Королевское общество, – начал Даниель, выставляя перед собой слово «королевское» как щит, – оживило мёртвую собаку при помощи крови другой собаки, а сейчас исследует искусственное дыхание.
– Мой брат любит ваше Общество, – сказал Джеймс, – вернее, своё Общество, коль скоро он объявил его королевским. – Даниель решил, что герцог объясняет, почему ещё не приказал отстегать их кнутом. – Меня интересуют звуки. Будут ли они продолжаться всю ночь?
– Напротив, они уже стихли, – заметил Даниель.
Лорд Верховный адмирал вслед за Даниелем прошёл на кухню, где Уилкинс и Гук вставили собаке в дыхательное горло бронзовую трубку, соединённую с теми же верными мехами, при помощи которых заставили говорить покойника.
– Раздувая мехи, они наполняют и опорожняют лёгкие, чтобы собака не умерла без воздуха, – объяснил Чарльз Комсток после того, как экспериментаторы поклонились герцогу. – Осталось лишь выяснить, как долго можно этим способом поддерживать в собаке жизнь. Мы с мистером Уотерхаузом должны по очереди раздувать мехи, пока мистер Гук не объявит, что эксперимент закончен.
При звуке Даниелевой фамилии герцог бросил на него взгляд.
– Если собака должна страдать во имя ваших исследований, благодарение Небесам, что она делает это тихо, – заметил герцог и повернулся к выходу. Остальные двинулись было его проводить, но он остановил их словами: «Продолжайте своё занятие». А вот Даниелю Джеймс сказал: «Позвольте вас на одно слово, мистер Уотерхауз», и тот вместе с герцогом вышел на луг, гадая, не вспорют ли ему сейчас живот, как несчастному псу.
Две из них – всё разом. Что бы это могло означать? Кто разом королевского рода, принадлежит к слабому полу и мал летами? У Карла II дочерей нет, по крайней мере законных. Елизавета, Зимняя королева, наплодила великое множество принцев и принцесс, но вряд ли бы кто-нибудь из них собрался в чумную Англию.
Комсток продолжал:
– Эти особы прибыли сюда в поисках убежища, они напуганы чумой и прочими ужасами, в том числе угрозой голландского вторжения. Сильное сжатие воздуха, которое мы с вами можем считать возможным средством от глухоты, воспринимается ими совершенно иначе.
Уилкинс ответил что-то страшно умное и уместное, а в последующие несколько дней усиленно извинялся и раболепствовал перед каждой благородной особой, чьи слух и обоняние оскорбили недавние опыты. Гуку он велел мастерить заводные игрушки для августейших девочек. Тем временем Даниель и Чарльз Комсток должны были свернуть все дурнопахнущие эксперименты, достойно похоронить останки и вообще навести вокруг чистоту.
Даниелю пришлось несколько дней смотреть из-за забора на щеголей и щеголих, разбирать гербы на каретах и копаться в генеалогиях различных семейств, чтобы дойти до того, что Уилкинс понял с полуслова и полудвижения брови их высокородного хозяина.
Рядом с домом Комстока был разбит регулярный сад, куда по понятным причинам натурфилософов не пускали. Там прогуливались особы, расфранчённые на французский лад. Само по себе это было не примечательно: для некоторых людей прохаживаться по саду – такая же каждодневная работа, как для конюхов – выгребать навоз. Издали они все были на одно лицо, по крайней мере для Даниеля. Уилкинс, более искушённый в придворной жизни, время от времени смотрел на них в подзорную трубу. Подобно тому, как мореходец, чтобы сориентироваться в ночи, первым делом отыскивает Большую Медведицу, самое большое и яркое из созвездий, так и доктор Уилкинс для начала направлял стекло на одну определённую даму, что было несложно, поскольку она в обхвате вдвое превосходила остальных. Много фарлонгов разноцветных тканей пошло на её юбки, заметные издали, как французский полковой штандарт. Время от времени из дома выходил светловолосый господин и прогуливался с нею, словно луна, сопутствующая планете на небесных путях. Издали он казался Даниелю похожим на Исаака.
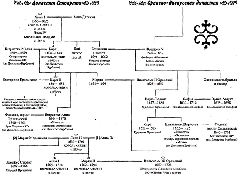
Даниель не знал, кто это, и боялся спросить, стыдясь своего невежества. Но однажды из Лондона прибыли кареты, из которых вышли несколько господ в адмиральских шляпах. Все сразу подошли к тому самому человеку, хотя прежде сняли шляпы и склонились в низком поклоне.
– Этот светловолосый, что гуляет по саду под руку с Большой Медведицей, уж не герцог ли Йоркский?
– Он самый, – отвечал Уилкинс. Доктор смотрел, затаив дыхание; на широко открытом глазу, устремленном в окуляр, лежали зеленоватые отсветы.
– И Верховный адмирал, – продолжал Даниель.
– У него много титулов, – ровным и спокойным тоном произнёс Уилкинс.
– Так эти в шляпах…
– Адмиралтейство, – коротко ответил Уилкинс, – или некая его часть. – Он отпрянул от трубы. Даниелю подумалось, что доктор приглашает его взглянуть, но нет: Уилкинс снял трубу с развилки дерева и сложил. Вероятно, Даниель увидел то, чего, по мнению Уилкинса, ему видеть не подобало.
Англия воевала с Голландией. Из-за чумы война поутихла, и Даниель начисто про неё забыл. Сейчас стояла зима. С наступлением холодов эпидемия пошла на убыль. Военные действия на море могли возобновиться не раньше весны, однако планировать кампанию следовало сейчас. Неудивительно, что Адмиралтейство прибыло на встречу с Верховным адмиралом, – удивительнее ему было бы не прибыть. Изумляло другое – какая Уилкинсу печаль, если он, Даниель, что-то увидел. Реставрация и вавилонское пленение в Кембридже убедили его в полном собственном ничтожестве, за исключением разве что области натурфилософской; впрочем, с каждым днём становилось всё яснее, что и здесь он полнейший ноль в сравнении с Гуком и Реном. Велика ли важность, если Даниель приметил флотилию адмиралов и заключил, что у Джона Комстока нашёл приют Джеймс, герцог Йоркский, брат Карла II и ближайший наследник трона?
Должно быть (заключил Даниель, шагая по облетевшему саду рядом с хмурым Уилкинсом), дело в том, что он – сын Дрейка. И хотя Дрейк – бывший застрельщик разгромленной и униженной секты – безвылазно сидит у себя дома, кто-то по-прежнему его опасается.
А коли не самого Дрейка, то его секты.
Однако секта распалась на тысячи клик и группировок. Кромвель в могиле, Дрейк – стар, Грегори Болструд казнён, его сын Нотт бежал на чужбину…
Остается одно. Они страшатся Даниеля.
– Что вас так насмешило? – спросил Уилкинс.
– Люди, – отвечал Даниель, – и то, что порою происходит у них в голове.
– Полагаю, вы это не обо мне?!
– Полноте, я не стал бы насмехаться над вышестоящими.
– И кто же, позвольте спросить, в этом поместье не выше вас?
Вопрос был трудный, и Даниель не ответил. Уилкинса его молчание, кажется, встревожило ещё больше.
– Я забыл, что вы – фанатик по рождению и воспитанию. – Что значило: «Вы не признаёте никого над собой, ведь так?»
– Напротив, я вижу, что вы никогда этого не забудете.
Однако мысли Уилкинса уже приняли новый оборот. Словно адмирал, лавирующий против ветра, он произвел некий ловкий манёвр и, после мгновенного замешательства, лёг на совершенно другой галс.
– Дама, которую вы видели, прежде звалась Анна Гайд. Она близкая родственница Комстока, то есть далёко не из простых. Однако недостаточно родовита для супруги герцога Йоркского. И всё же чересчур знатна, чтобы сбыть её с рук в какой-нибудь европейский монастырь, да и слишком тучна для столь дальнего путешествия. Она родила ему двух дочерей: Марию, затем Анну. Герцог в конце концов с нею обвенчался, хоть и не без труда. Поскольку Мария или Анна могут со временем унаследовать трон, этот брак стал вопросом государственной важности. Многих придворных уговорами, деньгами или угрозами заставили поклясться на стопке Библий, что они имели Анну Гайд сверху и снизу, на Британских островах и во Франции, в Нидерландах и на Шотландских нагорьях, в городах и весях, на кораблях и во дворцах, в постелях и в подвесных койках, в кустах, на клумбах, в отхожих местах и на чердаках, имели её пьяной и трезвой, поодиночке или всем скопом, сзади, спереди и с обоих боков, днём, ночью, во все фазы Луны и под всеми знаками Зодиака, а кроме того, доподлинно знают, что всё остальное время несчётное количество кузнецов, бродяг, французских жиголо, иезуитов, комедиантов, цирюльников и шорников предавались с ней подобным утехам. Тем не менее герцог Йоркский взял её за себя и запер в Сент-Джеймском дворце, где она разжирела, как некое энтомологическое диво в нашем подвале.
Разумеется, Даниель слышал много подобного дома – от людей, ищущих милости у Дрейка, отчего возникло странное впечатление, будто Уилкинс заискивает перед ним. Безусловно, совершенно ложное, поскольку Даниель не обладал ни властью, ни влиянием, ни перспективой когда-нибудь их заполучить.
Более правдоподобным представлялось другое объяснение: Уилкинс не боится Даниеля, а жалеет и пытается оградить от лишних опасностей, обучая, как жить в свете.
Если так, Даниелю следовало по меньшей мере усвоить урок, который Уилкинс пытался ему преподать. Принцессам, Марии и Анне, шёл соответственно четвёртый и второй год. Поскольку их мать – родственница Джона Комстока, им было естественно укрыться в его доме. Что объясняло слова графа: «Две из них – всё разом». Королевского рода, женского пола и малолетки.
Из-за тягостных ограничений, которые наложил на учёные изыскания хозяин поместья, пришлось провести длительный симпозиум на кухне. Уилкинс и Гук диктовали, а Даниель постепенно слабеющей рукой вел перечень опытов не шумных и не вонючих, но (с каждым часом) всё более причудливых. Гук поручил Даниелю чинить «сжимательную машину» – цилиндр с поршнем для сжатия и разрежения воздуха. Он считал, что воздух содержит некую субстанцию, поддерживающую жизнь и огонь; когда субстанция исчерпывается, они угасают. По этому поводу провели целый ряд опытов. В закупоренную стеклянную банку поместили мышь и горящую свечу и стали смотреть, что будет (свеча прожила дольше). Потом взяли большой бычий пузырь и, поднося его ко рту, поочерёдно дышали одним и тем же воздухом. Гук при помощи своей машины откачал воздух из стеклянного сосуда и заставил маятник колебаться в вакууме, а Чарльза – считать колебания. В первую же ясную зимнюю ночь Гук вынес на улицу телескоп и стал наблюдать Марс; он обнаружил на поверхности планеты тёмные и светлые пятна и с тех пор принялся следить за их смещением, чтобы определить длину марсианских суток. Он засадил Даниеля и Чарльза за шлифовку более мощных линз, а заодно выписал новые у Спинозы из Амстердама; потом все по очереди высматривали всё более мелкие детали лунной поверхности. И снова Гук видел то, чего не видел Даниель.
– Луна, как и Земля, обладает притяжением, – сказал он.
– Почему вы так решили?
– Горы и долины имеют устоявшуюся форму – какими бы зубчатыми они ни были, на всей планете нет ничего, что бы могло упасть под действием гравитации. Будь у меня линзы помощнее, я бы определил угол естественного откоса и рассчитал силу тяжести на Луне.
– Если Луна притягивает предметы, то должны притягивать и прочие небесные тела, – заметил Даниель[24].
Из Амстердама прибыл длинный свёрток. Даниель вскрыл его, ожидая увидеть очередную подзорную трубу, однако обнаружил тонкий прямой рог, покрытый спиральным рисунком.
– Что это? – спросил он Уилкинса.
Доктор оглядел предмет через очки и ответил с легкой досадой;
– Рог единорога.
– Но я думал, единорог – сказочное животное.
– Я ни одного не видел.
– Тогда откуда, как вы думаете, он взялся?
– Почём я знаю? – отвечал Уилкинс. – Мне известно лишь, что их можно приобрести в Амстердаме.
Монархи, хоть и сильны ратями, слабы доводами, ибо с колыбели приучены пользоваться своей волей, яко десницей, и разумом, яко шуйцей. Посему, вынужденные принять сражение подобного рода, они оказываются жалкими и ничтожными противниками.
Мильтон, предисловие к памфлету «Иконоборец»
Даниель привык видеть, как герцог Йоркский выезжает на охоту со своими вельможными друзьями, – насколько сын Дрейка мог привыкнуть к такому зрелищу. Раз охотники проехали на расстоянии пущенной стрелы, и он услышал, как герцог обращается к спутнику – по-французски. Даниелю захотелось броситься и убить этого француза во французском наряде, которого прочат в английские короли. Он подавил порыв, вспомнив, как голова герцогского отца скатилась с плахи перед Дворцом для приёмов, и подумал про себя: «Ну и чудная же семейка!»
Кроме того, он уже не мог воскресить в душе прежней ненависти. Дрейк учил сыновей ненавидеть аристократов, при любом случае указывая на их привилегии. Доводы эти действовали безотказно не только в доме Дрейка, но и в любом другом, где собирались диссиденты, – отсюда Кромвель и всё последующее. Однако Кромвель сделал пуритан сильными, и сейчас Даниель чувствовал, как эта сила, словно самостоятельное живое существо, пытается перейти к нему, а следовательно, он тоже пользуется наследственными привилегиями.
Таблицы философского языка были закончены; по мирозданию прошлись частым бреднем, и теперь всё на небе и на земле оказалось в какой-нибудь из мириадов его ячей. Чтобы определить конкретную вещь, надо было лишь указать её положение в таблицах, выражаемое числами. Уилкинс придумал систему, по которой предметам давалось название, – разложив название на слоги, можно было найти ячейку в таблице и узнать, чему оно соответствует.
Уилкинс выпустил всю кровь из большого пса и влил в маленького. Через несколько минут песик уже бегал за палкой. Гук собрал часы новой конструкции. Некоторые мелкие детали он рассматривал под микроскопом и попутно обнаружил неведомые мельчайшие существа на тряпье, в которое эти детали были завёрнуты. Он зарисовал их, а потом три дня напролёт пытался подобрать средство против этих существ. Действеннее всего оказался флорентийский яд, который он готовил из табачных листьев.
Приехал сэр Роберт Мори, растёр кусок единорожьего рога в порошок, насыпал его кольцом и посадил в середину паука. Однако паук постоянно убегал. Мори объявил, что рог поддельный.
Однажды Уилкинс разбудил Даниеля в самый неурочный час, и они вдвоём на возу с сеном отправились по ночной дороге в эпсомскую тюрьму.
– Судьба благоволит нашему начинанию, – сказал Уилкинс. – Человека, которого мы собрались вопрошать, приговорили к повешению. Однако петля сдавила бы те органы, которые нас интересуют, – некоторые деликатные части горла. На нашу удачу, накануне казни приговорённый умер от кровавого поноса.
– Это будет какое-то дополнение к таблицам? – устало спросил Даниель.
– Не глупите – устройство горла известно давным-давно. Покойник поможет нам с истинным алфавитом.
– На котором будет писаться философский язык?
– Вам отлично это известно. Проснитесь, Даниель!
– Я спросил лишь потому, что вы составили уже несколько истинных алфавитов.
– Более или менее произвольных. Натурфилософ из какого-то другого мира, видя документ, написанный этими значками, решил бы, что читает не философский язык, а «Криптономикон»! Нам нужен систематический алфавит, в котором само начертание букв говорило бы об их произношении.
Слова эти вселили в Даниеля нехорошие предчувствия, которые полностью оправдались. К восходу солнца они уже забрали мертвеца из тюрьмы, доставили в коттедж и отрезали ему голову. Чарльза Комстока подняли с постели и велели ему разрезать покойника, дабы попрактиковаться в анатомии (а заодно избавиться от трупа). Тем временем Уилкинс и Гук присоединили большие мехи к дыхательному горлу мертвеца, чтобы пропускать воздух через связки. Даниелю поручили спилить верхнюю часть черепа и удалить мозг, чтобы он мог взяться рукой за нёбо, язык и прочие мягкие части гортани, ответственные за извлечение звуков. Таким образом, действуя все вместе – Даниель выступал в роли своеобразного марионеточника, Гук манипулировал губами и носом, Уилкинс качал мехи, – они заставили мертвеца заговорить. При определённом расположении губ, языка и проч. он произнёс очень отчётливое «О», от которого Даниелю, уже изрядно уставшему, стало чуточку не по себе. Уилкинс нарисовал О-образную букву по форме губ покойника. Эксперимент продолжался весь день. Когда кто-нибудь проявлял признаки усталости, Уилкинс напоминал, что голова, с таким трудом раздобытая, не вечна – как будто они сами этого не понимали. Им удалось извлечь тридцать четыре звука; для каждого Уилкинс придумал букву, схематически изображавшую положение губ, языка и проч. Наконец голову отдали Чарльзу Комстоку для дальнейших анатомических штудий, а Даниель лёг спать и увидел серию красочных кошмаров.
Наблюдения за Марсом навели Гука на мысли о небесных делах; по этому поводу они с Даниелем как-то утром выехали в фургоне, прихватив с собой ящик инструментов. Опыт, видимо, был важный, потому что Гук самолично уложил инструменты. Уилкинс убеждал их воспользоваться исполинским колесом и не докучать Комстоку просьбой о повозке. Уилкинс уверял, что колесо, приводимое в движение молодым и крепким Даниелем Уотерхаузом, может (в теории) легко пересекать поля, болота и даже неглубокие ручьи, так что они прибудут на место по прямой, а не окольными дорогами. Гук предложение отверг и выбрал фургон.
Они несколько часов добирались до некоего колодца, пробитого в сплошном меловом известняке. Уверяли, что глубина его больше трёхсот футов. При виде Гука местные крестьяне предпочли убраться подобру-поздорову; впрочем, они всё равно ничего полезного не делали, а предавались праздности и пьянству. Гук поручил Даниелю соорудить над колодцем прочную ровную платформу, а сам достал лучшие свои весы и принялся их калибровать. Он объяснил:
– Допустим гипотезы ради, что планеты удерживаются на орбитах не вихрями эфира, а силою тяготения.
– Да?
– Тогда путём вычислений мы убедимся, что это возможно лишь в одном случае: если притягательная сила уменьшается при удалении от самого центра притяжения.
– То есть вес тела уменьшается с подъёмом?
– И увеличивается с опусканием. – Гук выразительно глянул в сторону колодца.
– Ага! Значит, мы должны взвесить что-то на поверхности, а затем… – Даниель в ужасе осёкся.
Гук повернул скрюченную шею и пристально, вгляделся в Даниеля. Потом, впервые с начала их знакомства, рассмеялся.
– Вы боитесь, что я предлагаю спустить вас, Даниеля Уотерхауза, на триста футов в колодец, с весами, дабы вы что-то там взвесили? И что верёвка порвётся? – Снова смех. – Подумайте внимательнее о том, что я сказал.
– Да, конечно… так бы всё равно ничего не вышло, – проговорил глубоко сконфуженный Даниель.
– Почему? – вопросил Гук, словно намереваясь поймать его на противоречии.
– Мы взвешиваем при помощи гирь, и если на дне колодца предметы и впрямь становятся тяжелее, то ровно на столько же потяжелеют гири, и результат будет прежний, а мы ничего не установим.
– Помогите отмерить мне триста футов верёвки, – уже без улыбки распорядился Гук.
Они отмотали пятьдесят локтей, используя в качестве мерила палку длиной в локоть, и Гук привязал на верёвку тяжёлую медную гирю. Потом он водрузил весы на помост, сооружённый Даниелем, положил на одну чашку гирю вместе с верёвкой и тщательно её взвесил. Казалось, он никогда не закончит, тем более что налетающий время от времени ветерок сильно мешал работе. Часа два они убили на то, чтобы соорудить защитную холщовую ширму. Ещё полчаса Гук, глядя на стрелку весов в увеличительное стекло, подкладывал и убирал с чашки кусочки золотой фольги не тяжелее снежинок. Каждый раз стрелка начинала дрожать и успокаивалась только через несколько минут. Наконец Гук получил вес гири в фунтах, унциях, гранах и долях грана, а Даниель всё это записал. Затем Гук закрепил свободный конец верёвки в отверстии, которое заранее просверлил в чашке весов, и они с Даниелем, сменяясь, начали опускать гирю в колодец, на несколько дюймов за раз; если бы гиря качнулась, задела стенку и запачкалась мелом, она набрала бы лишний вес и опыт оказался бы испорчен. Когда они размотали все триста футов, Гук пошёл прогуляться, потому что гиря слегка покачивалась, а вместе с ней и чашка. Наконец она остановилась, и он снова смог взяться за увеличительное стекло и пинцет.
Короче, в тот день и у Даниеля было много времени на раздумья. Клетки, паучьи глаза, единорожьи рога, сжатый и разреженный воздух, необычные средства от глухоты, философские языки и летающие повозки были достаточно любопытны, но в последнее время интересы Гука переключились на дела небесные, и мысли Даниеля всё чаще устремлялись к однокашнику. Как доморощенный натурфилософ при дворе какого-нибудь европейского князька изнывает от желания проведать, что делают Уилкинс и Гук, так и Даниелю хотелось знать, чем занят Исаак в Вулсторпе.
– Вес одинаковый, – провозгласил наконец Гук. – Триста футов глубины не дают измеримой разницы.
Это был сигнал разобрать установку и убраться восвояси, чтобы крестьяне снова могли брать из колодца воду.
– Опыт ничего не доказывает, – сказал Гук, когда они в сумерках ехали домой. – Весы недостаточно точны. Однако если поместить маятниковые часы под стеклянный колпак, чтобы не влияли влажность и атмосферное давление… и на долгое время оставить в колодце… то разница в весе маятника проявит себя ускорением или замедлением хода.
– Но как узнать, что часы спешат или отстают? – спросил Даниель. – Их надо проверять по другим часам.
– Или по вращению Земли, – отвечал Гук. Вопрос Даниеля почему-то привёл его в мрачное настроение, и больше он ничего не сказал, пока, уже за полночь, они не вернулись в Эпсом.
Ночью температура стала опускаться ниже точки замерзания – пришло время градуировать термометры. Даниель, Чарльз и Гук уже несколько недель изготавливали их из длинных, в ярд, стеклянных трубок, которые заполняли подкрашенным кошенилью спиртом. Однако меток на них не было. В морозные ночи все трое закутывались потеплее, погружали термометры в бак с дистиллированной водой, а потом часами сидели, изредка помешивая воду, и ждали. Если внимательно слушать, можно было различить, как потрескивают, образуясь на поверхности, кристаллики льда; тогда они вставали и алмазом наносили метку на то место трубки, у которого остановилась красная жидкость.
Гук держал на улице квадратик чёрного бархата. Если днём шёл снег, он выносил микроскоп, клал бархат на предметный столик и разглядывал снежинки. Даниель, как и Гук, видел, что ни одна не повторяет другую. И вновь Гук заметил то, что упустил Даниель.
– У каждой конкретной снежинки все лучики одинаковы – почему так происходит? Почему каждый луч не принимает свою, отличную от других форму?
– Должно быть, тут действует некий центральный организующий принцип… – произнес Даниель.
– Это столь очевидно, что незачем было и говорить, – ответил Гук. – Будь у меня линзы получше, мы могли бы заглянуть в сердцевину снежинки и увидеть организующий принцип в действии.
Через неделю Гук вскрыл собаке грудную клетку и удалил рёбра, обнажив бьющееся сердце, однако лёгкие обмякли и, казалось, уже не работали.
Собака визжала почти как человек. Из дома Джона Комстока пришёл кто-то и низким красивым голосом осведомился, что происходит. Даниель, отупелый и полуслепой от усталости, принял его за мажордома.
– Я всё объясню в записке и присовокуплю извинения, – пробормотал Даниель, оглядываясь в поисках пера и вытирая окровавленные руки о штанины.
– И кому же вы адресуете записку, скажите на милость? – насмешливо проговорил мажордом. Впрочем, для мажордома он выглядел чересчур юным – ему явно ещё не исполнилось тридцати. Голова поблескивала короткой светлой щетиной – явный признак человека, который постоянно носит парик.
– Графу Эпсомскому.
– Почему бы не адресовать её герцогу Йоркскому?
– Хорошо, напишу герцогу.
– Тогда, может быть, обойдётесь без писанины и просто скажете мне, что вы тут, чёрт возьми, вытворяете?
Даниель возмутился было от такой дерзости, но тут, вглядевшись в посетителя, узнал герцога Йоркского.
Он должен был поклониться, однако от неожиданности лишь вздрогнул. Герцог движением руки показал, что принимает такой знак учтивости, а теперь, мол, давайте побыстрей к сути.
– Королевское общество, – начал Даниель, выставляя перед собой слово «королевское» как щит, – оживило мёртвую собаку при помощи крови другой собаки, а сейчас исследует искусственное дыхание.
– Мой брат любит ваше Общество, – сказал Джеймс, – вернее, своё Общество, коль скоро он объявил его королевским. – Даниель решил, что герцог объясняет, почему ещё не приказал отстегать их кнутом. – Меня интересуют звуки. Будут ли они продолжаться всю ночь?
– Напротив, они уже стихли, – заметил Даниель.
Лорд Верховный адмирал вслед за Даниелем прошёл на кухню, где Уилкинс и Гук вставили собаке в дыхательное горло бронзовую трубку, соединённую с теми же верными мехами, при помощи которых заставили говорить покойника.
– Раздувая мехи, они наполняют и опорожняют лёгкие, чтобы собака не умерла без воздуха, – объяснил Чарльз Комсток после того, как экспериментаторы поклонились герцогу. – Осталось лишь выяснить, как долго можно этим способом поддерживать в собаке жизнь. Мы с мистером Уотерхаузом должны по очереди раздувать мехи, пока мистер Гук не объявит, что эксперимент закончен.
При звуке Даниелевой фамилии герцог бросил на него взгляд.
– Если собака должна страдать во имя ваших исследований, благодарение Небесам, что она делает это тихо, – заметил герцог и повернулся к выходу. Остальные двинулись было его проводить, но он остановил их словами: «Продолжайте своё занятие». А вот Даниелю Джеймс сказал: «Позвольте вас на одно слово, мистер Уотерхауз», и тот вместе с герцогом вышел на луг, гадая, не вспорют ли ему сейчас живот, как несчастному псу.
