Страница:
---------------------------------------------------------------
© Copyright Григорий Свирский
Москва, "Советский писатель", 1962.1964.
Издание третье, впервые бесцензурное
WWW: http://members.rogers.com/gsvirsky/
---------------------------------------------------------------
РОМАН.
Москва, "Советский писатель",1962.1964. Издание третье, впервые
бесцензурное
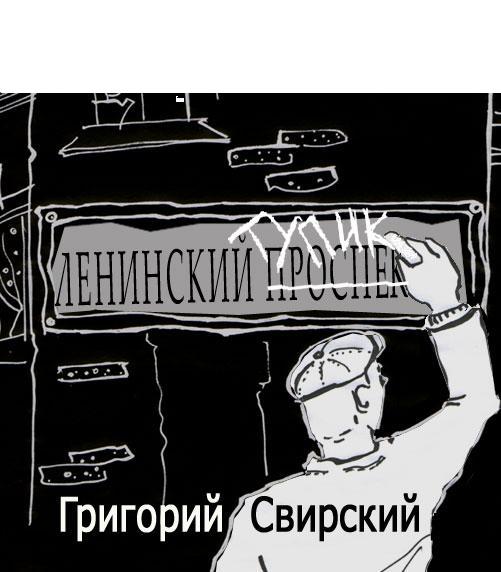
Что же вы молчите?
Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович
Народ безмолвствует".
А. Пушкин, "Борис Годунов
Полвека прошло с того дождливого дня, когда я впервые услышал трубный
басище Ермакова.
-Митрич! Дамочка на спичках катит. Неси резиновые сапоги!
Затем прикатила "дамочка". Круглое белое лицо молочницы рекордистки с
обложки журнала "Огонек". За ней две машины заискивающей перед ней челяди и
охраны. "Дамочка" оказалась членом Политбюро ЦК КПСС Екатериной Фурцевой.
- Что ж загодя не звякнули мне ? - так встретил ее Ермаков.- Я б
мусоришко убрал. Марафет навел...
Твердое чувство независимости и собственного достоинства Ермакова, не
сгибавшегося ни перед кем, притянули к нему мою душу, как и душу моего
героя. Больше года провел я на стройке Заречья, чуть не спился, совершенно
не пьющий человек, так-как Ермаков каждый раз ставил на стол, перед началом
нашего откровенного общения, два гладких стакана...
-Что-то зачастили вы к нам, ученые-печеные, - сказал не без удивления -
У одного даже два высших образования. А пошел в рабочие...
- Гебист?
-Фольклорист!
- Ну, это в нашем веке одно и тоже!
Посмеялся, повторил уважительно: - Фольклорист! Гебисты мне не
представляются. Шуршат поодаль. Познакомьтесь с ним. Кажись, хороший парень.
Учен - до ужаса! В древних Афинах живет, как в собственном доме. Может, и
подружитесь!
Когда я решил написать книгу о Ермакове, он потребовал, чтобы я сложил,
и непременно своими руками, хотя бы одну стенку. "Чтоб понял, каково этим
ребяткам - на ветру и в грязи".
Как же хохотали каменщики над дураком-писателем, хохотали и в одиночку,
и "всем миром", но показывали, учили, как укладывать кирпичи и стелить
расствор. А на прощанье зубоскалили уж по доброму: "Чтоб под своей стенкой
никогда не ходили. Не дай Бог!"
Издательство "СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ", куда отнес рукопись, было шокировано
откровениями главного героя романа каменщика Александра СТАРОВЕРОВА,
депутата Верховного Совета СССР, который, по его словам, посажен в Верховном
рядом с властями "ЗАМЕСТО МЕБЕЛИ"
Главный редактор завершила свой отзыв так: "Рукопись Григория Свирского
- о бесправии и молчании рабочего в нашем государстве. Она вряд ли может
быть предложена нашему читателю. Роман хорошо написан, но тем он опаснее."
"Если столь еретическую книгу издать, мы автора затем не остановим!" -
предрек второй, озабоченный, как видим, лишь тем, чтобы еретика остановили.
Другая половина отзывов, заказанная издательством
писателям-профессионалам, чаще всего, не сосредотачивалась на рискованной
теме, а радовалась выразительному, сочному русскому языку героев,
сохранившемуся лишь в дальних деревнях, откуда и доставляли "по оргнабору"
рабочих на московские стройки.
С годами у рукописи набралось восемнадцать положительных отзывов, а
издатели откладывали и откладывали выпуск книги. "Ищут собакина", который бы
зарубил крамолу, - объяснил мне Константин Паустовский.
Когда узнал, что рукопись передана новому редактору - отставному
полковнику Алексею Ивановичу Крутикову , бывшему начальнику издательства
Министерства Обороны, я сказал жене, что это - конец..
Отставные полковники на Руси - народ самый консервативный. Как правило,
закоренелые сталинисты, и, отправляясь к новому редактору, захватил рюкзак -
для отверженных страничек.
О полковнике Алексее Ивановиче Крутикове подробно рассказано в моей
повести "Прощание с Россией", и потому здесь буду краток.
Прочитав рукопись, полковник спросил меня: - На какой улице строят дома
ваши герои, лишенные и человеческих и гражданских прав?
Я развел руками: - Это же роман. А в романе, как вы знаете...
- Пусть они строят на Ленинском проспекте! - прервал Алексей Иванович
мои литературоведческие изыски. И потому роман назовем "ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ".
Мое лицо, видимо, стало кислым, и он заметил с ядовитым сарказмом: "Уж
не возражали бы вы, диссидент, назвать ее "УКРАДЕННАЯ ВЛАСТЬ" или того пуще
"ЛЕНИНСКИЙ ТУПИК".
Эта перспектива - даже в моем сознании- еще настолько не
просвечивалась, что я расхохотался...
- И так!- строго заключил полковник "ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ". Все!- И,
улыбнувшись, растолковал: - Это единственная возможность прорыва честной
книги. Цензура будет читать книгу с таким названием, держа руки по швам...
Когда я, наконец, согласился, он добавил: - В этом случае, нам придется
выполнить лишь категорическое требование издательства. Убрать имена вождей и
прохвостов. Все остальное остается, кроме трех страничек о страшном
трагическом случае на стройке: ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ ведь это не только улица,
но и символ ОКТЯБРЯ 1917. У символа столь жутких трагических страниц быть не
может...
Прошли годы, автора вполне могли бы остановить, но время - не
остановишь! Когда книга, после пятилетних мытарств, поступила в магазины, ее
суть была уже публично, на всю страну, выражена смелым человеком
писателем-историком Степаном Злобиным на странице отнюдь не смелой столичной
"Литературной газеты":
" Почему молчит рабочий в рабочем государстве?" - так называлась
первая, на полстаницы, рецензия, вызвавшая затем поток статей и рецензий.
В предлагаемом ныне первом бесцензурном издании, естественно,
возвращены на свои места размышления писателя, возмущавшие самоуправную
власть, а так же "запретные" в те годы имена "веселого путаника" Никиты
Хрущева и мрачных генералов КГБ, вершивших судьбами и самой жизнью героев
этой книги.
Отложенные редактором до лучших времен три странички, конечно, тоже
поставлены. Какие? Читатель, надеюсь, и сам поймет. Не маленький он у нас,
читатель.
Поезд прибыл из Воронежа.
Нюра вышла из вагона, беспокойно озираясь, худющая, взъерошенная,
похожая на воробышка, выпавшего из гнезда.
Ее никто не встречал.
Одной рукой она покачивала ребенка, завернутого поверх одеяла в
кашемировый платок цвета весенней травы. Другой держала самодельный, из
некрашеной фанеры, чемодан. Она спускалась по широким каменным ступеням
перрона, шаркая огромными катанками с синими печатями на голенищах.
Сырой мартовский ветер трепал флаги с траурными лентами. Флаги снимали.
-- Умер кто? -- спросила Нюра дежурного в высокой фуражке.
Он не ответил.
Огромный, на белом полотне, портрет Сталина с разбитой в
нижнем углу рамой был прислонен лицевой стороной к стене. Дежурный
крикнул кому-то: - Как опустили?! С перепою, что ли? Да еще год назад вас бы
за такие дела...
Вздохнув, Нюра огляделась по сторонам. Уборщица на лестнице совком
собирала мусор. Она не знала, где находится трест Ермака, и Нюра стала
спрашивать прохожих.
"Ермака"? - переспросил мальчик со школьным ранцем за спиной, - это
который Сибирь завоевал?
Ну, никто, решительно никто не слышал о таком тресте. Кто-то
поинтересовался, не старинное ли это наименование -- трест Ермака?
Нюра не знала иного названия. Она твердила, удивляясь неведению
окружающих и все более пугаясь своего неведения: -- Трест Ермака!.. Да,
Ермака!
Нюру провели к справочному киоску. К счастью, за стеклянной стенкой
киоска оказалась женщина толковая и быстрая. -- А что делает ваш Ермак? --
быстро спросила она, скосив глаза на ребенка. -- Печет пироги? Чинит
ботинки? Ведает домами младенца?
-- Нет! -- Нюра инстинктивным движением прижала ребенка к себе. --
Строит он. Жилье.
Женщина полистала свой справочник, позвонила в какой-то строительный
трест и спустя минуту-две выдала в окошко квитанцию, на обратной стороне
которой был написан адрес.
Дом с синей вывеской "МОССТРОЙ No3" Нюра разглядела сразу. Возле него
толпились озабоченные люди в зеленых стеганках, с буханками черного хлеба и
чемоданами в руках. Веснушчатый парень в шинели без погон, показавшийся из
дверей треста, пригнулся к ногам одной из девушек:
-- Чулки, мордва, сама вязала?
Девушка взвизгнула и присела на корточки, прикрывая полами брезентовой
накидки ноги в белых с черными поперечными полосами грубых чулках. Другая,
побойчее оттолкнула веснушчатого, потеснив его к стене.
Нюра поставила чемодан и, приблизясь к той, что побойчее, протянула
певучим акающим голоском, в котором звучала тоскливая надежда:
-- Вы старшая? Нельзя нас с сыночком в вашу артель? А? Я на руку
крепкая, на ногу легкая.
Ее тут же окружили, принялись расспрашивать. Девушка в брезентовой
накидке взяла у нее сына, покачала его на руках, напевая вполголоса:
"Улю-улю, маленький".
И едва не поплатилась за это. Старик, проходивший мимо, задержался в
дверях треста.
-- Вербовщик разве не предупреждал, что с дитем не оформляем? .. Не
твой?! Ты не заливай! Родила и открещиваешься. Тут своих гибель. Рабочих
селить негде.
С криком встретил старик девушку в накидке и позднее, когда она
переступила порог отдела кадров.
--Вертайся в свой Лемдяй! Все!
Нюра -- она ждала в очереди возле двери -- едва не попятилась в темный
угол, готовая прижаться к полу, как, бывало, прижималась к грядке, когда в
ушах нарастал ужасающий вой авиабомбы.
--За что ЕГО-ТО -- вскрикнула она тоненьким голосом, в котором
слышались слезы. Перехватив поудобнее сына, она попятилась к выходу.
Путь ей преградила старшая: -- Жди тут!
Если б не вмешательство старшой, кто знает, как обернулось бы дело.
Когда старшая возвратилась из отдела кадров, тощее, землистого цвета лицо ее
было жестким. Отчетливее проступила темная полоса рубца,-- видно, след
военных лет. На ломаном русском языке она наказала Нюре, как говорить с
управляющим. Ей, Нюре, отдельного угла не надо. Ее берут в общежитие, в свою
комнату, новички, которые из Мордовии. По оргнабору.
В узкой, как коридор, приемной управляющего Ермакова, расположенной
этажом выше, не было ни одного стула. Остро пахло лаком для ногтей, который
наносила на свои растопыренные заскорузлые пальцы, пальцы вчерашней
подсобницы, завитая мелкими колечками секретарша.
-- Все на корпусах, -- не подняв глаз, разъяснила она..
Нюра осталась ждать. Мимо то и дело сновали озабоченные люди с бумагами
в руках. Какой-то толстяк, проходивший по коридору без пиджака, со счетами в
руках, задержался возле Нюры, вздохнул:
--Всему на свете бабки подбиты. Одни слезы неучтенные...
Она проводила его неприязненным взглядом: жалеет?
В утешителях Нюра не нуждалась с прошлого лета. Те дни были памятны ей
час за часом.
... Цвел тополь, и земля была словно в вате. Пух ложился и на
сколоченную наспех в саду детского дома сцену и на шелковые, подпоясанные
шнурами с серебристыми кистями до колен рубашки парней, которые ("Как не
видят!" -- удивилась Нюра) ступали желтыми лаптями прямо по нежным пушинкам.
Вслед за ними на сцену выплыли две жарко нарумяненные молодки, завели светло
и задумчиво:
Летят у-утки.,.
А из-за спин молодок неслось басовитое и приглушенное, точно эхо:
Летят у-утки
И-и два-а гу-уся.
Молодки улыбались, вовсе не думая о том, как звучит в саду, полном
прильнувших друг к другу сирот, старинное воронежское "страдание", которым
они, по традиции, открыли концерт.
Кого лю-ублю....
Молодки грустнели, кручинились. :
Кого лю-ублю, -- нагнетали басы.
И вдруг, опять в два женских голоса, высоко и с той пронзительной
тоской, которая заставит притихнуть любого:
Не дожду-уся...
"Кого люблю, не дождуся..."- Нюра крепилась, кусая платок, но возле нее
кто-то всплакнул. Она закрыла ладошками лицо. И навзрыд....
Утром она бежала с охапкой березовых веников -- козлят кормить.
Навстречу ей ступали чьи то грубые, из желтой кожи ботинки.
Она подняла глаза, лишь когда ее окликнули.
Перед ней стоял незнакомый юноша лет двадцати трех, в городском
пиджаке, с мотоциклетным насосом в руке.Девочка, ты чья? -- спросил он.
Детдомовская.
Из каких мест?
-- Знала бы...
Юноша пристально вглядывался в нее.
-- Как тебя зовут?.. Нюра Староверова?! А я все думаю: на кого ты
похожа? На свою мать и похожа!.. Мы соседями были до войны. Ты и мать - две
капли воды... Такие же глазищи. А скулы староверовские!
Я тебя вчера приметил, на концерте, когда ты... ну, расстроилась.
Нюра сама не могла понять, что произошло с ней.
Десять лет, десять долгих лет, день за днем, Нюра ждала, когда за ней
придут -- отец, мать, брат, родные люди. Детдомовцев чуть не каждую неделю
выстраивали на линейке. Нюра стояла с окаменелым лицом.
Взрослые, чаще всего мужчины в шинелях без погон, проходили мимо и
мимо.
Правда, как-то один из них вдруг задержался возле нее. Нюра не решалась
поднять глаза. Она видела только зеленые обмотки и разбитые ботинки с
бечевками вместо шнурков, вдохнула запах дымка, пота, махорки -- было ли что
роднее этого запаха!
-- Гляньте, кака чернявенька! - услышала удивленное.-- Тебя, дочка, не
у цыган подобрали?
"Может, и впрямь у цыган?" -- с. тех пор думала Нюра и плакала: никто
ее не ищет...
.. .Отыскали ее. Отыскали!
С семи лет она гадала: какой он, близкий человек? Вот он какой,
оказывается. В рабочих ботинках, как отец. Каменщик, как отец. Голубоглазка.
Шураня...
У Шурани была мотоциклетка. За час домчали Нюру в полусожженное, за
рекой, село Перевоз, к ее хате. Там жил чужой старик. Гончар. Он помнил и
Нюру и ее погибших родителей.
Нюра теперь ездила в Перевоз почти каждый день. Помогала старику,
таскала в ведре песок, месила глину. И Шураня был тут же... Вечером он снова
сажал Нюру на заднее седло. Нюра обхватывала Шураню покрепче, обеими руками,
они мчались по лесным тропинкам, и ветки осинника, хлестали их по лицам.
Как-то Шураня выключил мотор на полянке; стало так тихо, что Нюра
расслышала, как шуршит листьями ветер и где-то на дальних болотах плачет
чибис.
Она сидела и слушала жалобы чибиса, забыв разжать руки, которыми
обнимала Шураню, и вдыхая его бензиновый, въедливый запах...
Через месяц Шура уехал. Прислал, как обещал, карточки с городскими
видами.
Пришла осень. Оводами облепляли по вечерам Нюру нянюшки, поварихи.
Подсаживались к ней на скамеечку.
-- Им не рожать, пакостникам! Кому ты теперь нужна? ..- С этого обычно,
начиналось. А завершалось часа через два советами беспременно поехать к
нему, "предъявить ему, городскому, мандат", "шмякнуть под ноги ребятеночка".
Нюра молчала. Не убеждать же их, что он не пакостник. Угла своего у
него нет. На койке мается. Прибьется к своему углу -- подаст телеграмму.
Обида шевельнулась вместе с ребенком. "Не напишет. Не
поинтересуется..."
Нюра начала копить деньги. На билет. "Не напишет. Не поинтересуется".
Сбила на чердаке, втайне от всех, чемодан. Рожать решила в городе, поближе к
Шуре.
Но уехать не успела. Когда в сельском роддоме к Нюре поднесли
розовенького, орущего Шураню, она, обмирая в душе, попросила санитарку,
отъезжавшую в Воронеж, прислать оттуда телеграмму в детский дом, как бы от
Шуры: "Приезжай". Директор детдома, властная старуха, прозванная
воспитанниками "Кабанихой", по-бабьи всхлипнула над телеграммой и вычеркнула
в графе "откуда" слово Воронеж: дознаются подруги, что за телеграмма...
На станции Нюра, чтобы не разреветься, то и дело принималась ободрять
директора:
-- Не пропадем! Наймемся к Ермаку. Где Шура. А там... как сложится.
Ермаков все еще не приезжал. Руки Нюры, державшие сына, казалось,
омертвели: вот-вот пальцы расцепятся.
Она прислонилась спиной и затылком к свежепобеленной стене и, чувствуя
на себе взгляды проходящих, молила бога о том, чтоб не нагрянул сюда Шура.
Вид у нее с дороги истерзанный. Она уже потеряла счет времени, когда в
коридор вошел человек в мохнатой ушанке. Кирзовые сапоги по щиколотку в
красноватой глине.
Нет, это не Ермаков, -- с ним никто не здоровался.
Видать, сам решил наняться иль по какому другому делу.
Он прошел мимо нее в приемную, вернулся со стулом в руках. Поставил
возле Нюры. Нюра испугалась:"У секретарши отнял?"
-- Я постою, -- сухо ответила она. -- Спасибо!
Но не утерпела, присела на самый краешек, укачивая орущего сына и глядя
на входивших своими огромными, чуть припухшими цыганскими глазами. Только
слепой мог не заметить этих сухо блестевших и полных отчаяния глаз.
-- Вы кого ждете, товарищ? -- спросил ее мужчина в мохнатой ушанке,
снова появляясь в коридоре.
Нюра молчала, вглядываясь в наклонившееся к ней костистое, как у
Шурани, участливое, доброе лицо, и, вдруг решившись, попросила почему-то
шепотом и скороговоркой, боясь, что ее перебьют:
-- Человек ха-ароший. Не подержите сынка? Я отлучусь на минуточку. А?
Мужчина взглянул на нее оторопело, потоптался в нерешительности, --
может, его смутил этот нервный шепот, -- и воскликнул нарочито-беззаботным,
почти веселым тоном:
-- Конечно! Давайте!
Не успел он произнести это, как Шураня-маленький в мокром одеяле
оказался на его руках.
Нюра в два прыжка, чуть коснувшись ладонью перил, одолела лестницу,
влетела в отдел кадров, как, случается, вскакивает задыхающийся пассажир на
заднюю площадку последнего вагона поезда, который набирает скорость.
-- Я... У-уф! Каменщики нужны?..
Тот же старик писал что-то.
-- Подождите, -- буркнул он.
-- Некогда, дяденька! -- вырвалось у Нюры, и она испуганно прикрыла
ладонью рот.
-- Дома детишки плачут. -- Старик вскинул на нее удивленный взгляд, но
тут же пошутил: -- Э, да тебе самой впору в куклы играть! Паспорт-то
выправила, каменщица?
Нюра не могла оторвать глаз от медлительных, иссохшихся пальцев,
которые заполняли личную карточку рабочего. Ее, Нюрину, карточку! Синий,
вроде билета в кино, талончик -- направление в общежитие -- она схватила со
стола, размазав чернила.
Шураня-маленький лежал на столе секретарши и орал с тем трагическим
надрывом, с каким только способен орать грудной ребенок, которого
давным-давно пора перепеленать.
-- Твой подкидыш? -- спросила секретарша раздраженно (на столе ширилось
мокрое пятно).
Нюра вытерла кашемировым платком стол и, торопливо меняя пеленки,
обратилась к мужчине, которому оставляла сына:
-- Выручил, человек ха-ароший.
Он участливо спросил Нюру, куда она теперь. В общежитие? Он в те же
края, подвезет.
Нет-нет! На своих дойду! Приняли б только...
Почему же не примут? Если возникнут какие препятствия, отыщите
Некрасова.- Он бросил взгляд на ее огромные, казалась, разбухшие от влаги
катаики.-- Едемте лучше со мной...
Нюра ускорила шаг, почти побежала от него.
Общежитие строителей располагалось подле моста окружной железной
дороги, в четырехэтажном доме. Внутри оно сияло первозданной чистотой только
что отстроенного здания. Пахло свежей штукатуркой, белилами.
Приглядевшись, Нюра заметила, что в противоположном конце коридора
цементный пол залит водой.
Комендант общежития в старенькой, отглаженной гимнастерке, подпоясанной
кавказским ремешком, сообщал кому-то по телефону, что вербованные, нынче
прибыв, уже натворили дел. Какая-то приехала в одних галошах, купила по
дороге ботинки, а галоши спустила в унитаз. Водопроводчик все утро работает.
Одну галошу уже вытянул крюком.
-- Девки вовсе без понятия! -- горестно воскликнул комендант.

"Сам ты вовсе без понятия", -- оскорбленно подумала. Нюра.
Перехватив на другую руку сына, она заторопилась к девушкам-мордовкам.
К Матрийке (так девушки называли старшую). Они не выдадут...
Двери комнат на втором этаже были распахнуты настежь. У стен
громоздились чемоданы, узлы. Никого из знакомых девчат не оказалось.
баниться ушли, наверное. Нюра огляделась: где перепеленать Шураню?
В самом конце коридора у окна стоял стол. На нем сидел мальчонка в
застиранной рубашечке и новеньких ботинках. Двумя руками он держал полбатона
и, откусывая, приговаривал с восторгом:
-- Мама, милая, хорошая!
Нюра положила на стол Шураню, развернула одеяльце. Густо припудрила
тельце Шурани тальком, спросила незнакомого мальчугана первое, что в голову
пришло!
А ты вырастешь, маму тоже любить будешь?
А то!
Ну, а чем кормить будешь?
Мальчонка сверкнул глазами:
-- Белым хлебом!
У Нюры подкатил ком к горлу. Вспомнились сироты Перевоза. А мальчонка
разговорился, с восторгом рассказывал, как его поселили в этом общежитии:
-- Сховали у тетки Ульяны, а мама жалилась покурору...
Подошедшего коменданта она встретила независимо:
-- Выгони-ка попробуй! К прокурору пойду...
Комендант взглянул на нее искоса, сказал, что ночевать в общежитии она
все равно не останется, здесь не комната матери и ребенка!
Нюра плотнее прижала к себе Шураню, который улыбался во сне, чмокая
губками, и попросила приглушенным, голосом:
-- А вы позвоните Некрасову.
Но никаких Некрасовых комендант знать не знал, ведать не ведал.
-- Ка-ак?! Мохната шапка!
Помедлив, комендант на всякий случай позвонил в отдел кадров треста.
Нервно теребя свой кавказский ремешок, он повторял в испуге:
-- Есть гнать!

И, обернувшись к Нюре, скомандовал надорванным голосом ротного, который
уже много дней подряд не выходил из боя:
Ма-арш отсюда! Нет в управлении никакого Некрасова. - И в
райком-горкоме нет. Нигде нет! Все врешь!
Собирай манатки.
Ма-натки? -- Нюра шагнула к нему, протянула Шураню.-- Бери мои манатки,
коль на улицу выгоняешь! .
-- Давай! Я его мигом пристрою!
Нюра попятилась:
Чтоб я на такую образину оставила сыночка?!
Некрасов сказал...
Опять двадцать пять, -- устало повторил комендант.-- Никакого Некрасова
нету. Не-ту! Ясно?!
Доцент Игорь Некрасов был в университете парторгом - в прошлом году. По
недосмотру. Во всяком случае, так считала инструктор ЦК Афанасьева, которая
занималась университетом.
В пору своего первого знакомства с Некрасовым она любила рассказывать о
нем с материнским теплом в голосе: "Он очень мил, этот Игорек. Если захочет
в университете кого-нибудь поругать, три дня набирается духу, наконец
решительным шагом подойдет к человеку и... спросит: "Как ваше самочувствие?"
Жестокое разочарование постигло Афанасьеву в тот день, когда Некрасов
встал на защиту ученых, о которых сложилось мнение как о людях "не наших".
Два года подряд на каждых выборах на филологическом факультете
Афанасьева выражала свое твердое неодобрение кандидатуре Некрасова
Райкомовские секретарши, рассылая документы, бывало, говорили деловито:
"Одну выписку из решения в автопарк. Другую этому... еретику". И вздыхали.
Еретик -- так однажды назвала его Афанасьева -- был холост. Имел ученое
звание и волосы, как растеребленный лен.
Многие были до крайности удивлены, когда Никита Хрущев в поисках
крепкого работника для решающей стройки остановился на бывшем
университетском парторге. Когда с Украины, да Кубани навез друзей, никто не
удивлялся. Но - почему вовсе ему незнакомого? Из московского Университета.
Неисповедимы пути твои, генеральный!
В здании ЦК партии наверх вели две лестницы -- боковая, c голыми
стенами, и парадная, устланная ковром. Игорь остановился перед парадной
лестницей: по ней, что ли, подниматься?
Помощник Хрущева сухо попросил его обождать.
По коридору прохаживались участники какого-то прерванного совещания:
одни -- полуобнявшись и смеясь, другие -- выговаривая друг другу в
ожесточении:
Провалиться вам вместе с Ермаковым в тартарары! Железобетон изо рта
выхватили.
Молись, что его, а не тебя сунули в болота, на Юго-Запад, в Заречье.
Вот где петля! Ни дорог, ни подземных коммуникаций. Врагов у него много. Вот
и подсуропили...
В ответ послышался шумный вздох человека, который еще не вполне
оправился от испуга:
-- Да-а! Каторжное местечко...
Присаживаясь на стул в дальнем углу, Игорь остановил свой взгляд на
толстяке, который стоял посреди приемной. Толстяк будто сошел с полотна
Рубенса. И розовые, налитые здоровьем щеки его и отягченный жирком
подбородок колыхались от смеха. Правда, Рубенс не запечатлел столь крутого и
высоко подстриженнного затылка, который колыхался на широченной, точно из
красной меди, шеи. Такой затылок и такая шея бывают разве у
борцов-тяжеловесов, во всяком случак, у людей, которые от легонького тычка и
не шелохнуться.
Он что-то рассказывал обступившим его людям, вскинув руку словно бы с
кубком. Жизнерадостный фламандец! Игорю казалось, толстяк вот-вот рванет
осточертевший ему белый воротничок (он то и дело оттягивал его пальцем),
расшвыряет по углам накрахмаленные манжеты и ринется на улицу, увлекая за
собой остальных и держа кубок как знамя.
Дверь открывалась непрерывно; наконец появился тот, кого все ждали.
Спорщики смолкли. Окружавшие толстяка люди разом оборвали смех. Толстяк
одернул пиджак, широкий и длинный, как толстовка. Игорь по укоренившейся
фронтовой привычке встал по команде "смирно".
От дверей быстро шел, на ходу кивая и пожимая руки тем, кто был ближе к
нему, известный по портретам бритый круглоголовый человек в темной
"кировской" гимнастерке и офицерских сапогах. Никита Хрущев. Москвичи еще не
величали его между собой иронически - Хрущем, как позднее. В эти дни он был
© Copyright Григорий Свирский
Москва, "Советский писатель", 1962.1964.
Издание третье, впервые бесцензурное
WWW: http://members.rogers.com/gsvirsky/
---------------------------------------------------------------
РОМАН.
Москва, "Советский писатель",1962.1964. Издание третье, впервые
бесцензурное
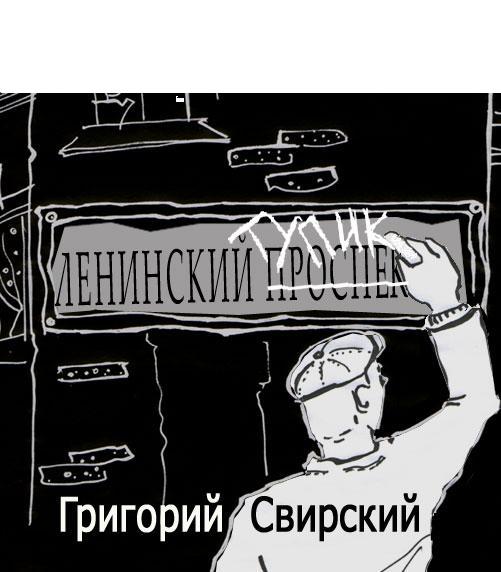
Что же вы молчите?
Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович
Народ безмолвствует".
А. Пушкин, "Борис Годунов
Полвека прошло с того дождливого дня, когда я впервые услышал трубный
басище Ермакова.
-Митрич! Дамочка на спичках катит. Неси резиновые сапоги!
Затем прикатила "дамочка". Круглое белое лицо молочницы рекордистки с
обложки журнала "Огонек". За ней две машины заискивающей перед ней челяди и
охраны. "Дамочка" оказалась членом Политбюро ЦК КПСС Екатериной Фурцевой.
- Что ж загодя не звякнули мне ? - так встретил ее Ермаков.- Я б
мусоришко убрал. Марафет навел...
Твердое чувство независимости и собственного достоинства Ермакова, не
сгибавшегося ни перед кем, притянули к нему мою душу, как и душу моего
героя. Больше года провел я на стройке Заречья, чуть не спился, совершенно
не пьющий человек, так-как Ермаков каждый раз ставил на стол, перед началом
нашего откровенного общения, два гладких стакана...
-Что-то зачастили вы к нам, ученые-печеные, - сказал не без удивления -
У одного даже два высших образования. А пошел в рабочие...
- Гебист?
-Фольклорист!
- Ну, это в нашем веке одно и тоже!
Посмеялся, повторил уважительно: - Фольклорист! Гебисты мне не
представляются. Шуршат поодаль. Познакомьтесь с ним. Кажись, хороший парень.
Учен - до ужаса! В древних Афинах живет, как в собственном доме. Может, и
подружитесь!
Когда я решил написать книгу о Ермакове, он потребовал, чтобы я сложил,
и непременно своими руками, хотя бы одну стенку. "Чтоб понял, каково этим
ребяткам - на ветру и в грязи".
Как же хохотали каменщики над дураком-писателем, хохотали и в одиночку,
и "всем миром", но показывали, учили, как укладывать кирпичи и стелить
расствор. А на прощанье зубоскалили уж по доброму: "Чтоб под своей стенкой
никогда не ходили. Не дай Бог!"
Издательство "СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ", куда отнес рукопись, было шокировано
откровениями главного героя романа каменщика Александра СТАРОВЕРОВА,
депутата Верховного Совета СССР, который, по его словам, посажен в Верховном
рядом с властями "ЗАМЕСТО МЕБЕЛИ"
Главный редактор завершила свой отзыв так: "Рукопись Григория Свирского
- о бесправии и молчании рабочего в нашем государстве. Она вряд ли может
быть предложена нашему читателю. Роман хорошо написан, но тем он опаснее."
"Если столь еретическую книгу издать, мы автора затем не остановим!" -
предрек второй, озабоченный, как видим, лишь тем, чтобы еретика остановили.
Другая половина отзывов, заказанная издательством
писателям-профессионалам, чаще всего, не сосредотачивалась на рискованной
теме, а радовалась выразительному, сочному русскому языку героев,
сохранившемуся лишь в дальних деревнях, откуда и доставляли "по оргнабору"
рабочих на московские стройки.
С годами у рукописи набралось восемнадцать положительных отзывов, а
издатели откладывали и откладывали выпуск книги. "Ищут собакина", который бы
зарубил крамолу, - объяснил мне Константин Паустовский.
Когда узнал, что рукопись передана новому редактору - отставному
полковнику Алексею Ивановичу Крутикову , бывшему начальнику издательства
Министерства Обороны, я сказал жене, что это - конец..
Отставные полковники на Руси - народ самый консервативный. Как правило,
закоренелые сталинисты, и, отправляясь к новому редактору, захватил рюкзак -
для отверженных страничек.
О полковнике Алексее Ивановиче Крутикове подробно рассказано в моей
повести "Прощание с Россией", и потому здесь буду краток.
Прочитав рукопись, полковник спросил меня: - На какой улице строят дома
ваши герои, лишенные и человеческих и гражданских прав?
Я развел руками: - Это же роман. А в романе, как вы знаете...
- Пусть они строят на Ленинском проспекте! - прервал Алексей Иванович
мои литературоведческие изыски. И потому роман назовем "ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ".
Мое лицо, видимо, стало кислым, и он заметил с ядовитым сарказмом: "Уж
не возражали бы вы, диссидент, назвать ее "УКРАДЕННАЯ ВЛАСТЬ" или того пуще
"ЛЕНИНСКИЙ ТУПИК".
Эта перспектива - даже в моем сознании- еще настолько не
просвечивалась, что я расхохотался...
- И так!- строго заключил полковник "ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ". Все!- И,
улыбнувшись, растолковал: - Это единственная возможность прорыва честной
книги. Цензура будет читать книгу с таким названием, держа руки по швам...
Когда я, наконец, согласился, он добавил: - В этом случае, нам придется
выполнить лишь категорическое требование издательства. Убрать имена вождей и
прохвостов. Все остальное остается, кроме трех страничек о страшном
трагическом случае на стройке: ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ ведь это не только улица,
но и символ ОКТЯБРЯ 1917. У символа столь жутких трагических страниц быть не
может...
Прошли годы, автора вполне могли бы остановить, но время - не
остановишь! Когда книга, после пятилетних мытарств, поступила в магазины, ее
суть была уже публично, на всю страну, выражена смелым человеком
писателем-историком Степаном Злобиным на странице отнюдь не смелой столичной
"Литературной газеты":
" Почему молчит рабочий в рабочем государстве?" - так называлась
первая, на полстаницы, рецензия, вызвавшая затем поток статей и рецензий.
В предлагаемом ныне первом бесцензурном издании, естественно,
возвращены на свои места размышления писателя, возмущавшие самоуправную
власть, а так же "запретные" в те годы имена "веселого путаника" Никиты
Хрущева и мрачных генералов КГБ, вершивших судьбами и самой жизнью героев
этой книги.
Отложенные редактором до лучших времен три странички, конечно, тоже
поставлены. Какие? Читатель, надеюсь, и сам поймет. Не маленький он у нас,
читатель.
Поезд прибыл из Воронежа.
Нюра вышла из вагона, беспокойно озираясь, худющая, взъерошенная,
похожая на воробышка, выпавшего из гнезда.
Ее никто не встречал.
Одной рукой она покачивала ребенка, завернутого поверх одеяла в
кашемировый платок цвета весенней травы. Другой держала самодельный, из
некрашеной фанеры, чемодан. Она спускалась по широким каменным ступеням
перрона, шаркая огромными катанками с синими печатями на голенищах.
Сырой мартовский ветер трепал флаги с траурными лентами. Флаги снимали.
-- Умер кто? -- спросила Нюра дежурного в высокой фуражке.
Он не ответил.
Огромный, на белом полотне, портрет Сталина с разбитой в
нижнем углу рамой был прислонен лицевой стороной к стене. Дежурный
крикнул кому-то: - Как опустили?! С перепою, что ли? Да еще год назад вас бы
за такие дела...
Вздохнув, Нюра огляделась по сторонам. Уборщица на лестнице совком
собирала мусор. Она не знала, где находится трест Ермака, и Нюра стала
спрашивать прохожих.
"Ермака"? - переспросил мальчик со школьным ранцем за спиной, - это
который Сибирь завоевал?
Ну, никто, решительно никто не слышал о таком тресте. Кто-то
поинтересовался, не старинное ли это наименование -- трест Ермака?
Нюра не знала иного названия. Она твердила, удивляясь неведению
окружающих и все более пугаясь своего неведения: -- Трест Ермака!.. Да,
Ермака!
Нюру провели к справочному киоску. К счастью, за стеклянной стенкой
киоска оказалась женщина толковая и быстрая. -- А что делает ваш Ермак? --
быстро спросила она, скосив глаза на ребенка. -- Печет пироги? Чинит
ботинки? Ведает домами младенца?
-- Нет! -- Нюра инстинктивным движением прижала ребенка к себе. --
Строит он. Жилье.
Женщина полистала свой справочник, позвонила в какой-то строительный
трест и спустя минуту-две выдала в окошко квитанцию, на обратной стороне
которой был написан адрес.
Дом с синей вывеской "МОССТРОЙ No3" Нюра разглядела сразу. Возле него
толпились озабоченные люди в зеленых стеганках, с буханками черного хлеба и
чемоданами в руках. Веснушчатый парень в шинели без погон, показавшийся из
дверей треста, пригнулся к ногам одной из девушек:
-- Чулки, мордва, сама вязала?
Девушка взвизгнула и присела на корточки, прикрывая полами брезентовой
накидки ноги в белых с черными поперечными полосами грубых чулках. Другая,
побойчее оттолкнула веснушчатого, потеснив его к стене.
Нюра поставила чемодан и, приблизясь к той, что побойчее, протянула
певучим акающим голоском, в котором звучала тоскливая надежда:
-- Вы старшая? Нельзя нас с сыночком в вашу артель? А? Я на руку
крепкая, на ногу легкая.
Ее тут же окружили, принялись расспрашивать. Девушка в брезентовой
накидке взяла у нее сына, покачала его на руках, напевая вполголоса:
"Улю-улю, маленький".
И едва не поплатилась за это. Старик, проходивший мимо, задержался в
дверях треста.
-- Вербовщик разве не предупреждал, что с дитем не оформляем? .. Не
твой?! Ты не заливай! Родила и открещиваешься. Тут своих гибель. Рабочих
селить негде.
С криком встретил старик девушку в накидке и позднее, когда она
переступила порог отдела кадров.
--Вертайся в свой Лемдяй! Все!
Нюра -- она ждала в очереди возле двери -- едва не попятилась в темный
угол, готовая прижаться к полу, как, бывало, прижималась к грядке, когда в
ушах нарастал ужасающий вой авиабомбы.
--За что ЕГО-ТО -- вскрикнула она тоненьким голосом, в котором
слышались слезы. Перехватив поудобнее сына, она попятилась к выходу.
Путь ей преградила старшая: -- Жди тут!
Если б не вмешательство старшой, кто знает, как обернулось бы дело.
Когда старшая возвратилась из отдела кадров, тощее, землистого цвета лицо ее
было жестким. Отчетливее проступила темная полоса рубца,-- видно, след
военных лет. На ломаном русском языке она наказала Нюре, как говорить с
управляющим. Ей, Нюре, отдельного угла не надо. Ее берут в общежитие, в свою
комнату, новички, которые из Мордовии. По оргнабору.
В узкой, как коридор, приемной управляющего Ермакова, расположенной
этажом выше, не было ни одного стула. Остро пахло лаком для ногтей, который
наносила на свои растопыренные заскорузлые пальцы, пальцы вчерашней
подсобницы, завитая мелкими колечками секретарша.
-- Все на корпусах, -- не подняв глаз, разъяснила она..
Нюра осталась ждать. Мимо то и дело сновали озабоченные люди с бумагами
в руках. Какой-то толстяк, проходивший по коридору без пиджака, со счетами в
руках, задержался возле Нюры, вздохнул:
--Всему на свете бабки подбиты. Одни слезы неучтенные...
Она проводила его неприязненным взглядом: жалеет?
В утешителях Нюра не нуждалась с прошлого лета. Те дни были памятны ей
час за часом.
... Цвел тополь, и земля была словно в вате. Пух ложился и на
сколоченную наспех в саду детского дома сцену и на шелковые, подпоясанные
шнурами с серебристыми кистями до колен рубашки парней, которые ("Как не
видят!" -- удивилась Нюра) ступали желтыми лаптями прямо по нежным пушинкам.
Вслед за ними на сцену выплыли две жарко нарумяненные молодки, завели светло
и задумчиво:
Летят у-утки.,.
А из-за спин молодок неслось басовитое и приглушенное, точно эхо:
Летят у-утки
И-и два-а гу-уся.
Молодки улыбались, вовсе не думая о том, как звучит в саду, полном
прильнувших друг к другу сирот, старинное воронежское "страдание", которым
они, по традиции, открыли концерт.
Кого лю-ублю....
Молодки грустнели, кручинились. :
Кого лю-ублю, -- нагнетали басы.
И вдруг, опять в два женских голоса, высоко и с той пронзительной
тоской, которая заставит притихнуть любого:
Не дожду-уся...
"Кого люблю, не дождуся..."- Нюра крепилась, кусая платок, но возле нее
кто-то всплакнул. Она закрыла ладошками лицо. И навзрыд....
Утром она бежала с охапкой березовых веников -- козлят кормить.
Навстречу ей ступали чьи то грубые, из желтой кожи ботинки.
Она подняла глаза, лишь когда ее окликнули.
Перед ней стоял незнакомый юноша лет двадцати трех, в городском
пиджаке, с мотоциклетным насосом в руке.Девочка, ты чья? -- спросил он.
Детдомовская.
Из каких мест?
-- Знала бы...
Юноша пристально вглядывался в нее.
-- Как тебя зовут?.. Нюра Староверова?! А я все думаю: на кого ты
похожа? На свою мать и похожа!.. Мы соседями были до войны. Ты и мать - две
капли воды... Такие же глазищи. А скулы староверовские!
Я тебя вчера приметил, на концерте, когда ты... ну, расстроилась.
Нюра сама не могла понять, что произошло с ней.
Десять лет, десять долгих лет, день за днем, Нюра ждала, когда за ней
придут -- отец, мать, брат, родные люди. Детдомовцев чуть не каждую неделю
выстраивали на линейке. Нюра стояла с окаменелым лицом.
Взрослые, чаще всего мужчины в шинелях без погон, проходили мимо и
мимо.
Правда, как-то один из них вдруг задержался возле нее. Нюра не решалась
поднять глаза. Она видела только зеленые обмотки и разбитые ботинки с
бечевками вместо шнурков, вдохнула запах дымка, пота, махорки -- было ли что
роднее этого запаха!
-- Гляньте, кака чернявенька! - услышала удивленное.-- Тебя, дочка, не
у цыган подобрали?
"Может, и впрямь у цыган?" -- с. тех пор думала Нюра и плакала: никто
ее не ищет...
.. .Отыскали ее. Отыскали!
С семи лет она гадала: какой он, близкий человек? Вот он какой,
оказывается. В рабочих ботинках, как отец. Каменщик, как отец. Голубоглазка.
Шураня...
У Шурани была мотоциклетка. За час домчали Нюру в полусожженное, за
рекой, село Перевоз, к ее хате. Там жил чужой старик. Гончар. Он помнил и
Нюру и ее погибших родителей.
Нюра теперь ездила в Перевоз почти каждый день. Помогала старику,
таскала в ведре песок, месила глину. И Шураня был тут же... Вечером он снова
сажал Нюру на заднее седло. Нюра обхватывала Шураню покрепче, обеими руками,
они мчались по лесным тропинкам, и ветки осинника, хлестали их по лицам.
Как-то Шураня выключил мотор на полянке; стало так тихо, что Нюра
расслышала, как шуршит листьями ветер и где-то на дальних болотах плачет
чибис.
Она сидела и слушала жалобы чибиса, забыв разжать руки, которыми
обнимала Шураню, и вдыхая его бензиновый, въедливый запах...
Через месяц Шура уехал. Прислал, как обещал, карточки с городскими
видами.
Пришла осень. Оводами облепляли по вечерам Нюру нянюшки, поварихи.
Подсаживались к ней на скамеечку.
-- Им не рожать, пакостникам! Кому ты теперь нужна? ..- С этого обычно,
начиналось. А завершалось часа через два советами беспременно поехать к
нему, "предъявить ему, городскому, мандат", "шмякнуть под ноги ребятеночка".
Нюра молчала. Не убеждать же их, что он не пакостник. Угла своего у
него нет. На койке мается. Прибьется к своему углу -- подаст телеграмму.
Обида шевельнулась вместе с ребенком. "Не напишет. Не
поинтересуется..."
Нюра начала копить деньги. На билет. "Не напишет. Не поинтересуется".
Сбила на чердаке, втайне от всех, чемодан. Рожать решила в городе, поближе к
Шуре.
Но уехать не успела. Когда в сельском роддоме к Нюре поднесли
розовенького, орущего Шураню, она, обмирая в душе, попросила санитарку,
отъезжавшую в Воронеж, прислать оттуда телеграмму в детский дом, как бы от
Шуры: "Приезжай". Директор детдома, властная старуха, прозванная
воспитанниками "Кабанихой", по-бабьи всхлипнула над телеграммой и вычеркнула
в графе "откуда" слово Воронеж: дознаются подруги, что за телеграмма...
На станции Нюра, чтобы не разреветься, то и дело принималась ободрять
директора:
-- Не пропадем! Наймемся к Ермаку. Где Шура. А там... как сложится.
Ермаков все еще не приезжал. Руки Нюры, державшие сына, казалось,
омертвели: вот-вот пальцы расцепятся.
Она прислонилась спиной и затылком к свежепобеленной стене и, чувствуя
на себе взгляды проходящих, молила бога о том, чтоб не нагрянул сюда Шура.
Вид у нее с дороги истерзанный. Она уже потеряла счет времени, когда в
коридор вошел человек в мохнатой ушанке. Кирзовые сапоги по щиколотку в
красноватой глине.
Нет, это не Ермаков, -- с ним никто не здоровался.
Видать, сам решил наняться иль по какому другому делу.
Он прошел мимо нее в приемную, вернулся со стулом в руках. Поставил
возле Нюры. Нюра испугалась:"У секретарши отнял?"
-- Я постою, -- сухо ответила она. -- Спасибо!
Но не утерпела, присела на самый краешек, укачивая орущего сына и глядя
на входивших своими огромными, чуть припухшими цыганскими глазами. Только
слепой мог не заметить этих сухо блестевших и полных отчаяния глаз.
-- Вы кого ждете, товарищ? -- спросил ее мужчина в мохнатой ушанке,
снова появляясь в коридоре.
Нюра молчала, вглядываясь в наклонившееся к ней костистое, как у
Шурани, участливое, доброе лицо, и, вдруг решившись, попросила почему-то
шепотом и скороговоркой, боясь, что ее перебьют:
-- Человек ха-ароший. Не подержите сынка? Я отлучусь на минуточку. А?
Мужчина взглянул на нее оторопело, потоптался в нерешительности, --
может, его смутил этот нервный шепот, -- и воскликнул нарочито-беззаботным,
почти веселым тоном:
-- Конечно! Давайте!
Не успел он произнести это, как Шураня-маленький в мокром одеяле
оказался на его руках.
Нюра в два прыжка, чуть коснувшись ладонью перил, одолела лестницу,
влетела в отдел кадров, как, случается, вскакивает задыхающийся пассажир на
заднюю площадку последнего вагона поезда, который набирает скорость.
-- Я... У-уф! Каменщики нужны?..
Тот же старик писал что-то.
-- Подождите, -- буркнул он.
-- Некогда, дяденька! -- вырвалось у Нюры, и она испуганно прикрыла
ладонью рот.
-- Дома детишки плачут. -- Старик вскинул на нее удивленный взгляд, но
тут же пошутил: -- Э, да тебе самой впору в куклы играть! Паспорт-то
выправила, каменщица?
Нюра не могла оторвать глаз от медлительных, иссохшихся пальцев,
которые заполняли личную карточку рабочего. Ее, Нюрину, карточку! Синий,
вроде билета в кино, талончик -- направление в общежитие -- она схватила со
стола, размазав чернила.
Шураня-маленький лежал на столе секретарши и орал с тем трагическим
надрывом, с каким только способен орать грудной ребенок, которого
давным-давно пора перепеленать.
-- Твой подкидыш? -- спросила секретарша раздраженно (на столе ширилось
мокрое пятно).
Нюра вытерла кашемировым платком стол и, торопливо меняя пеленки,
обратилась к мужчине, которому оставляла сына:
-- Выручил, человек ха-ароший.
Он участливо спросил Нюру, куда она теперь. В общежитие? Он в те же
края, подвезет.
Нет-нет! На своих дойду! Приняли б только...
Почему же не примут? Если возникнут какие препятствия, отыщите
Некрасова.- Он бросил взгляд на ее огромные, казалась, разбухшие от влаги
катаики.-- Едемте лучше со мной...
Нюра ускорила шаг, почти побежала от него.
Общежитие строителей располагалось подле моста окружной железной
дороги, в четырехэтажном доме. Внутри оно сияло первозданной чистотой только
что отстроенного здания. Пахло свежей штукатуркой, белилами.
Приглядевшись, Нюра заметила, что в противоположном конце коридора
цементный пол залит водой.
Комендант общежития в старенькой, отглаженной гимнастерке, подпоясанной
кавказским ремешком, сообщал кому-то по телефону, что вербованные, нынче
прибыв, уже натворили дел. Какая-то приехала в одних галошах, купила по
дороге ботинки, а галоши спустила в унитаз. Водопроводчик все утро работает.
Одну галошу уже вытянул крюком.
-- Девки вовсе без понятия! -- горестно воскликнул комендант.
"Сам ты вовсе без понятия", -- оскорбленно подумала. Нюра.
Перехватив на другую руку сына, она заторопилась к девушкам-мордовкам.
К Матрийке (так девушки называли старшую). Они не выдадут...
Двери комнат на втором этаже были распахнуты настежь. У стен
громоздились чемоданы, узлы. Никого из знакомых девчат не оказалось.
баниться ушли, наверное. Нюра огляделась: где перепеленать Шураню?
В самом конце коридора у окна стоял стол. На нем сидел мальчонка в
застиранной рубашечке и новеньких ботинках. Двумя руками он держал полбатона
и, откусывая, приговаривал с восторгом:
-- Мама, милая, хорошая!
Нюра положила на стол Шураню, развернула одеяльце. Густо припудрила
тельце Шурани тальком, спросила незнакомого мальчугана первое, что в голову
пришло!
А ты вырастешь, маму тоже любить будешь?
А то!
Ну, а чем кормить будешь?
Мальчонка сверкнул глазами:
-- Белым хлебом!
У Нюры подкатил ком к горлу. Вспомнились сироты Перевоза. А мальчонка
разговорился, с восторгом рассказывал, как его поселили в этом общежитии:
-- Сховали у тетки Ульяны, а мама жалилась покурору...
Подошедшего коменданта она встретила независимо:
-- Выгони-ка попробуй! К прокурору пойду...
Комендант взглянул на нее искоса, сказал, что ночевать в общежитии она
все равно не останется, здесь не комната матери и ребенка!
Нюра плотнее прижала к себе Шураню, который улыбался во сне, чмокая
губками, и попросила приглушенным, голосом:
-- А вы позвоните Некрасову.
Но никаких Некрасовых комендант знать не знал, ведать не ведал.
-- Ка-ак?! Мохната шапка!
Помедлив, комендант на всякий случай позвонил в отдел кадров треста.
Нервно теребя свой кавказский ремешок, он повторял в испуге:
-- Есть гнать!
И, обернувшись к Нюре, скомандовал надорванным голосом ротного, который
уже много дней подряд не выходил из боя:
Ма-арш отсюда! Нет в управлении никакого Некрасова. - И в
райком-горкоме нет. Нигде нет! Все врешь!
Собирай манатки.
Ма-натки? -- Нюра шагнула к нему, протянула Шураню.-- Бери мои манатки,
коль на улицу выгоняешь! .
-- Давай! Я его мигом пристрою!
Нюра попятилась:
Чтоб я на такую образину оставила сыночка?!
Некрасов сказал...
Опять двадцать пять, -- устало повторил комендант.-- Никакого Некрасова
нету. Не-ту! Ясно?!
Доцент Игорь Некрасов был в университете парторгом - в прошлом году. По
недосмотру. Во всяком случае, так считала инструктор ЦК Афанасьева, которая
занималась университетом.
В пору своего первого знакомства с Некрасовым она любила рассказывать о
нем с материнским теплом в голосе: "Он очень мил, этот Игорек. Если захочет
в университете кого-нибудь поругать, три дня набирается духу, наконец
решительным шагом подойдет к человеку и... спросит: "Как ваше самочувствие?"
Жестокое разочарование постигло Афанасьеву в тот день, когда Некрасов
встал на защиту ученых, о которых сложилось мнение как о людях "не наших".
Два года подряд на каждых выборах на филологическом факультете
Афанасьева выражала свое твердое неодобрение кандидатуре Некрасова
Райкомовские секретарши, рассылая документы, бывало, говорили деловито:
"Одну выписку из решения в автопарк. Другую этому... еретику". И вздыхали.
Еретик -- так однажды назвала его Афанасьева -- был холост. Имел ученое
звание и волосы, как растеребленный лен.
Многие были до крайности удивлены, когда Никита Хрущев в поисках
крепкого работника для решающей стройки остановился на бывшем
университетском парторге. Когда с Украины, да Кубани навез друзей, никто не
удивлялся. Но - почему вовсе ему незнакомого? Из московского Университета.
Неисповедимы пути твои, генеральный!
В здании ЦК партии наверх вели две лестницы -- боковая, c голыми
стенами, и парадная, устланная ковром. Игорь остановился перед парадной
лестницей: по ней, что ли, подниматься?
Помощник Хрущева сухо попросил его обождать.
По коридору прохаживались участники какого-то прерванного совещания:
одни -- полуобнявшись и смеясь, другие -- выговаривая друг другу в
ожесточении:
Провалиться вам вместе с Ермаковым в тартарары! Железобетон изо рта
выхватили.
Молись, что его, а не тебя сунули в болота, на Юго-Запад, в Заречье.
Вот где петля! Ни дорог, ни подземных коммуникаций. Врагов у него много. Вот
и подсуропили...
В ответ послышался шумный вздох человека, который еще не вполне
оправился от испуга:
-- Да-а! Каторжное местечко...
Присаживаясь на стул в дальнем углу, Игорь остановил свой взгляд на
толстяке, который стоял посреди приемной. Толстяк будто сошел с полотна
Рубенса. И розовые, налитые здоровьем щеки его и отягченный жирком
подбородок колыхались от смеха. Правда, Рубенс не запечатлел столь крутого и
высоко подстриженнного затылка, который колыхался на широченной, точно из
красной меди, шеи. Такой затылок и такая шея бывают разве у
борцов-тяжеловесов, во всяком случак, у людей, которые от легонького тычка и
не шелохнуться.
Он что-то рассказывал обступившим его людям, вскинув руку словно бы с
кубком. Жизнерадостный фламандец! Игорю казалось, толстяк вот-вот рванет
осточертевший ему белый воротничок (он то и дело оттягивал его пальцем),
расшвыряет по углам накрахмаленные манжеты и ринется на улицу, увлекая за
собой остальных и держа кубок как знамя.
Дверь открывалась непрерывно; наконец появился тот, кого все ждали.
Спорщики смолкли. Окружавшие толстяка люди разом оборвали смех. Толстяк
одернул пиджак, широкий и длинный, как толстовка. Игорь по укоренившейся
фронтовой привычке встал по команде "смирно".
От дверей быстро шел, на ходу кивая и пожимая руки тем, кто был ближе к
нему, известный по портретам бритый круглоголовый человек в темной
"кировской" гимнастерке и офицерских сапогах. Никита Хрущев. Москвичи еще не
величали его между собой иронически - Хрущем, как позднее. В эти дни он был
