Страница:
— Застрелил шестерых? — сухо отозвался Лоренс. — И все они были мужья? — Для Джанин это была знакомая тема с новыми вариациями. Ей никогда по-настоящему не нравились мужчины-мужья, так же как и не нравилось ощущать себя женой. Более всего ей хотелось захватывающего чувства романтической напряженности, продляемого до бесконечности.
— Мужьями были трое или четверо, сейчас не помню. Но когда я спрашиваю, что потом случилось с их дамами — они ведь оказались свободными, и можно было на них жениться, — он увиливает от ответа и заявляет, какие у меня красивые брови или что-нибудь в том же роде. В общем, переходит на глупости.
— Почему же? Но твои брови и впрямь заслуживают комплимента. К тому же он, наверное, влюблен в тебя?
— О-о, Родерик от меня без ума. И он очень много думает о том, как устроить дуэль с тобой. Его это угнетает. Я имею в виду — невозможность швырнуть тебе в лицо перчатку.
— Не может швырнуть перчатку, пусть бросит стакан.
— Весьма неплохо, милый, — Джанин как будто не ожидала от него такого остроумия, — я предложу ему. Хочешь покажу, как он выглядит?
Лоренс почему-то вдруг испугался.
— Покажешь, как он выглядел, ты хочешь сказать?
Джанин взяла супруга под руку и провела в гостиную, где на мольберте у окна был натянут холст, который она ему не показывала. С картины смотрел молодой аристократ с тонким лицом, рот его слегка улыбался, и если бы не глаза, то портрет оставлял бы вполне приятное впечатление.
Глаза были темно-синие, почти черные. Они притягивали взгляд и не отпускали, словно отдавая некое приказание. И была в них какая-то особенная мрачная глубина. Глядя в эти глаза, Лоренс понял, что Джанин вовсе не рисовала Родерика Джемисона улыбающимся, это всего лишь изгиб губ.
Портрет был лучшим из всего, что Джанин когда-либо создавала при помощи красок.
— Великолепно. Превосходно. — Лоренс не мог сдержать восхищения, но тут же, стараясь говорить как ни в чем не бывало, спокойно поинтересовался: — Значит, вот он какой — майор Родерик Джемисон?.
— Да, дорогой. Он сказал, исключительно похож. — Она залилась звонким смехом. — Но можно бы, говорит, нарисовать его и покрасивее, на что я ответила, что его невыносимое тщеславие начинает мне надоедать.
— Сделай второй портрет, — Лоренс взвешивал каждое слово, — но этот — просто замечателен.
— Надо подумать, может, и сделаю, — Джанин закрыла холст, голос ее стал вял и безразличен, — это было так весело.
Вечером, когда она уже спала, Лоренс наконец-то решился написать в Вашингтон лечащему доктору:
«В уединенном месте, каковым является этот дом, невроз Джанин начал развиваться в новом направлении. Она проводит дни в сплошных мечтаниях, устраивает с помощью доски для спиритических сеансов воображаемые беседы с умершими. Она, похоже, постепенно теряет чувство реальности».
Перо проткнуло бумагу и вошло в зеленое сукно стола. Разорвав письмо в клочья, Лоренс сжег его над кухонной плитой.
— Родерик сказал, что я должна тебя оставить, — заявила она за завтраком, улыбаясь и все еще потягиваясь после сна, — твердит, будто ты меня не понимаешь. Что не веришь ни единому моему слову о нем и считаешь, что я схожу с ума. Это правда?
Лоренс помешивал кофе и боялся поднять глаза. Рука его мелко дрожала. Неужели Джанин видела ночью, как он писал? Как потом все сжег, и догадалась о содержании?
— Родерик так и сказал? А что еще наговорил?
— О, да не обращай внимания, он вечно что-то придумывает. — Она махнула рукой, подошла к нему и поцеловала. Всю оставшуюся часть дня Джанин с напускной веселостью порхала, по дому, шутила и веселилась, отказываясь возвращаться к разговору о майоре Джемисоне.
Проснувшись ночью, Лоренс обнаружил, что жены рядом нет. Он осторожно встал, прокрался вниз по лестнице и, прячась в темноте, остановился перед входом в гостиную.
Джанин с помощью бумаги и щепок развела в камине огонь, другого света в комнате не было. Она смеялась и разговаривала сама с собой, а стакан валялся без дела на полу рядом с доской.
Что она говорила, Лоренс разобрать не мог, потому что голос у нее был такой низкий и глухой, как будто слова произносились кем-то другим. Слабое, неясное бормотание, похожее на порывы ветра. Но он видел ее шевелящиеся губы, ее сияющие глаза. Такой живости, такого радостного воодушевления он в ней не помнил. И это было настоящее, а не показное, как днем.
Одета Джанин была в тонкую просвечивающую ночную рубашку и халат, который ей был очень к лицу — просторный, с длинными, сходящимися к запястьям рукавами, перехваченный на шее голубой ленточкой. Один раз она ухватилась за эту ленточку, словно стесняясь кого-то невидимого, кто собрался за нее дернуть.
В следующее мгновение она кого-то поддразнивала, потом качала головой, как будто отвечала «нет».
У Лоренса возникло предчувствие, что она вот-вот встанет и обернется, он на цыпочках вернулся в спальню. Сердце бешено колотилось, голова разрывалась от мучительных предположений.
Джанин пришла несколькими минутами позже, вялая и апатичная, как обычно. Она была истощена, он чувствовал это.
Что бы там ни было, это никакая не игра и не забава. Это отнимало у нее силы и душевную энергию.
Заснув, она кричала во сне: «Беги! Беги! Беги!» Голова металась по подушке из стороны в сторону, из груди раздавались сдавленные стоны.
Лоренс написал доктору на следующее утро, изложил все детали и, не доверяя письмо Тризе, съездил на почту сам.
Доктор ответил немедленно и настоятельно рекомендовал привезти Джанин, чтобы он мог ее осмотреть, с укором далее припоминая Лоренсу, что он ее не отпускал, ибо не находил целесообразным прерывать лечение. Но Лоренс просил совета, а совета в письме не было. Сухое требование как можно скорее явиться в Вашингтон и все.
Целый час прошел в изучении банковской чековой книжки. А стоило ли туда заглядывать? Цифры он помнил наизусть.
Он высунулся в окно. Дом окружали коротко подстриженные газоны, но Джанин предпочитала гулять там, где трава неухожена. Она шелестела в ней своим длинным платьем. А еще больше она любила ходить на противоположном берегу ручья, пропадая иногда часами в начинающемся дальше лесу. Уж не встречается ли она там с Родериком Джемисоном?
Бред какой-то! Лоренс сжал кулаки. Ее сумасбродство передается и ему? Но ведет она себя так, будто и впрямь бегает к любовнику.
Джанин чудно похорошела. В ней появилась некая внутренняя целостность, она не терзалась больше самодопросами, самообвинениями и несбыточными желаниями, которые, хотя и бывали скоротечны, но неизменно приносили ей чувство поражения и выжимали ее, как лимон.
Походка приобрела величавость и гордость, граничащую порой с заносчивостью, периоды нервных срывов и беспричинной раздражительности, характерные для ранней стадии заболевания, прекратились.
Достав письмо доктора, Лоренс собрался сочинить ответ, но слова не шли из-под пера, и он взялся за другую работу. Трудиться! Трудиться и выкинуть из головы соблазнительные денечки, голубое безоблачное небо, запах жимолости и запутавшуюся в несуществующем мире бездельничащую жену.
Послеполуденное время прошло в делах по хозяйству, а вечером, изможденный, он сел за ужин, поданный словно парящей над полом Джанин на тускло поблескивающем в свете свечей хрупком фарфоре.
Лоренс поразился, что она пьет из того самого стакана, который использует для общений с потусторонним миром. Рука ее почти не выпускала стакан, и она практически ничего не ела, только медленно пила, нежно водя губами по краю стакана.
После напряженной работы от вина у него слипались глаза, веки отяжелели и мешали наблюдать за Джанин.
Персики в бренди были поданы в вазочках из розового хрусталя. Каждое движение, каждый жест Джанин дышали любовью и покоем, она обслуживала его, как обслуживают любовника. Но он-то знал, о ком она думает.
Когда легли спать, начался дождь. Тяжелые капли били по медным водосточным желобам, настойчиво колотились в оконные рамы. Громыхнул гром, следом за ним сверкнула молния. Гроза приближалась.
Джанин заснула быстро и спала безмятежно, но к Лоренсу сон не шел. Он слишком устал. Лоренс возился, ворочался с боку на бок, зажигал и гасил сигареты. Уставившись в разрываемую всполохами молний темноту, он лежал и прислушивался, как раскаты грома доносятся все ближе и ближе.
На одном из окон ветром оторвало ставень, и он несколько раз сильно стукнулся о раму. Лоренс выругался и встал, чтобы закрепить его. А когда обернулся — перед ним, глядя ему прямо в лицо, стояла Джанин.
Он не мог ни двинуться, ни пошевелиться. От выражения ее лица он окаменел, Джанин смотрела на него со злобной ненавистью.
После очередной вспышки света она встряхнулась и направилась по лестнице вниз, в темноту. Лоренс кинулся искать фонарь, но тщетно, и тогда, боясь опоздать, пошел за ней наощупь.
Она не оборачивалась и не оглядывалась. Не обернулась даже тогда, когда он два раза подряд наступил на страшно скрипящие половицы. Теперь Лоренс не сомневался — она идет во сне.
Распахнулась входная дверь, и Джанин вышла на улицу. Он за ней. От дождя и ветра Лоренс сразу же продрог, но идущая впереди Джанин, похоже, ничего не чувствовала. Ее волосы развевались, прозрачная ночная рубашка трепетала на ветру.
Лоренс вспомнил о заросших бурьяном котлованах и торчащих из земли камнях фундамента на месте конюшен и построек для слуг. Она направлялась как раз туда. Пусть даже он ее испугает, но остановить необходимо.
— Джанин! — окликнул он, силясь перекричать завывания ветра. — Джанин, остановись!
Она услышала, замерла на секунду и уже, должно быть, различила в ночи его приближающуюся фигуру, но в следующее же мгновение ускользнула, и он успел только увидеть мелькнувшую белую рубашку.
— Стой! Подожди! — приказал Лоренс.
— Ты отстал, Родерик, — торжествующе засмеялась она, поймай меня, попробуй. — С быстрого шага Джанин перешла на бег. — Беги! Беги! Беги! — Ему вспомнились слова из ее сна.
Лоренс побежал. Но она бежала быстрее, с удивительной ловкостью и уверенностью огибая опасные ямы. Все дальше и дальше, и все ближе к ручью.
Лоренс понял. И вот уже она перебежала через мостик, очевидно, вспомнив, что текущую воду духи и привидения пересекать не могут.
Ступив на противоположный берег, Джанин ликовала. Теперь уже ничто не может помешать ей, если она захочет спрятаться в лесу, и тогда ищи ее хоть всю ночь. Лоренс промок до последней нитки, наверняка и на ней нет сухого местечка. Можно же запросто схватить воспаление легких.
— Джанин! Подожди меня! — отчаянно крикнул он.
— Отстал, отстал, отстал, — хохотала она. Снова блеснула молния. В ее ослепительном свете Лоренсу показалось, что в глазах у Джанин мелькнуло что-то похожее на узнавание. Рот раскрылся, мокрые волосы прильнули ко лбу, насквозь сырая рубашка плотно облегала тело.
В три прыжка он очутился по ту сторону ручья. Успеть схватить ее во что бы то ни стало, он должен… Лоренс протянул к ней руки, но в этот момент как будто чья-то злая рука поймала его за щиколотку, приподняла и бросила. Падая вперед, он успел взглядом выхватить из темноты полузаросший высокой травой белый угол мраморного надгробия и в свете молнии различил даже буквы, с которых сам же содрал мох:
— Он не любил меня. — Голос ее настолько охрип, что Триза едва разобрала слова. — Ему не было до меня никакого дела. Он никогда не любил ни единую женщину, а хотел только одного — убивать и убивать!
Это было последнее связное предложение, которое от нее слышали.
Перевод с англ. Н. Савиных
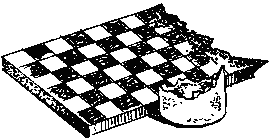
Ричард Мэтисон
КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ
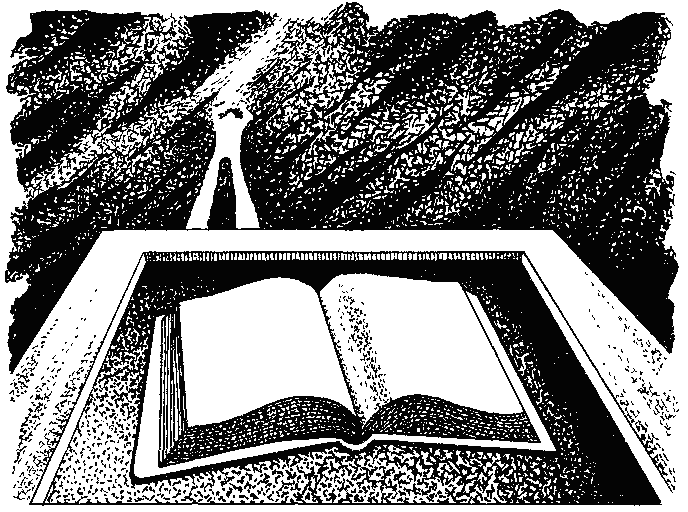
Проснувшись в то утро, он заговорил по-французски. Никакого предупреждения не было. В четверть седьмого, как и обычно, прозвонил будильник и они с женой заворочались. Высунув из-под одеяла онемевшую во сне руку, Фред нажал на кнопку, и в комнате на некоторое время воцарилась тишина.
Затем Ева отбросила одеяло на середину кровати со своей стороны, он — со своей, и его тощие жилистые ноги свесились на пол.
— Bon matin, [2]— сказал он.
Последовала короткая пауза.
— Что? — спросила она.
— Je dis bon matin. [3]
Жена зашуршала ночной рубашкой и, повернув голову, посмотрела на Фреда.
— Что-что?
— Я всего лишь сказал «с добрым ут…»
Фред Элдерман непонимающе уставился на супругу.
— А что я сказал на самом деле? — он перешел на шепот.
— «Бонматен» или что-то в этом роде.
— Je dis bon matin. C’est un bon matin, n’est pas? [4]
Co звуком попадающего в бейсбольную перчатку быстро летящего мяча Фред Элдерман шлепнул ладонью по собственному рту, зажал его и поверх кляпа из пяти пальцев вытаращил на миссис Элдерман округлившиеся глаза.
— Фред, что это такое!
Он медленно убрал руку и разжал губы.
— Ева, я не знаю. — Его вдруг охватил ужас. Фред машинально поднес руку к голове, указательный палец почесал обрамленную волосами лысину. — Смахивает на… на какую-то заграничную болтовню.
— Но ты же не знаешь ни одного иностранного языка, Фред!
— В том-то и дело.
Они растерянно разглядывали друг друга. Наконец Фред посмотрел на часы.
— Пора одеваться.
Он прошел в ванную, и Ева с недоумением вслушивалась в доносившуюся оттуда незнакомую песенку: «Elle fit un fromage, du lait de ses moutons, rori, ron, du lait de ses moutons», [5]однако мешать мужу, когда он бреется, не решилась.
Беря кофе за завтраком, Фред что-то пробормотал.
— Что? — непроизвольно вырвалось у Евы прежде, чем она смогла себя остановить.
— Je die que veut dire ceci? [6]
Он услышал, как она поперхнулась.
— Я хочу сказать, — Фред не верил своим ушам, — что это может значить?
— Вот-вот, чтос тобой происходит? Никогда в жизни ты не говорил по-иностранному.
— Знаю, — поднесенный ко рту поджаренный хлеб застыл в воздухе, — а что… что это за язык, на котором…
— Мне к-кажется, ф-французский.
— Французский? Но я не знаю французского.
Ева судорожно отхлебнула из чашки.
— А теперь вот знаешь, — произнесла она еле слышно.
Фред сверлил глазами скатерть.
— Le diable s’en mele, [7]— буркнул он себе под нос.
Ева сорвалась на крик:
— Фред! Что ты сказал?!
— Я говорю, без дьявола тут не обошлось. — Он боялся взглянуть на жену.
— Но Фред, ты же… — Она резко поднялась со стула и набрала в грудь воздуха. — Хватит. Богохульствовать не будем. Должна быть какая-то причина, не так ли? — Фред молчал. — Что тыдумаешь? Есть причина или нет?
— Ну да, Ева. Ну, конечно. Но…
— Никаких но. — Она, казалось, не успокоится, пока не доберется до истины. — Итак, рассудим здраво — может ли на свете существовать какая-либо причина, по которой тебе приспичило защебетать на французском языке? Просто так вот, запросто, раз и все! — Ева прищелкнула пальцами.
Фред неопределенно помотал головой.
— А раз так, тоща… — она с трудом подбирала слова, не зная, как продолжить, — тогда давай посмотрим. — Супруги снова молча разглядывали друг друга. — А ну-ка, скажи что-нибудь, например… — Ева мучительно подыскивала фразу, — например, хотя бы вот это… э-э…
Голос ее постепенно затих.
— Сказать что-нибудь?
— Да-да. Валяй, не стесняйся.
— Un gemissement se fit entendre. Les dogues se mettent(a) aboyer. Ces gants me vont bien. II va sur quinze ans… [8]
— Ф-ф-фред?!
— Il fit fabriquer une exacte representation dumonstre. [9]
— Фред!! Прекрати! — Ева испуганно закричала.
Он осекся и, моргая, глядел на жену.
— Что… что ты сказал на этот раз, Фред?
— Я сказал: «Раздался стон. Мастифы начали лаять. Эти перчатки мне впору» и еще: «Скоро ему будет пятнадцать лет». А потом…
— Что потом?
— «Он изготовил мне точную копию чудовища». Sans meme 1’entamer. [10]
— Фред, опять?!
Но Фред как будто заболел.
— «И даже не поцарапали», — закончил он.
Стояло раннее утро, и жизнь в студенческом городке еще не началась. Единственными занятиями, проходившими в это время, были две лекции по экономике с семи тридцати, да и то они проходили в Белом Кампусе. Здесь же, в Красном, все было тихо. Через час дорожки наполнятся молодым шумным говором, смехом и бесцельно слоняющимися стайками будущих ньютонов и фарадеев, а пока же повсюду царили тишь и благодать.
Состояние покоя, однако, не распространялось на бредущего вдоль восточной стороны кампуса и направляющегося к зданию администрации Фреда Элдермана. Оставив Еву в растерянных чувствах, он всю дорогу до работы ломал себе голову над тем, что же это может быть.
И впрямь, что это? Когда это началось? «C’est une heure», [11]— пронеслось в мозгу.
Фред сердито тряхнул головой. Ужасно. Невероятно. Он попробовал мысленно найти хоть какое-то объяснение случившемуся, но не смог. В том, что произошло, не было абсолютно никакого смысла. В свои пятьдесят девять, так и не получив образования, он влачил тихое спокойное существование университетского уборщика и смотрителя. И вдруг однажды утром проснулся свободно говорящим по-французски.
Почему именно по-французски?
Не обращая внимания на холодный октябрьский ветер, Фред остановился и задрал голову к куполу Джереми-холла. Вчера вечером он там прибирался. Может быть, это как-то связано…
Нет, но это же просто-напросто смешно. Он зашагал дальше, в то время как его губы сами шептали: «Je suis, tu es, il est, elle est, nous somines, vous etes…» [12]
В половине девятого он вошел в офис исторического факультета, где необходимо было починить раковину, проработал там один час и семь минут, после чего, сложив инструменты в сумку, направился к себе.
— Доброе утро, — поздоровался он с сидящим за столом профессором.
— Доброе, — отозвался тот.
Выходя с факультета в коридор, Фред Элдерман подумал, как это замечательно, что доходы Людовика Шестнадцатого при тех же поборах и налогах превысили доходы предыдущего Людовика на целых сто тридцать миллионов ливров и что экспорт в период с 1720-го по 1746-й увеличился со ста шести миллионов до ста девяноста двух. А кроме того…
Он остановился как вкопанный прямо посреди холла с застывшей маской изумления на худом лице.
В то утро Фред Элдерман прибирался и кое-что чинил еще на факультете физики, потом — химии, потом — на факультете английского языка и в конце дня — в Отделении изящных Искусств.
Маленькая таверна неподалеку от Мэйн-стрит носила название «Уиндмилл», а иначе — «Мельница». По понедельникам, средам и пятницам, вечером, Фред заглядывал туда, чтобы уговорить кружечку—другую пивка, а заодно и обсудить последние новости с двумя своими приятелями — Гарри Баллардом, менеджером кегельбана, принадлежащего Хогану, и Лу Пикоком, почтовым служащим, увлекающимся на досуге садовым делом.
В тот вечер Фред, едва только он появился в дверях полуосвещенного салуна — кстати, это слышал выходящий на улицу хозяин заведения, — сказал:
— Je connais tous ces braves gens. [13]— Затем, виновато скривив губы, поправился: — То есть я хотел сказать… — оглядел собравшихся и так и не договорил.
Гарри Баллард заметил его сначала в зеркале.
— Подваливай к нам, старина! Виски сегодня идет отлично. — Он неуклюже повернул в сторону Фреда толстую шею и, не глядя на бармена выкрикнул: — Еще стаканчик для старины Фреда!
Фред подошел к стойке и улыбнулся, впервые за весь день. Пикок и Баллард по-дружески хлопнули его по плечу, бармен придвинул высокую кружку с пивом.
— Что новенького, дружище? — спросил Гарри.
Фред прижал двумя пальцами усы и сделал сквозь пену первый глоток.
— Да, в общем, ничего. — Он так и не решил еще, стоит это обсуждать или нет. Ужин с Евой стал для него настоящим испытанием, во время которого он поглощал не только пищу, но и переваривал умопомрачительное количество всевозможных подробностей и деталей, относящихся к временам Тридцатилетней Войны и Великой Хартии вольностей, а также уйму будуарных сведений из жизни Екатерины Великой. Встать из-за стола в семь тридцать было для него подлинным облегчением, омраченным, однако, непокорно прорвавшимся «Bon nuit, ma chere». [14]
— А что у тебя нового? — поинтересовался он в свою очередь у Гарри.
— Как сказать, — протянул тот, — красим дорожки. Обновление интерьера.
— Красить — это неплохо, — произнес Фред. — Когда рисовать разноцветным воском стало неудобно, древнегреческие и римские художники научились использовать темперу, то есть краски, замешанные на древесной или гипсовой основе, причем в качестве наполнителя в станковой живописи…
Он замолчал, но было уже поздно. Все, разинув рты, смотрели только на него.
— А-а… э-э… чего ты?.. — начал вопрос Гарри Баллард.
— Да так, ничего, — Фред судорожно проглотил слюну, — я всего лишь хотел… — Конец предложения утонул в светло-коричневой пивной глубине.
Баллард перевел взгляд на Пикока, Пикок пожал плечами.
— А как идут дела у тебя в оранжерее, Лу? — он поспешил сменить тему.
— Нормально, — невысокий Пикок кивнул, — в оранжерее все нормально.
— Я так и думал, — тоже кивнул Фред. — Vi sono pui di cinquante bastimenti in porto. [15]— Произнеся это, он заскрежетал зубами и закрыл глаза.
— Что за чушь ты несешь? — Лу потеребил себя за ухо.
Фред закашлялся и торопливо окунул усы в кружку.
— Ничего, ничего.
— Как это? Но ты же только что что-то сказал? — По играющей на широком лице Гарри улыбке можно было видеть, что он приготовился услышать хороший соленый анекдот.
— Я… я сказал, что в гавани стоят более пятидесяти кораблей. — Фред понуро смотрел перед собой.
Улыбка сошла с лица Гарри и больше не появлялась.
— В какой гавани?
— Ну… ну это такая шутка. Сегодня рассказали. Только вот начало я запамятовал.
— А-а, — Гарри пригубил из стакана, — па-анятно.
С минуту они молчали, затем заговорил Лу:
— На сегодня закончил?
— Нет, к сожалению. Осталось прибраться в классах математики.
— Это плохо.
Фред вытер с усов пену.
— Послушайте. Ответьте-ка мне на один вопрос, — хранить все в себе он больше уже не мог, — что бы вы подумали, если бы, проснувшись однажды утром, вы вдруг ни с того ни с сего начали лепетать на французском?
— А кто это таким проснулся? — скосил глаза Гарри.
— Да нет, никто. Я просто… предположил. Ну предположим, что человек… э-э… как бы это выразиться, вдруг понимает, что знает то, чего никогда не учил. Непонятно? Ну вот просто раз — и он это знает. Как будто знания эти всегда были у него в голове, но до него это дошло только сейчас.
— Что еще за знания? — спросил Лу.
— Ну-у… история, к примеру. Языки всякие… иностранные… а еще книги, живопись… атомы и молекулы, химические соединения, — Фред неловко поежился, — и прочие другие сведения.
— Темнишь, приятель. Или я тупой, или… — Последние надежды Гарри похохотать над новым анекдотом рассеялись.
— Ты хочешь сказать, он знает то, о чем никогда даже и не читал? — перебил его Лу. — Я правильно понял?
По речи, по интонации обоих своих друзей Фред почувствовал, что они чего-то не договаривают, в чем-то как будто сомневаются, но боятся признаться. Как будто что-то подозревают, но молчат.
— Ладно, забудем об этом. Я сдуру предположил, а вы и уши развесили.
В тот вечер, ограничившись одной-единственной кружкой, он ушел рано под тем предлогом, что нужно успеть прибраться у математиков, и всю оставшуюся часть дня — и когда подметал, и когда мыл, и вытирал пыль — Фред размышлял только об одном: что с ним происходит?
Дома ждала Ева, несмотря на то что было далеко за полночь.
— Кофе будешь?
— Буду. — Она встала, чтобы налить, но тут же села обратно, услышав: «S’accomadi, la prego». [16]
Глядя на осунувшееся, мрачное лицо жены, Фред перевел:
— Я сказал, сядь, Ева, сам достану.
Пока пили кофе, Фред Элдерман поведал супруге о том, что пережил за последние несколько часов.
— Понимаешь, Ева, у меня это просто не укладывается в голове. Мне… мне даже страшно становится. Я столько знаю того, чего не знал раньше, и при этом понятия не имею, откуда что взялось… ну ни малейшего представления. Но я знаю! Зна-ю, понимаешь меня?
— То есть… ты имеешь в виду, что знаешь не один только французский?
— Мужьями были трое или четверо, сейчас не помню. Но когда я спрашиваю, что потом случилось с их дамами — они ведь оказались свободными, и можно было на них жениться, — он увиливает от ответа и заявляет, какие у меня красивые брови или что-нибудь в том же роде. В общем, переходит на глупости.
— Почему же? Но твои брови и впрямь заслуживают комплимента. К тому же он, наверное, влюблен в тебя?
— О-о, Родерик от меня без ума. И он очень много думает о том, как устроить дуэль с тобой. Его это угнетает. Я имею в виду — невозможность швырнуть тебе в лицо перчатку.
— Не может швырнуть перчатку, пусть бросит стакан.
— Весьма неплохо, милый, — Джанин как будто не ожидала от него такого остроумия, — я предложу ему. Хочешь покажу, как он выглядит?
Лоренс почему-то вдруг испугался.
— Покажешь, как он выглядел, ты хочешь сказать?
Джанин взяла супруга под руку и провела в гостиную, где на мольберте у окна был натянут холст, который она ему не показывала. С картины смотрел молодой аристократ с тонким лицом, рот его слегка улыбался, и если бы не глаза, то портрет оставлял бы вполне приятное впечатление.
Глаза были темно-синие, почти черные. Они притягивали взгляд и не отпускали, словно отдавая некое приказание. И была в них какая-то особенная мрачная глубина. Глядя в эти глаза, Лоренс понял, что Джанин вовсе не рисовала Родерика Джемисона улыбающимся, это всего лишь изгиб губ.
Портрет был лучшим из всего, что Джанин когда-либо создавала при помощи красок.
— Великолепно. Превосходно. — Лоренс не мог сдержать восхищения, но тут же, стараясь говорить как ни в чем не бывало, спокойно поинтересовался: — Значит, вот он какой — майор Родерик Джемисон?.
— Да, дорогой. Он сказал, исключительно похож. — Она залилась звонким смехом. — Но можно бы, говорит, нарисовать его и покрасивее, на что я ответила, что его невыносимое тщеславие начинает мне надоедать.
— Сделай второй портрет, — Лоренс взвешивал каждое слово, — но этот — просто замечателен.
— Надо подумать, может, и сделаю, — Джанин закрыла холст, голос ее стал вял и безразличен, — это было так весело.
Вечером, когда она уже спала, Лоренс наконец-то решился написать в Вашингтон лечащему доктору:
«В уединенном месте, каковым является этот дом, невроз Джанин начал развиваться в новом направлении. Она проводит дни в сплошных мечтаниях, устраивает с помощью доски для спиритических сеансов воображаемые беседы с умершими. Она, похоже, постепенно теряет чувство реальности».
Перо проткнуло бумагу и вошло в зеленое сукно стола. Разорвав письмо в клочья, Лоренс сжег его над кухонной плитой.
— Родерик сказал, что я должна тебя оставить, — заявила она за завтраком, улыбаясь и все еще потягиваясь после сна, — твердит, будто ты меня не понимаешь. Что не веришь ни единому моему слову о нем и считаешь, что я схожу с ума. Это правда?
Лоренс помешивал кофе и боялся поднять глаза. Рука его мелко дрожала. Неужели Джанин видела ночью, как он писал? Как потом все сжег, и догадалась о содержании?
— Родерик так и сказал? А что еще наговорил?
— О, да не обращай внимания, он вечно что-то придумывает. — Она махнула рукой, подошла к нему и поцеловала. Всю оставшуюся часть дня Джанин с напускной веселостью порхала, по дому, шутила и веселилась, отказываясь возвращаться к разговору о майоре Джемисоне.
Проснувшись ночью, Лоренс обнаружил, что жены рядом нет. Он осторожно встал, прокрался вниз по лестнице и, прячась в темноте, остановился перед входом в гостиную.
Джанин с помощью бумаги и щепок развела в камине огонь, другого света в комнате не было. Она смеялась и разговаривала сама с собой, а стакан валялся без дела на полу рядом с доской.
Что она говорила, Лоренс разобрать не мог, потому что голос у нее был такой низкий и глухой, как будто слова произносились кем-то другим. Слабое, неясное бормотание, похожее на порывы ветра. Но он видел ее шевелящиеся губы, ее сияющие глаза. Такой живости, такого радостного воодушевления он в ней не помнил. И это было настоящее, а не показное, как днем.
Одета Джанин была в тонкую просвечивающую ночную рубашку и халат, который ей был очень к лицу — просторный, с длинными, сходящимися к запястьям рукавами, перехваченный на шее голубой ленточкой. Один раз она ухватилась за эту ленточку, словно стесняясь кого-то невидимого, кто собрался за нее дернуть.
В следующее мгновение она кого-то поддразнивала, потом качала головой, как будто отвечала «нет».
У Лоренса возникло предчувствие, что она вот-вот встанет и обернется, он на цыпочках вернулся в спальню. Сердце бешено колотилось, голова разрывалась от мучительных предположений.
Джанин пришла несколькими минутами позже, вялая и апатичная, как обычно. Она была истощена, он чувствовал это.
Что бы там ни было, это никакая не игра и не забава. Это отнимало у нее силы и душевную энергию.
Заснув, она кричала во сне: «Беги! Беги! Беги!» Голова металась по подушке из стороны в сторону, из груди раздавались сдавленные стоны.
Лоренс написал доктору на следующее утро, изложил все детали и, не доверяя письмо Тризе, съездил на почту сам.
Доктор ответил немедленно и настоятельно рекомендовал привезти Джанин, чтобы он мог ее осмотреть, с укором далее припоминая Лоренсу, что он ее не отпускал, ибо не находил целесообразным прерывать лечение. Но Лоренс просил совета, а совета в письме не было. Сухое требование как можно скорее явиться в Вашингтон и все.
Целый час прошел в изучении банковской чековой книжки. А стоило ли туда заглядывать? Цифры он помнил наизусть.
Он высунулся в окно. Дом окружали коротко подстриженные газоны, но Джанин предпочитала гулять там, где трава неухожена. Она шелестела в ней своим длинным платьем. А еще больше она любила ходить на противоположном берегу ручья, пропадая иногда часами в начинающемся дальше лесу. Уж не встречается ли она там с Родериком Джемисоном?
Бред какой-то! Лоренс сжал кулаки. Ее сумасбродство передается и ему? Но ведет она себя так, будто и впрямь бегает к любовнику.
Джанин чудно похорошела. В ней появилась некая внутренняя целостность, она не терзалась больше самодопросами, самообвинениями и несбыточными желаниями, которые, хотя и бывали скоротечны, но неизменно приносили ей чувство поражения и выжимали ее, как лимон.
Походка приобрела величавость и гордость, граничащую порой с заносчивостью, периоды нервных срывов и беспричинной раздражительности, характерные для ранней стадии заболевания, прекратились.
Достав письмо доктора, Лоренс собрался сочинить ответ, но слова не шли из-под пера, и он взялся за другую работу. Трудиться! Трудиться и выкинуть из головы соблазнительные денечки, голубое безоблачное небо, запах жимолости и запутавшуюся в несуществующем мире бездельничащую жену.
Послеполуденное время прошло в делах по хозяйству, а вечером, изможденный, он сел за ужин, поданный словно парящей над полом Джанин на тускло поблескивающем в свете свечей хрупком фарфоре.
Лоренс поразился, что она пьет из того самого стакана, который использует для общений с потусторонним миром. Рука ее почти не выпускала стакан, и она практически ничего не ела, только медленно пила, нежно водя губами по краю стакана.
После напряженной работы от вина у него слипались глаза, веки отяжелели и мешали наблюдать за Джанин.
Персики в бренди были поданы в вазочках из розового хрусталя. Каждое движение, каждый жест Джанин дышали любовью и покоем, она обслуживала его, как обслуживают любовника. Но он-то знал, о ком она думает.
Когда легли спать, начался дождь. Тяжелые капли били по медным водосточным желобам, настойчиво колотились в оконные рамы. Громыхнул гром, следом за ним сверкнула молния. Гроза приближалась.
Джанин заснула быстро и спала безмятежно, но к Лоренсу сон не шел. Он слишком устал. Лоренс возился, ворочался с боку на бок, зажигал и гасил сигареты. Уставившись в разрываемую всполохами молний темноту, он лежал и прислушивался, как раскаты грома доносятся все ближе и ближе.
На одном из окон ветром оторвало ставень, и он несколько раз сильно стукнулся о раму. Лоренс выругался и встал, чтобы закрепить его. А когда обернулся — перед ним, глядя ему прямо в лицо, стояла Джанин.
Он не мог ни двинуться, ни пошевелиться. От выражения ее лица он окаменел, Джанин смотрела на него со злобной ненавистью.
После очередной вспышки света она встряхнулась и направилась по лестнице вниз, в темноту. Лоренс кинулся искать фонарь, но тщетно, и тогда, боясь опоздать, пошел за ней наощупь.
Она не оборачивалась и не оглядывалась. Не обернулась даже тогда, когда он два раза подряд наступил на страшно скрипящие половицы. Теперь Лоренс не сомневался — она идет во сне.
Распахнулась входная дверь, и Джанин вышла на улицу. Он за ней. От дождя и ветра Лоренс сразу же продрог, но идущая впереди Джанин, похоже, ничего не чувствовала. Ее волосы развевались, прозрачная ночная рубашка трепетала на ветру.
Лоренс вспомнил о заросших бурьяном котлованах и торчащих из земли камнях фундамента на месте конюшен и построек для слуг. Она направлялась как раз туда. Пусть даже он ее испугает, но остановить необходимо.
— Джанин! — окликнул он, силясь перекричать завывания ветра. — Джанин, остановись!
Она услышала, замерла на секунду и уже, должно быть, различила в ночи его приближающуюся фигуру, но в следующее же мгновение ускользнула, и он успел только увидеть мелькнувшую белую рубашку.
— Стой! Подожди! — приказал Лоренс.
— Ты отстал, Родерик, — торжествующе засмеялась она, поймай меня, попробуй. — С быстрого шага Джанин перешла на бег. — Беги! Беги! Беги! — Ему вспомнились слова из ее сна.
Лоренс побежал. Но она бежала быстрее, с удивительной ловкостью и уверенностью огибая опасные ямы. Все дальше и дальше, и все ближе к ручью.
Лоренс понял. И вот уже она перебежала через мостик, очевидно, вспомнив, что текущую воду духи и привидения пересекать не могут.
Ступив на противоположный берег, Джанин ликовала. Теперь уже ничто не может помешать ей, если она захочет спрятаться в лесу, и тогда ищи ее хоть всю ночь. Лоренс промок до последней нитки, наверняка и на ней нет сухого местечка. Можно же запросто схватить воспаление легких.
— Джанин! Подожди меня! — отчаянно крикнул он.
— Отстал, отстал, отстал, — хохотала она. Снова блеснула молния. В ее ослепительном свете Лоренсу показалось, что в глазах у Джанин мелькнуло что-то похожее на узнавание. Рот раскрылся, мокрые волосы прильнули ко лбу, насквозь сырая рубашка плотно облегала тело.
В три прыжка он очутился по ту сторону ручья. Успеть схватить ее во что бы то ни стало, он должен… Лоренс протянул к ней руки, но в этот момент как будто чья-то злая рука поймала его за щиколотку, приподняла и бросила. Падая вперед, он успел взглядом выхватить из темноты полузаросший высокой травой белый угол мраморного надгробия и в свете молнии различил даже буквы, с которых сам же содрал мох:
«ДЖЕМИ…»
Лоб его с налета, со всей силой ударился о мрамор. Когда следующим утром нанятая Лоренсом девушка по имени Триза пришла прибираться, то она застала Джанин сидящей на полу в гостиной во все еще мокрой ночной рубашке. Склонившись над Лоренсом, тело которого она каким-то образом ухитрилась дотащить до дома, Джанин гладила лежащую на коленях окровавленную голову мужа. В потухшем камине валялась полуобгоревшая шахматная доска, а рядом на полу были разбросаны осколки разбитого стакана. Джанин медленно подняла взор на вошедшую в комнату Тризу.— Он не любил меня. — Голос ее настолько охрип, что Триза едва разобрала слова. — Ему не было до меня никакого дела. Он никогда не любил ни единую женщину, а хотел только одного — убивать и убивать!
Это было последнее связное предложение, которое от нее слышали.
Перевод с англ. Н. Савиных
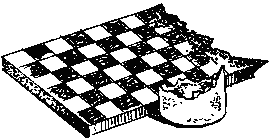
Ричард Мэтисон
КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ
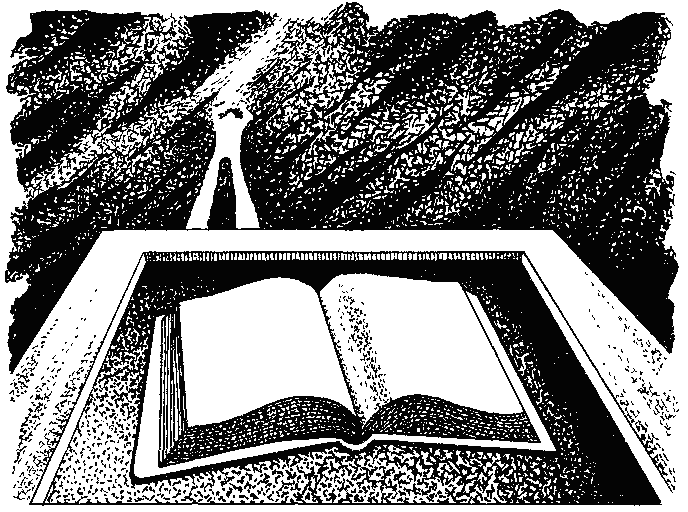
Проснувшись в то утро, он заговорил по-французски. Никакого предупреждения не было. В четверть седьмого, как и обычно, прозвонил будильник и они с женой заворочались. Высунув из-под одеяла онемевшую во сне руку, Фред нажал на кнопку, и в комнате на некоторое время воцарилась тишина.
Затем Ева отбросила одеяло на середину кровати со своей стороны, он — со своей, и его тощие жилистые ноги свесились на пол.
— Bon matin, [2]— сказал он.
Последовала короткая пауза.
— Что? — спросила она.
— Je dis bon matin. [3]
Жена зашуршала ночной рубашкой и, повернув голову, посмотрела на Фреда.
— Что-что?
— Я всего лишь сказал «с добрым ут…»
Фред Элдерман непонимающе уставился на супругу.
— А что я сказал на самом деле? — он перешел на шепот.
— «Бонматен» или что-то в этом роде.
— Je dis bon matin. C’est un bon matin, n’est pas? [4]
Co звуком попадающего в бейсбольную перчатку быстро летящего мяча Фред Элдерман шлепнул ладонью по собственному рту, зажал его и поверх кляпа из пяти пальцев вытаращил на миссис Элдерман округлившиеся глаза.
— Фред, что это такое!
Он медленно убрал руку и разжал губы.
— Ева, я не знаю. — Его вдруг охватил ужас. Фред машинально поднес руку к голове, указательный палец почесал обрамленную волосами лысину. — Смахивает на… на какую-то заграничную болтовню.
— Но ты же не знаешь ни одного иностранного языка, Фред!
— В том-то и дело.
Они растерянно разглядывали друг друга. Наконец Фред посмотрел на часы.
— Пора одеваться.
Он прошел в ванную, и Ева с недоумением вслушивалась в доносившуюся оттуда незнакомую песенку: «Elle fit un fromage, du lait de ses moutons, rori, ron, du lait de ses moutons», [5]однако мешать мужу, когда он бреется, не решилась.
Беря кофе за завтраком, Фред что-то пробормотал.
— Что? — непроизвольно вырвалось у Евы прежде, чем она смогла себя остановить.
— Je die que veut dire ceci? [6]
Он услышал, как она поперхнулась.
— Я хочу сказать, — Фред не верил своим ушам, — что это может значить?
— Вот-вот, чтос тобой происходит? Никогда в жизни ты не говорил по-иностранному.
— Знаю, — поднесенный ко рту поджаренный хлеб застыл в воздухе, — а что… что это за язык, на котором…
— Мне к-кажется, ф-французский.
— Французский? Но я не знаю французского.
Ева судорожно отхлебнула из чашки.
— А теперь вот знаешь, — произнесла она еле слышно.
Фред сверлил глазами скатерть.
— Le diable s’en mele, [7]— буркнул он себе под нос.
Ева сорвалась на крик:
— Фред! Что ты сказал?!
— Я говорю, без дьявола тут не обошлось. — Он боялся взглянуть на жену.
— Но Фред, ты же… — Она резко поднялась со стула и набрала в грудь воздуха. — Хватит. Богохульствовать не будем. Должна быть какая-то причина, не так ли? — Фред молчал. — Что тыдумаешь? Есть причина или нет?
— Ну да, Ева. Ну, конечно. Но…
— Никаких но. — Она, казалось, не успокоится, пока не доберется до истины. — Итак, рассудим здраво — может ли на свете существовать какая-либо причина, по которой тебе приспичило защебетать на французском языке? Просто так вот, запросто, раз и все! — Ева прищелкнула пальцами.
Фред неопределенно помотал головой.
— А раз так, тоща… — она с трудом подбирала слова, не зная, как продолжить, — тогда давай посмотрим. — Супруги снова молча разглядывали друг друга. — А ну-ка, скажи что-нибудь, например… — Ева мучительно подыскивала фразу, — например, хотя бы вот это… э-э…
Голос ее постепенно затих.
— Сказать что-нибудь?
— Да-да. Валяй, не стесняйся.
— Un gemissement se fit entendre. Les dogues se mettent(a) aboyer. Ces gants me vont bien. II va sur quinze ans… [8]
— Ф-ф-фред?!
— Il fit fabriquer une exacte representation dumonstre. [9]
— Фред!! Прекрати! — Ева испуганно закричала.
Он осекся и, моргая, глядел на жену.
— Что… что ты сказал на этот раз, Фред?
— Я сказал: «Раздался стон. Мастифы начали лаять. Эти перчатки мне впору» и еще: «Скоро ему будет пятнадцать лет». А потом…
— Что потом?
— «Он изготовил мне точную копию чудовища». Sans meme 1’entamer. [10]
— Фред, опять?!
Но Фред как будто заболел.
— «И даже не поцарапали», — закончил он.
Стояло раннее утро, и жизнь в студенческом городке еще не началась. Единственными занятиями, проходившими в это время, были две лекции по экономике с семи тридцати, да и то они проходили в Белом Кампусе. Здесь же, в Красном, все было тихо. Через час дорожки наполнятся молодым шумным говором, смехом и бесцельно слоняющимися стайками будущих ньютонов и фарадеев, а пока же повсюду царили тишь и благодать.
Состояние покоя, однако, не распространялось на бредущего вдоль восточной стороны кампуса и направляющегося к зданию администрации Фреда Элдермана. Оставив Еву в растерянных чувствах, он всю дорогу до работы ломал себе голову над тем, что же это может быть.
И впрямь, что это? Когда это началось? «C’est une heure», [11]— пронеслось в мозгу.
Фред сердито тряхнул головой. Ужасно. Невероятно. Он попробовал мысленно найти хоть какое-то объяснение случившемуся, но не смог. В том, что произошло, не было абсолютно никакого смысла. В свои пятьдесят девять, так и не получив образования, он влачил тихое спокойное существование университетского уборщика и смотрителя. И вдруг однажды утром проснулся свободно говорящим по-французски.
Почему именно по-французски?
Не обращая внимания на холодный октябрьский ветер, Фред остановился и задрал голову к куполу Джереми-холла. Вчера вечером он там прибирался. Может быть, это как-то связано…
Нет, но это же просто-напросто смешно. Он зашагал дальше, в то время как его губы сами шептали: «Je suis, tu es, il est, elle est, nous somines, vous etes…» [12]
В половине девятого он вошел в офис исторического факультета, где необходимо было починить раковину, проработал там один час и семь минут, после чего, сложив инструменты в сумку, направился к себе.
— Доброе утро, — поздоровался он с сидящим за столом профессором.
— Доброе, — отозвался тот.
Выходя с факультета в коридор, Фред Элдерман подумал, как это замечательно, что доходы Людовика Шестнадцатого при тех же поборах и налогах превысили доходы предыдущего Людовика на целых сто тридцать миллионов ливров и что экспорт в период с 1720-го по 1746-й увеличился со ста шести миллионов до ста девяноста двух. А кроме того…
Он остановился как вкопанный прямо посреди холла с застывшей маской изумления на худом лице.
В то утро Фред Элдерман прибирался и кое-что чинил еще на факультете физики, потом — химии, потом — на факультете английского языка и в конце дня — в Отделении изящных Искусств.
Маленькая таверна неподалеку от Мэйн-стрит носила название «Уиндмилл», а иначе — «Мельница». По понедельникам, средам и пятницам, вечером, Фред заглядывал туда, чтобы уговорить кружечку—другую пивка, а заодно и обсудить последние новости с двумя своими приятелями — Гарри Баллардом, менеджером кегельбана, принадлежащего Хогану, и Лу Пикоком, почтовым служащим, увлекающимся на досуге садовым делом.
В тот вечер Фред, едва только он появился в дверях полуосвещенного салуна — кстати, это слышал выходящий на улицу хозяин заведения, — сказал:
— Je connais tous ces braves gens. [13]— Затем, виновато скривив губы, поправился: — То есть я хотел сказать… — оглядел собравшихся и так и не договорил.
Гарри Баллард заметил его сначала в зеркале.
— Подваливай к нам, старина! Виски сегодня идет отлично. — Он неуклюже повернул в сторону Фреда толстую шею и, не глядя на бармена выкрикнул: — Еще стаканчик для старины Фреда!
Фред подошел к стойке и улыбнулся, впервые за весь день. Пикок и Баллард по-дружески хлопнули его по плечу, бармен придвинул высокую кружку с пивом.
— Что новенького, дружище? — спросил Гарри.
Фред прижал двумя пальцами усы и сделал сквозь пену первый глоток.
— Да, в общем, ничего. — Он так и не решил еще, стоит это обсуждать или нет. Ужин с Евой стал для него настоящим испытанием, во время которого он поглощал не только пищу, но и переваривал умопомрачительное количество всевозможных подробностей и деталей, относящихся к временам Тридцатилетней Войны и Великой Хартии вольностей, а также уйму будуарных сведений из жизни Екатерины Великой. Встать из-за стола в семь тридцать было для него подлинным облегчением, омраченным, однако, непокорно прорвавшимся «Bon nuit, ma chere». [14]
— А что у тебя нового? — поинтересовался он в свою очередь у Гарри.
— Как сказать, — протянул тот, — красим дорожки. Обновление интерьера.
— Красить — это неплохо, — произнес Фред. — Когда рисовать разноцветным воском стало неудобно, древнегреческие и римские художники научились использовать темперу, то есть краски, замешанные на древесной или гипсовой основе, причем в качестве наполнителя в станковой живописи…
Он замолчал, но было уже поздно. Все, разинув рты, смотрели только на него.
— А-а… э-э… чего ты?.. — начал вопрос Гарри Баллард.
— Да так, ничего, — Фред судорожно проглотил слюну, — я всего лишь хотел… — Конец предложения утонул в светло-коричневой пивной глубине.
Баллард перевел взгляд на Пикока, Пикок пожал плечами.
— А как идут дела у тебя в оранжерее, Лу? — он поспешил сменить тему.
— Нормально, — невысокий Пикок кивнул, — в оранжерее все нормально.
— Я так и думал, — тоже кивнул Фред. — Vi sono pui di cinquante bastimenti in porto. [15]— Произнеся это, он заскрежетал зубами и закрыл глаза.
— Что за чушь ты несешь? — Лу потеребил себя за ухо.
Фред закашлялся и торопливо окунул усы в кружку.
— Ничего, ничего.
— Как это? Но ты же только что что-то сказал? — По играющей на широком лице Гарри улыбке можно было видеть, что он приготовился услышать хороший соленый анекдот.
— Я… я сказал, что в гавани стоят более пятидесяти кораблей. — Фред понуро смотрел перед собой.
Улыбка сошла с лица Гарри и больше не появлялась.
— В какой гавани?
— Ну… ну это такая шутка. Сегодня рассказали. Только вот начало я запамятовал.
— А-а, — Гарри пригубил из стакана, — па-анятно.
С минуту они молчали, затем заговорил Лу:
— На сегодня закончил?
— Нет, к сожалению. Осталось прибраться в классах математики.
— Это плохо.
Фред вытер с усов пену.
— Послушайте. Ответьте-ка мне на один вопрос, — хранить все в себе он больше уже не мог, — что бы вы подумали, если бы, проснувшись однажды утром, вы вдруг ни с того ни с сего начали лепетать на французском?
— А кто это таким проснулся? — скосил глаза Гарри.
— Да нет, никто. Я просто… предположил. Ну предположим, что человек… э-э… как бы это выразиться, вдруг понимает, что знает то, чего никогда не учил. Непонятно? Ну вот просто раз — и он это знает. Как будто знания эти всегда были у него в голове, но до него это дошло только сейчас.
— Что еще за знания? — спросил Лу.
— Ну-у… история, к примеру. Языки всякие… иностранные… а еще книги, живопись… атомы и молекулы, химические соединения, — Фред неловко поежился, — и прочие другие сведения.
— Темнишь, приятель. Или я тупой, или… — Последние надежды Гарри похохотать над новым анекдотом рассеялись.
— Ты хочешь сказать, он знает то, о чем никогда даже и не читал? — перебил его Лу. — Я правильно понял?
По речи, по интонации обоих своих друзей Фред почувствовал, что они чего-то не договаривают, в чем-то как будто сомневаются, но боятся признаться. Как будто что-то подозревают, но молчат.
— Ладно, забудем об этом. Я сдуру предположил, а вы и уши развесили.
В тот вечер, ограничившись одной-единственной кружкой, он ушел рано под тем предлогом, что нужно успеть прибраться у математиков, и всю оставшуюся часть дня — и когда подметал, и когда мыл, и вытирал пыль — Фред размышлял только об одном: что с ним происходит?
Дома ждала Ева, несмотря на то что было далеко за полночь.
— Кофе будешь?
— Буду. — Она встала, чтобы налить, но тут же села обратно, услышав: «S’accomadi, la prego». [16]
Глядя на осунувшееся, мрачное лицо жены, Фред перевел:
— Я сказал, сядь, Ева, сам достану.
Пока пили кофе, Фред Элдерман поведал супруге о том, что пережил за последние несколько часов.
— Понимаешь, Ева, у меня это просто не укладывается в голове. Мне… мне даже страшно становится. Я столько знаю того, чего не знал раньше, и при этом понятия не имею, откуда что взялось… ну ни малейшего представления. Но я знаю! Зна-ю, понимаешь меня?
— То есть… ты имеешь в виду, что знаешь не один только французский?
