Страница:
Мои успехи, похоже, сильно поразили М’Квайе. Она разглядывала меня как Сартовский «Иной». Не поднимая головы, я читал главу книги Локара, прямо-таки физически ощущая ее пристальный оценивающий взгляд, который, казалось, ощупывал меня с головы до ног и словно опутывал невидимой сетью. Я перевернул страницу.
«Суета сует, — сказал Экклезиаст,
Суета сует: все суета.
Что пользы человеку от всех трудов его…»
Может быть, она надеялась каким-нибудь образом поймать меня в свои сети и уже заранее пыталась определить размеры улова.
В книгах ничего не говорилось о рыбаках Марса. В них говорилось, что некий бог по имени Маллан плюнул или сделал нечто не менее неприличное (в зависимости от версии, которую вы читали), и от этого зародилась жизнь. Она возникла как болезнь неорганической материи. В текстах говорилось, что главный закон жизни — это движение, что в гармонии танца единственное оправдание органической материи перед неорганической, что любовь — это болезнь органической материи.
Я потряс головой: меня клонило в сон.
— M’Happa.
Я встал и потянулся. М’Квайе все также пристально смотрела на меня, глаза наши встретились… и она отвела взгляд.
— Я устал и хотел бы отдохнуть. Прошлую ночь я почти не спал.
Она кивнула. Этот эквивалент земного «да» она усвоила от меня.
— Хотите познать сущность учения Локара естественным путем?
— Простите, не понял?
— Хотите увидеть один из танцев Локара?
— Ox! — Проклятый круговорот аллегорий и идиом, хуже, чем в Коране. — Да, конечно. Буду рад увидеть его в любое время.
— Оно пришло.
— А можно я сделаю снимки?
— Не сейчас. Садитесь и отдыхайте, а я позову музыкантов. — Она торопливо вышла за дверь, которую я раньше не замечал.
Что ж, в соответствии с учением Локара, танец — высшая форма выражения жизни, и сейчас мне предстояло увидеть, как нужно танцевать по мнению философа, умершего сотни лет назад.
Я потер глаза и сделал несколько наклонов вперед, доставая пальцами рук пол, пока не зазвенело в ушах. Сделав глубокий вдох, я снова наклонился и тут краем глаза заметил какое-то движение около двери.
Троим, вошедшим вместе с М’Квайе, могло показаться, что я что-то ищу на мраморном полу. Я снова улыбнулся и выпрямился. Лицо мое покраснело не только от физических упражнений, я не ждал их так быстро.
Маленькая рыжеволосая куколка, закутанная, как в сари, в кусок прозрачного марсианского неба, удивленно смотрела на меня, как ребенок смотрит на флажок, прикрепленный на высокой мачте.
— Здравствуйте, — произнес я.
Перед тем как ответить, она наклонилась. Видимо, меня повысили в ранге.
— Я буду танцевать, — сказал она.
Рот ее был как алая роза на бледной камее лица. Глаза цвета мечты потупились. Она плавно проплыла к центру зала и, стоя так, как статуэтка в этрусском фризе, казалось, задумчиво созерцала узоры мозаичного пола. Символизировала ли что-либо эта мозаика? Я всмотрелся в узоры. Если и имела она какой-то особый смысл, то он от меня ускользнул. Мозаика украсила бы пол в ванной или во дворике, но больше я в ней ничего не видел.
Две другие женщины были одних лет с М’Квайе и походили на аляповато раскрашенных птичек. Одна из них примостилась на полу с трехструнным инструментом, отдаленно напоминающем сямисэн, другая держала в руках деревянный барабан и две палочки.
М’Квайе села на пол, и я последовал ее примеру. Пока настраивался сямисэн, я наклонился к М’Квайе.
— Как зовут танцовщицу?
— Бракса, — ответила она, не гладя на меня, и дала знак начинать, подняв левую руку.
Струны инструмента задребезжали, как нож по сковороде, а из барабана послышалось тикание, как признак часов, так и не изобретенных на Марсе. Бракса с поднятыми к лицу руками и широко разведенными локтями была неподвижна, как статуя.
Музыка стала метафорой огня. Трр. Хлоп. Брр. Ссс. Она не двигалась, свист перешел в плеск. Ритм замедлился. Теперь это была вода — самое драгоценное, что есть в мире, — с тихим журчанием бегущая среди поросших мхом камней.
Она по-прежнему не двигалась.
Глассандо. Пауза.
Теперь наступил черед ветра: легкого, неуверенно замирающего. Опять пауза, и все сначала, но уже громче.
И вот она задрожала, но так слабо, что я не уловил начала. А может быть, мои глаза, уставшие от постоянного напряжения, обманывали меня, или она действительно дрожала с головы до ног. Да, дрожала. А затем начала едва заметно раскачиваться. Пальцы, заслонявшие ее лицо, раскрылись, как лепестки цветка, и я увидел, что глаза ее закрыты. Наконец она открыла глаза. Далекие и холодные, как стекло, они смотрели, не видя, сквозь меня, сквозь стены. Раскачивание стало заметнее.
Пальцы ее быстро двигались, они были порывами ветра, руки ее опустились вниз и раскачивались в разные стороны, как два маятника.
Дует ветер пустыни,
Обрушиваясь на Териллиан волнами прибоя.
Она закружилась: теперь кисти рук следовали за телом, а плечи выписывали восьмерки.
Приближается ураган.
Вокруг этих глаз — неподвижного центра — кружится смерч. Голова отклонилась назад, и я знал, что никакая преграда не сможет помешать этому бесстрастному, как у будды, взгляду слиться с неизменными небесами. И только две луны в вечной нирване бирюзы могли, может быть, нарушить то совершенное состояние души, освобожденной танцем.
Ветер, говорю я, о загадочный ветер!
О святая муза Сен-Жон-Перса! [28]
Много лет назад, в Индии, я видел уличных танцовщиц, но Бракса была чем-то большим, она была священной танцовщицей последователей Рамы, воплощением Вишну, подарившего людям танец.
Музыка стала монотонной. Тоны струн заставили вспомнить о палящих лучах солнца, жар которого укротил ветер, голубой цвет был Сарасвати, и Марией, и девушкой по имени Лаура. Я слышал откуда-то звуки свирели, видел, как оживает эта статуя, в которую вдохнули божественное откровение.
Я был Рембо с его гашишем, Бодлером с его опиумом, я был Эдгаром По, Де Квинси, Уайльдом, Малларме и Алистром Кроули. На долю секунды я был отцом в черном костюме на темной кафедре проповедника.
Она была вертящимся флюгером, крылатым распятием, парящим в воздухе, яркой тканью, бьющейся на ветру. Плечи ее обнажились, правая грудь опускалась и поднималась, как луна в небе, алый сосок то появлялся на мгновение, то вновь исчезал в складках одежды.
Музыка стала чем-то формальным, как спор Иова с богом, и танец был ответом Бога. Постепенно замедляясь, музыка становилась все спокойнее. Танец вторил ей. Одежда, словно живая, поползла вверх и собралась в первоначальные строгие складки. Бракса склонялась все ниже к полу. Голова ее коснулась колен, и с последним звуком она замерла.
Наступила тишина.
По боли в мышцах я понял, в каком напряжении находился. Я весь взмок, так что пот ручейками струился по спине.
Что теперь делать? Аплодировать?
Краем глаза я наблюдал за М’Квайе.
Она подняла правую руку. И, словно получив приказ, девушка вздрогнула всем телом и встала. Следом за ней поднялись и музыканты, и М’Квайе. Я тоже встал и почувствовал, что отсидел левую ногу. Ее покалывало.
— Это было прекрасно, — сказал я, понимая, что слова здесь бессильны.
В ответ я услышал три различные формы благодарности на Священном языке.
Мелькание красок, и я снова наедине с М’Квайе.
— Это сто семнадцатый из двух тысяч двухсот двадцати четырех танцев Локара.
Я посмотрел на нее.
— Прав был Локар или ошибался, но он нашел прекрасный ответ неорганической материи.
Она улыбнулась.
— Танцы вашего мира похожи на этот?
— Некоторые. Я вспоминал о них, когда смотрел на Браксу. Но такого я никогда не видел.
— Бракса — лучшая танцовщица и знает все танцы, — сказала М’Квайе.
Какая-то тайная мысль вновь промелькнула в ее взгляде и сразу исчезла, оставив у меня, как и в первый раз, ощущение никоторого беспокойства.
— Сейчас я должна вернуться к своим обязанностям. — Она подошла к столу и закрыла книги. — M’Happa.
— До свидания. — Я надел башмаки.
— До свидания, Галлингер.
Я вышел за дверь, сел в джипси и помчался сквозь вечер в ночь, а крылья разбуженной пустыни медленно колыхались за моей спиной.
Закрывая дверь за Бетти после непродолжительного занятия по грамматике, я вдруг услышал голоса. Разговаривали в хасле. Открытый вентиляционный люк в моей каюте поставил меня в дурацкое положение, получалось, что я подслушиваю.
Мелодичный дискант — это Мартон:
— …нет, знаете, он совсем недавно сказал мне: «Привет».
— Хм! — это Эмори фыркает во все легкие как слон. — Либо он спал на ходу, либо ты стоял у него на пути, и он хотел, чтобы ты посторонился.
— Скорее всего, он просто не узнал меня. По-моему, он теперь совсем не спит. Нашел себе новую игрушку — этот язык. На прошлой неделе у меня были ночные вахты. Каждый раз, когда я проходил мимо его двери в три часа ночи, всегда слышал, как бубнит его магнитофон, а когда возвращался в пять — он все еще работал.
— Работает он действительно упорно, — нехотя согласился Эмори. — Наверное, глотает наркотики, чтобы не спать. Все эти дни у него какие-то остекленевшие глаза. Впрочем, для поэта это, может быть, естественное состояние?
— Что бы вы там ни говорили, — вмешалась в разговор Бетти (видимо, она только подошла), — мне понадобился целый год, чтобы изучить этот язык, а ему это удалось за три недели, хотя я профессиональный лингвист, а он — поэт.
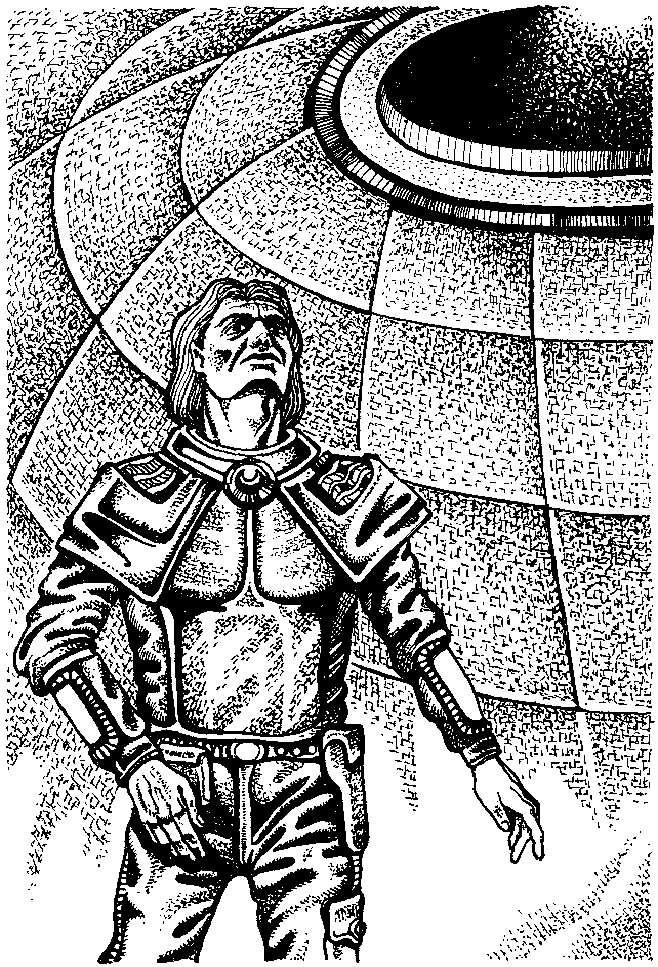
Должно быть, Мартон был неравнодушен к Бетти, иначе что еще могло заставить его тут же сдаться и сказать буквально следующее:
— Во время учебы в Университете я прослушал курс лекций по современной поэзии. Нам предлагалось шесть авторов: Паунд, Элиот, Крейн, Йетс, Стивенс и Галлингер. В последний день семестра профессор был, как видно, в настроении и произнес речь: «Эти шестеро — цвет нашей литературы за последние сто лет, их имена начертаны золотом в Книге Вечности, и никакие капризы моды, амбиции критиков, никакие силы ада не властны над ними». Лично я считаю, — продолжал Мартон, — что его «Свирели Кришны» и «Мадригалы» — это шедевры. Для меня большая честь быть с ним в одной экспедиции, хотя с момента нашего знакомства он не сказал мне и двух десятков слов, закончил он.
— А вам никогда не приходило в голову, — спросила Бетти, — что в детстве, да и в юности, наверное, у него не было друзей среди сверстников — раннее развитие не позволяет такой роскоши — и что за внешней холодностью он прячет свою ранимую душу?
— Как вы сказали, ранимую душу?! — хрюкнул Эмори. — Да он горд, как Люцифер, он просто ходячий автомат для оскорблений. Нажмешь на кнопку «Привет» или «Прекрасная погода», а он сразу покажет вам кукиш. Это у него уже рефлекс.
Высказав в мой адрес еще парочку подобных комплиментов, они разошлись.
Будь благословен, юный Мартон! Маленький краснощекий любитель поэзии с прыщавым лицом. Я никогда не присутствовал на таких лекциях, но рад, что они находят своих приверженцев. Может быть, молитвы отца услышаны, и я, сам того не ведая, стал миссионером! Только у миссионера должно быть нечто, во что он обращает людей. У меня, конечно, есть собственная эстетическая система, которая, вероятно, содержит в себе и эти ценности. Но если мне придется проповедовать в стихах или молитвах, я буду обращаться не к тебе. В моем раю, там где Свифт, Шоу и Петроний, для тебя нет места. Как мы пируем там! Съедаем Эмори и приканчиваем с супом тебя, Мартон!
Я подошел к столу. Мне захотелось что-нибудь написать. Экклезиаст подождет до ночи. Мне захотелось написать о сто семнадцатом танце Локара: о розе, тянущейся к свету, розе, трепещущей на ветру, о больной розе, как у Блейка, розе умирающей.
Найдя карандаш, я приступил к работе, а когда закончил, был очень доволен. Возможно, не шедевр. — Священным марсианским я владею еще недостаточно хорошо. Немного подумав, я решил сделать перевод на английский в параллельных рифмах.
Я отодвинул в сторону листок и поискал снотворное, ибо просто падал от усталости.
У Времени перехватив дыханье
Пустыни ветер ледяной
Так заморозил грудь Вселенной,
Что Млечный Путь застыл над бренной,
Оцепенелою землей…
Лишь две луны над головой,
Что, словно кошка и собака,
В погоне вечно меж собой,
Нарушить может тот покой…
…………………………..
…………………………..
Цветок трепещет огненной главой.
На следующий день я показал стихотворение М’Квайе. Она несколько раз очень внимательно перечитала его и сказала:
— Прекрасно, но вы употребили несколько слов из своего языка. Это, как я поняла, два маленьких зверька, традиционно ненавидящих друг друга. Но что такое «цветок»?
— Мне ни разу не попадался в вашем языке эквивалент слова «цветок», но я думал о земном цветке, о розе.
— А на что она похожа?
— У нее, как правило, ярко-красные лепестки. Именно это я и имел в виду, когда писал об «огненной голове». И еще — я хотел передать пламя и рыжие волосы. Огонь жизни и страсти. Стебель у розы длинный с колючими шипами, зеленые листья и нежный приятный запах.
— Я хотела бы увидеть розу.
— Думаю, что это можно устроить.
— Да, прошу вас, вы… — она употребила слово, звучащее у нас как «мессия» или «пророк», вроде как Исайя или Локар. Ваше стихотворение — знамение свыше. Я расскажу о нем Браксе.
Я был польщен, но пророк… нет, это уж слишком. Я отклонил это почетное звание и тут же подумал, что наступил момент, когда можно обратиться с просьбой.
— Мне хотелось бы иметь копии всех ваших текстов, а пишу я недостаточно быстро, — начал объяснять я. — Нельзя ли мне принести в храм кинокамеру и копировальный аппарат?
К моему немалому удивлению она сразу же согласилась и даже сделала встречное предложение, приведшее меня в замешательство.
— Может быть, вы поживете здесь, и тогда смогли бы работать в любое удобное для вас время, кроме тех часов, разумеется, когда в храме идет служба.
— Почту за честь, — поклонился я.
— Хорошо, приносите свои машины, я же определю вам комнату.
— Можно ли прямо сегодня?
— Разумеется.
— Тогда я иду собирать вещи. До вечера.
— До свидания.
Я был уверен, что возражения Эмори не будут слишком настойчивыми. Всем на корабле хотелось бы увидеть марсиан, узнать, из чего они сделаны, расспросить их о климате, болезнях, химическом составе почвы, о политическом устройстве и, конечно, о грибах (наш ботаник просто помешан на всякого рода грибах, а что касается всего остального — он отличный парень), но лишь четыре или пять человек имели такую возможность. Экспедиция большую часть времени раскапывала мертвые города, их акрополи. Мы строго соблюдали правила игры, по которым марсиане жили так же, как японцы в девятнадцатом столетии.
Я согласился в расчете на то, что сопротивление будет не очень сильным, и оказался прав. У меня даже сложилось впечатление, что все будут только рады моему отсутствию.
Я отправился в лабораторию гидропоники поговорить с нашим любителем грибов.
— Привет, Кейн. Как, растут поганки?
Он чихнул, он всегда чихал. Может, у него аллергия к растениям?
— Привет, Галлингер. Нет, с поганками мне определенно не повезло, но на обратном пути загляни в тот угол. Там у меня проклюнулась пара кактусов.
— Это уже кое-что, — заметил я. Док Кейн — мой единственный друг на борту, не считая Бетти. — Я пришел попросить тебя кое о чем.
— А именно?
— Мне нужна роза.
— Что?
— Хорошая, алая американская роза: шипы, аромат…
— Не думаю, чтобы она прижилась на этой почве. Апчхи!
— Ты не понял. Я не собираюсь разводить здесь розы. Мне нужен только цветок.
— Можно использовать бассейн, — он почесал свой лысый затылок, — но это займет, по меньшей мере, месяца три, даже с ускорителем роста.
— Сделаешь?
— Конечно, если ты можешь подождать.
— Могу. Собственно, три месяца — это как раз к отлету. Я осмотрел бассейн с водорослями и горшками с рассадой. Сегодня я переправляюсь в Териллиан, но буду периодически наведываться. Предупреди, когда роза расцветет.
— Переселяешься. Мур говорил, что они исключительно разборчивы.
— Ну, значит, я и есть это самое «исключение».
— Похоже, что так. Впрочем, у меня до сих пор не укладывается в голове, как тебе удалось постичь этот их язык. Мне, разумеется, приходилось учить французский и немецкий, но на днях я слышал за ленчем, как Бетти демонстрировала марсианский. Какие-то невообразимые звуки. Она сказала, что говорить на нем — все равно что подражать птичьим голосам, одновременно разглядывая кроссворд в «Таймс».
Я рассмеялся и, взяв предложенную сигарету, сказал:
— Да, непростой язык, но, знаешь… Это все равно как если бы ты вдруг нашел здесь совершенно новый класс грибов. Они начнут тебе сниться по ночам.
Глаза у него заблестели.
— Вот здорово! А что, может быть, и найду еще, — сказал он, посмеиваясь, и проводил меня до двери. — Вечером займусь твоей розой. Береги там себя.
— Спасибо.
Я же говорил, что он помешан на грибах, а в остальном отличный парень.
Моя комната в Териллиане примыкала к храму. По сравнению с моей тесной каютой на корабле она была просто дворцом. К тому же их цивилизация уже доросла до изобретения мягких матрацев, и кровать, как ни странно, оказалась мне по росту.
Я распаковал вещи, но, прежде чем сесть за книги, сделал несколько снимков самого зала. Я щелкал, пока мне не стало тошно от монотонно-безумного переворачивания страниц, и тогда я начал переводить исторический трактат:
Внимайте. В тридцать седьмой год процесса Силлена пришли дожди, которые послужили сигналом к праздничным церемониям, так как это редкое и великое событие обычно истолковывалось как благо. Но то, что падало с небес, не было живительным семенем Маллана. Это была черная кровь вселенной, бьющая струей из ее разорванной артерии. Для нас наступили дни печали. Близилось время прощального танца. Дожди принесли чуму, которая не убивает. И под их шелест он начался — последний танец Локара.Я спрашивал себя, что же имел в виду Тамур? Ведь как историк он, определенно, придерживался фактов. Что же это Апокалипсис, что ли? Очень может быть. А тогда горстка обитателей Териллиана — это все, что осталось от некогда великого народа. У них были войны, но они не носили глобального масштаба. Их научные разработки были технологичны и не нарушали технологии.
Чума, которая не убивает… Может ли она быть причиной гибели? И почему чума, если она не смертельна?
Я продолжал читать, листая страницу за страницей, но природа болезни нигде не уточнялась. Ну где же М’Квайе? Вечно ее нет именно тогда, когда она больше всего нужна. Если бы я был уверен, что буду понят правильно, то немедленно отправился бы разыскивать ее. Но нельзя нарушать установленных правил. Придется ждать до завтра.
Это выбило меня из колеи, и я долго и громко выкрикивал проклятья Маллану на всех известных мне языках, понося его в стенах собственного храма. Он не испепелил меня на месте, а я утомился и решил, что на сегодня достаточно, что утро вечера мудренее, и пошел спать.
Проснулся я оттого, что кто-то дергал меня за рукав пижамы. У моей кровати с крошечной лампой в руках стояла Бракса. Должно быть, я спал всего пару часов.
— Привет, — только и смог сказать я спросонья и уставился на нее.
— Я пришла, чтобы услышать стихотворение.
— Какое стихотворение?
— Ваше.
— А-а. — Я зевнул и сел. Не думаю, что ответ мой блистал остроумием, во интересно было бы послушать, что вы сами сказали бы, если бы вас разбудили среди ночи для чтения стихов, а? — Это, конечно, очень мило. Сейчас, наверное, самое удобное время?
— Неважно.
Когда-нибудь я напишу статью для журнала «Семантика» и назову ее «Интонация голоса — недостаточное средство выражения иронии».
Тут я окончательно проснулся и протянул руку за одеждой.
— Что это за животное? — спросила Бракса, указывая на изображения дракона на лацкане моего халата.
— Мифическое, — ответил я. — Послушай, Бракса, уже очень поздно, я устал, а завтра — море дел, да и вообще, что подумает М’Квайе, если узнает, что ты была здесь в такое время?
— Подумает о чем?
— Черт побери, ты прекрасно понимаешь, о чем!
Мне впервые пришлось употребить марсианское ругательство, но и это не помогло.
— Не понимаю. — Вид у нее был растерянный, как у щенка, которого наказали неизвестно за что.
Я смягчился. Красный плащ прекрасно гармонировал с рыжими волосами и дрожащими алыми губами.
— Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто в моем мире существуют определенные правила насчет пребывания ночью в спальне двух людей противоположного пола, не связанных узами брака. Гм, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать…
— Нет.
— Гм… Ну это… вообще… я имею в виду секс.
В ее нефритовых глазах вспыхнул свет.
— О, я поняла, вы имеете в виду — делать детей?
— Да, вот именно.
Она рассмеялась. Впервые я слышал смех в Териллиане. Он прозвучал, как будто виолончелист ударил смычком по струнам. Не очень-то приятно было это слушать, к тому же смеялась она довольно долго и как-то истерично. Наконец смех отзвучал, и она придвинулась ко мне.
— Теперь я вспомнила. У нас тоже существовали такие правила полпроцесса назад, когда я была еще ребенком, но… Похоже, она еле сдерживалась, чтобы вновь не рассмеяться. В них больше нет необходимости.
Мой мозг работал, как компьютер. Полпроцесса! Нет! Да… Полпроцесса — это же двести сорок три года! Вполне достаточно, чтобы изучить две тысячи двести двадцать четыре танца Локара. Достаточно времени, чтобы изучить и состариться, если, конечно, ты — человек (я имею в виду — землянин). Я снова взглянул на нее, бледную, как белая шахматная королева из слоновой кости. Готов побиться об заклад, что она — человек, живой, нормальный, здоровый человек, и к тому же она — женщина. Мое тело…
Но если ей два с половиной столетия, то М’Квайе тогда и вовсе бабушка Мафусаила. И это ведь они хвалили меня за успехи в лингвистике и превозносили мое поэтическое дарование. Эти высшие существа!
Но что она имела в виду, когда сказала, что в этих правилах нет необходимости? Почему, говоря об этом, она была близка к истерике? И еще эти странные, как бы оценивающие взгляды М’Квайе. Неожиданно я почувствовал, что стою на пороге раскрытия загадки.
— Скажи, — я старался говорить безразлично, — это имеет какое-нибудь отношение к чуме, которая не убивает?
— Прямое, — ответила она. — Дети, рожденные после Дождей, не могут иметь своих детей. Кроме того…
— Что? — Я наклонился вперед: память была установлена на «запись».
— У мужчин нет желания иметь их.
Я прислонился к стене. Всеобщее бесплодие, мужская импотенция, наступившие вслед за необычным явлением природы. Неужели это было бродячее радиоактивное облако, проникшее через их разреженную атмосферу бог знает откуда? И произошло это задолго до того, как Скипарелли увидел на Марсе каналы, мифические, как мой дракон, задолго до того, как эти каналы вызвали правильные догадки, основанные на неверных данных. И уже тогда Бракса жила, танцевала, проклятая во чреве, и другой слепой Мильтон уже написал о рае, тоже утерянном?
Я достал сигарету. Хорошо, что я догадался захватить с собой пепельницу. На Марсе никогда не было ни табака, ни алкоголя. Я видел в Индии аскетов, так вот — они были Дионисами по сравнению с марсианами.
— Что это за огненная трубочка?
— Сигарета. Хочешь попробовать?
— Да, пожалуй.
Она села рядом, и я прикурил для нее сигарету.
— Щиплет в носу.
— Да, но ты вдохни поглубже, задержи дыхание, а потом выдохни.
Прошло несколько секунд, м раздался ее тихий вдох, пауза. Потом:
— Она священная?
— Пожалуй, никотин — это эрзац божественности.
Она опять затихла.
— Только, пожалуйста, не проси меня переводить, что такое «эрзац».
— Нет-нет. Я иногда испытываю такое состояние, когда танцую.
— Это скоро пройдет.
— А теперь прочитайте мне свое стихотворение.
Мне пришла в голову идея.
— Подожди-ка, у меня есть кое-что получше.
Я встал и, порывшись в своих записях, вернулся, сев рядом с Браксой.
— Здесь первые три главы книги Экклезиаста, — объяснил я. — Она очень похожа на ваши священные тексты.
Когда я прочел всего одиннадцать строк, она воскликнула:
— Не надо! Лучше прочитайте что-нибудь свое!
Я замолчал и бросил блокнот на стол. Она вся дрожала, но это была ее дрожь от сдерживаемых рыданий. Сигарету она держала неуклюже, как карандаш. Я обнял ее за плечи.
— Это так печально, — сказала она.
Я порылся в памяти, стараясь вспомнить что-нибудь светлое, яркое, вроде рождественской игрушки. Я стал экспромтом переводить с немецкого на марсианский стихотворение об испанской танцовщице. Мне казалось, что это понравилось Браксе, и не ошибся.
— О-о, — снова произнесла она. — Так это вы написали?
— Нет, это написано поэтом, более талантливым, чем я.
— Нет-нет, то создано вами.
— Это написано человеком по имени Рильке.
— Но вы переводили это на мой язык. Зажгите еще одну спичку, чтобы я увидела, как она танцует.
Я зажег.
