Страница:
— Хорошо, Белянкин, я вас больше не задерживаю, — сказал директор.
Белянкин уже был у дверей, когда Тарасевич с неожиданной для него горячностью воскликнул:
— Как же эти странные листки вдруг оказались в букете студента моего института?
— Степан Егорович, — обернулся к нам Белянкин, — видно, листки кто-то уронил на цветы.
— А где вы собирали букет?
— Около старой, заброшенной беседки, что за рощей.
Вечером… Съездил на попутной машине — туда и обратно. Там еще база Райпищеторга.
Когда за студентом закрылась дверь, директор сказал:
— Итак, все ясно! Эту шутку сыграл с вами не студент моего института.
Степан Егорович взял коробочку, где лежали листочки с микротекстом, затем сложил вдвое листы бумаги, на которых этот текст был перепечатан, и протянул все это мне с любезной улыбкой:
— Возвращаю, как говорится, по принадлежности. Мне снова бросились в глаза слова: «Эратосфен… личинка стрекозы… Дижонваль»… Условный текст?
— Расскажите лучше, что нового покажет в наступающем театральном сезоне Художественный театр в Москве… Как? Ваша пьеса там не пойдет? Сожалею…
— Простите, Степан Егорович, студент Белянкин сказал, что букет был сорван у какой-то развалившейся беседки…
— Хорошо! Понимаю. Я пошлю туда Белянкина и других студентов.
— Искать в траве другие такие листочки?
— Искать того, кто их уронил на цветы. Студенты побывают там и разузнают, кто занимается столь странными шутками. Как жаль, что мне нельзя ни на час отлучиться из института! А то я бы пошел с ними. Дорога живописная, ведет к дачному поселку научных работников. Поселок имени Ломоносова.
— Степан Егорович! А не кажется ли вам, что вся загадка скрыта в одном слове «Дижонваль»?
— Да, да, я забыл вам сказать… Я не поленился и заглянул на кафедру физики. Про барометр Дижонваля там и не слыхали. Тут что-то не то… А неужели Художественный будет ставить современный водевиль?..
Размышления и сомнения
Барометр Дижонваля существует
Шнурки… пауки….
Дохлый паук
Белянкин уже был у дверей, когда Тарасевич с неожиданной для него горячностью воскликнул:
— Как же эти странные листки вдруг оказались в букете студента моего института?
— Степан Егорович, — обернулся к нам Белянкин, — видно, листки кто-то уронил на цветы.
— А где вы собирали букет?
— Около старой, заброшенной беседки, что за рощей.
Вечером… Съездил на попутной машине — туда и обратно. Там еще база Райпищеторга.
Когда за студентом закрылась дверь, директор сказал:
— Итак, все ясно! Эту шутку сыграл с вами не студент моего института.
Степан Егорович взял коробочку, где лежали листочки с микротекстом, затем сложил вдвое листы бумаги, на которых этот текст был перепечатан, и протянул все это мне с любезной улыбкой:
— Возвращаю, как говорится, по принадлежности. Мне снова бросились в глаза слова: «Эратосфен… личинка стрекозы… Дижонваль»… Условный текст?
— Расскажите лучше, что нового покажет в наступающем театральном сезоне Художественный театр в Москве… Как? Ваша пьеса там не пойдет? Сожалею…
— Простите, Степан Егорович, студент Белянкин сказал, что букет был сорван у какой-то развалившейся беседки…
— Хорошо! Понимаю. Я пошлю туда Белянкина и других студентов.
— Искать в траве другие такие листочки?
— Искать того, кто их уронил на цветы. Студенты побывают там и разузнают, кто занимается столь странными шутками. Как жаль, что мне нельзя ни на час отлучиться из института! А то я бы пошел с ними. Дорога живописная, ведет к дачному поселку научных работников. Поселок имени Ломоносова.
— Степан Егорович! А не кажется ли вам, что вся загадка скрыта в одном слове «Дижонваль»?
— Да, да, я забыл вам сказать… Я не поленился и заглянул на кафедру физики. Про барометр Дижонваля там и не слыхали. Тут что-то не то… А неужели Художественный будет ставить современный водевиль?..
Размышления и сомнения
Какими необычайными картинами расписаны стены в ресторанчике!
Белый медведь, стоя на льдине, вытянул свою морду и почему-то касается носом острого паруса лодки, уходящей в даль неестественно голубого моря. А на другой стене — дети, сидя на корточках, пускают маленький бумажный кораблик в бурный ручей.
К потолку прибиты рога горного козла. С них свешиваются лампы под яркими цветными бумажными абажурами.
Я ел какое-то непонятное мясное блюдо с тушеными помидорами, пил стакан за стаканом крепкий чай и думал: «Уже третий день я собираюсь уехать из города и все не уеду».
Белянкин и его товарищи искали, смотрели, нет ли около беседки следов, примет человека, который уронил там загадочные листки, расспрашивали окрестных жителей, разглядывали чуть ли не каждую травинку, каждый цветок. Но студенты ничего не узнали, ничего не нашли. «Пора уезжать!» — говорю я себе. Этот городок очень мил, но не оставаться же здесь для разгадки кем-то предложенного ребуса. Да, пора уезжать! Завтра же. Однако странное дело: ведь я согласен с профессором Тарасевичем, что листки с микротекстом — чья-то смешная затея? Согласен! Но все же, но все же искренний тон странных листков, спокойная их серьезность заставляют меня искать в них какой-то особый смысл, бывать в библиотеке, читать справочники… Так проходят дни. Я все не уезжаю из городка. Чего-то жду. Мне чудится, будто чья-то участь, участь путешественника, отправившегося в тяжелый путь, скрывается в этих листках.
Люди приходят в ресторан. Уходят. У каждого своя жизнь, своя судьба. Музыканты сидят на эстраде. Играют, Смотрят на входящих с бесстрастным выражением глаз. Но музыка их вовсе не бесстрастна. То грустью, то весельем звенят струны.
Из отдельных слов микротекста видно, что путешественник пробыл долго в чужой стране, сделал много открытий. Вел там дневник. Этот дневник он везет…
Путешественник, говоря об ученом древности, указывает, что мир перед Эратосфеном разрастался от одного неторопливого подсчета к другому. Эратосфен, живший очень давно (с 276 по 194 год до нашей эры), действительно первый в истории человечества установил длину окружности земного шара. Но как понять, почему перед автором микрозаписок окружающий его мир вдруг вырос в сто или двести раз?.. И потом, в листочках упоминается Дижонваль. Барометр Дижонваля!
Просто удивительно, почему из Москвы все нет ответа на мою телеграмму Чарушину о барометре Дижонваля. Что за чудесная картотека имен и терминов у моего давнего друга! Он начал ее составлять чуть ли не со школьной скамьи, день за днем. И нет, кажется, вопроса, на который его картотека не ответила бы.
Митя Чарушин, всегда точный и аккуратный, влюблен в свою картотеку. Его золотое правило: каждому, кто к нему обратится с вопросом, он сразу же либо телеграфно даст ответ, либо в подробном письме попросит уточнить вопрос. Но Чарушин молчит. Уж не смешным ли ему показался мой «барометр Дижонваля»?
Сегодня опять пересмотрел в библиотеке все справочники, но ничего не отыскал о барометре Дижонваля. Странно, почему на листках есть слово «версты»? «38.000 верст». Версты… Почему версты, а не километры? Значит, писал человек пожилой, такой человек, который привык считать расстояние верстами, по-старому… Следовательно, неведомый автор листков — человек пожилой.
Может быть, эти листки написаны много лет назад? Но, во всяком случае, уменьшение текста при помощи фотографирования было сделано в день или накануне того дня, когда эти листочки были найдены на цветах. Иначе крошечные листы под первым же дождем развалились бы.
Тарасевич сказал, что все это чья-то шутка. Придется с ним согласиться.
Ресторан опустел. Гасли огни. Давно ушли музыканты. Я сидел за столом, а на меня со льдины, нарисованной на стене, устало смотрел белый медведь: не пора ли тебе уходить?
Раздумывая, я медленно брел по ночным улицам городка. Как отгадать, как прочесть странные листки? И кто, наконец, их автор?
Спал городок. Ночь тянулась над ним не спеша и осторожно. По обеим сторонам улицы дремали тополя, которые столько видели за свой долгий век. Тихо и покойно было кругом. Но откуда эта печаль на душе? В кармане у меня лежит спичечная коробочка с листочками.
Я остановился и мысленно повторил несколько фраз, показавшихся мне столь странными, когда впервые листки были прочитаны. И вдруг здесь, на тихой улице городка, мне пришло в голову: так для шутки и забавы не пишут Но тогда кто же этот путешественник? Где он? И где остальные листки дневника? Этот путешественник пишет, что ему предстоит долгий путь «Необозримы пространства, которые мне надо пройти с моим вьючным животным Беспокойство и страх овладевают мною » Что с ним случилось?
Как же так? Завтра я уеду из городка и увезу на дне чемодана спичечную коробочку с листочками, которые не прочел как надо и даже не мог догадаться, для чего их уменьшали Вот о чем думал я ночью, возвращаясь в гостиницу, и чувствовал: мне стал дорог этот неизвестный путешественник, о котором ничего, совсем ничего не знаю.
Дежурная по гостинице, как всегда не отрывая глаз от книги, сказала:
— Вам письмо. Оно в номере. На сколько суток вы оставляете за собой номер?
Белый медведь, стоя на льдине, вытянул свою морду и почему-то касается носом острого паруса лодки, уходящей в даль неестественно голубого моря. А на другой стене — дети, сидя на корточках, пускают маленький бумажный кораблик в бурный ручей.
К потолку прибиты рога горного козла. С них свешиваются лампы под яркими цветными бумажными абажурами.
Я ел какое-то непонятное мясное блюдо с тушеными помидорами, пил стакан за стаканом крепкий чай и думал: «Уже третий день я собираюсь уехать из города и все не уеду».
Белянкин и его товарищи искали, смотрели, нет ли около беседки следов, примет человека, который уронил там загадочные листки, расспрашивали окрестных жителей, разглядывали чуть ли не каждую травинку, каждый цветок. Но студенты ничего не узнали, ничего не нашли. «Пора уезжать!» — говорю я себе. Этот городок очень мил, но не оставаться же здесь для разгадки кем-то предложенного ребуса. Да, пора уезжать! Завтра же. Однако странное дело: ведь я согласен с профессором Тарасевичем, что листки с микротекстом — чья-то смешная затея? Согласен! Но все же, но все же искренний тон странных листков, спокойная их серьезность заставляют меня искать в них какой-то особый смысл, бывать в библиотеке, читать справочники… Так проходят дни. Я все не уезжаю из городка. Чего-то жду. Мне чудится, будто чья-то участь, участь путешественника, отправившегося в тяжелый путь, скрывается в этих листках.
Люди приходят в ресторан. Уходят. У каждого своя жизнь, своя судьба. Музыканты сидят на эстраде. Играют, Смотрят на входящих с бесстрастным выражением глаз. Но музыка их вовсе не бесстрастна. То грустью, то весельем звенят струны.
Из отдельных слов микротекста видно, что путешественник пробыл долго в чужой стране, сделал много открытий. Вел там дневник. Этот дневник он везет…
Путешественник, говоря об ученом древности, указывает, что мир перед Эратосфеном разрастался от одного неторопливого подсчета к другому. Эратосфен, живший очень давно (с 276 по 194 год до нашей эры), действительно первый в истории человечества установил длину окружности земного шара. Но как понять, почему перед автором микрозаписок окружающий его мир вдруг вырос в сто или двести раз?.. И потом, в листочках упоминается Дижонваль. Барометр Дижонваля!
Просто удивительно, почему из Москвы все нет ответа на мою телеграмму Чарушину о барометре Дижонваля. Что за чудесная картотека имен и терминов у моего давнего друга! Он начал ее составлять чуть ли не со школьной скамьи, день за днем. И нет, кажется, вопроса, на который его картотека не ответила бы.
Митя Чарушин, всегда точный и аккуратный, влюблен в свою картотеку. Его золотое правило: каждому, кто к нему обратится с вопросом, он сразу же либо телеграфно даст ответ, либо в подробном письме попросит уточнить вопрос. Но Чарушин молчит. Уж не смешным ли ему показался мой «барометр Дижонваля»?
Сегодня опять пересмотрел в библиотеке все справочники, но ничего не отыскал о барометре Дижонваля. Странно, почему на листках есть слово «версты»? «38.000 верст». Версты… Почему версты, а не километры? Значит, писал человек пожилой, такой человек, который привык считать расстояние верстами, по-старому… Следовательно, неведомый автор листков — человек пожилой.
Может быть, эти листки написаны много лет назад? Но, во всяком случае, уменьшение текста при помощи фотографирования было сделано в день или накануне того дня, когда эти листочки были найдены на цветах. Иначе крошечные листы под первым же дождем развалились бы.
Тарасевич сказал, что все это чья-то шутка. Придется с ним согласиться.
Ресторан опустел. Гасли огни. Давно ушли музыканты. Я сидел за столом, а на меня со льдины, нарисованной на стене, устало смотрел белый медведь: не пора ли тебе уходить?
Раздумывая, я медленно брел по ночным улицам городка. Как отгадать, как прочесть странные листки? И кто, наконец, их автор?
Спал городок. Ночь тянулась над ним не спеша и осторожно. По обеим сторонам улицы дремали тополя, которые столько видели за свой долгий век. Тихо и покойно было кругом. Но откуда эта печаль на душе? В кармане у меня лежит спичечная коробочка с листочками.
Я остановился и мысленно повторил несколько фраз, показавшихся мне столь странными, когда впервые листки были прочитаны. И вдруг здесь, на тихой улице городка, мне пришло в голову: так для шутки и забавы не пишут Но тогда кто же этот путешественник? Где он? И где остальные листки дневника? Этот путешественник пишет, что ему предстоит долгий путь «Необозримы пространства, которые мне надо пройти с моим вьючным животным Беспокойство и страх овладевают мною » Что с ним случилось?
Как же так? Завтра я уеду из городка и увезу на дне чемодана спичечную коробочку с листочками, которые не прочел как надо и даже не мог догадаться, для чего их уменьшали Вот о чем думал я ночью, возвращаясь в гостиницу, и чувствовал: мне стал дорог этот неизвестный путешественник, о котором ничего, совсем ничего не знаю.
Дежурная по гостинице, как всегда не отрывая глаз от книги, сказала:
— Вам письмо. Оно в номере. На сколько суток вы оставляете за собой номер?
Барометр Дижонваля существует
«Дорогой Григорий Александрович!
Твоя телеграмма с запросом о барометре Дижонваля не застала меня в Москве Был в Новгороде Шел по следам жизни одного замечательного землепроходца
Сегодня вернулся в Москву. Прочел твою телеграмму. Ты спрашиваешь меня, знаю ли я что-либо о барометре Дижонваля Знаю, что ни в производстве, ни в продаже такого барометра никогда не было. Все? Нет! Такой барометр был, есть и будет Думаешь — шутка, парадокс, анекдот? Ничуть. Он существует Ты, конечно, знаешь, что среди генералов Наполеона Бонапарта был един, о котором Наполеон, уже на острове Елены, писал, что он был самым талантливым из всех его полководцев Это Пишегрю. Его биография в известном смысле примечательна и трагична, но не буду сейчас ею заниматься Перехожу прямо к твоему вопросу.
Так вот. Декабрь 1794 года застал Пишегрю в походе — он вел французское республиканское войско на Голландию и с успехом продвигался вперед Но в один далеко не прекрасный для Пишегрю день природа нарушила его планы Дождь, слякоть, все дороги размыты, реки разлились, войску продвигаться нельзя. Неудача грозит всему походу. Пишегрю принимает решение — отказаться от наступательных действий. Но вдруг из Утрехта — из Голландии — Пишегрю получает донесение, где указывается точно день, когда ударят сильные морозы: земля промерзнет, на реках появится крепкий лед, и можно будет войску двигаться дальше. Пишегрю поверил в это донесение, хотя оно подкреплялось ссылкой на барометр, который никогда и никто в расчет не принимал. И действительно, в указанный день все вокруг замерзло. Пехота и кавалерия Пишегрю двинулись дальше. 29 декабря Пишегрю по льду переходит реку Ваал Но вот 7 января погода опять резко меняется. Снова дожди, слякоть, лед тает Пишегрю, пройдя далеко в глубь страны, оказался в еще более трудном, почти катастрофическом положении. Но тут он снова получает уведомление из Утрехта, от 13 января, где ему точно указывают, когда он сможет двинуть войска по замерзшим рекам и дорогам. Донесение и на этот раз не обмануло. Уже 14 января подул северный ветер, 15-го резко понизилась температура. А 16 января Пишегрю уже в Утрехте! И тут он освобождает из тюрьмы Дижонваля Катремера, генерала Батавской республики, того, кто посылал предсказания погоды.
В Голландии в 1787 году Дижонваля заключили в тюрьму, где он пробыл около семи лет, то есть до того дня, когда его освободил Пишегрю Все свои прогнозы погоды Дижонваль делал в тюремной камере, на основе наблюдения за поведением пауков
Впоследствии, в Париже, он писал:
«Когда пауки-круговики совсем не делают паутины, тогда наступает та скверная погода, которая на барометре обозначается дождем и ветром, если пауки начинают протягивать радиальные паутинные нити, тогда можно рассчитывать, что через десять — двенадцать часов буря утихнет; если они уничтожают четверть или треть паутинной сети, чтобы сохранить ее остаток, это знаменует приближение ветра. Вообще, когда пауки начинают в большом количестве протягивать свою паутину, можно ожидать хорошей погоды; если они делают небольшие сети, это значит, что погода будет переменчива; если, наконец, совсем не показываются, то с полным основанием можно рассчитывать на дурную погоду».
Мой любезный, но забавный друг, ты сам не знаешь, какое мне доставил удовольствие своим не совсем обычным вопросом. Почему все так легко понимают шахматиста, который хочет сразиться с тем, кто может поставить его в неожиданно затруднительное положение? Почему понимаем мы хозяйку, которая, услышав где-то в гостях новый рецепт торта, с таким упоением и волнением принимается дома за трудную задачу? Какую же творческую радость испытываю я, сотрудник справочно-библиографического отдела библиотеки, когда, услышав своеобразный вопрос, начинаю готовиться к ответу: сопоставляю факты из разных областей науки, литературы, искусства, ищу и перелистываю справочники, энциклопедические словари, старинные издания, мемуары, архивные документы!
Дорогой друг! Вряд ли ты ждешь от меня научной проверки наблюдений Дижонваля над пауками. Теперь еще вот что: ты знаешь, что гордость моей жизни — картотека имен и терминов, которую я составляю вот уже десятки лет. И не было еще случая, чтобы картотека меня подвела. Так что без ложной скромности скажу: не счесть моих ответов на вопросы и не перечислить моих отгадок на разные загадки. А вот сейчас никак не отгадаю, не пойму и не возьму в толк, почему тебя вдруг заинтересовал Дижонваль. Уж не вздумал ли ты написать научно-художественный сценарий о пауках? Так не лучше ли вместо Голландии и Франции конца восемнадцатого века вспомнить нашего Поливанова? Народоволец семидесятых годов прошлого века, Петр Сергеевич Поливанов был осужден царским правительством на вечное заключение. И вот однажды, когда за решеткой стояло хмурое утро петербургской ранней весны, обреченный на вечное одиночество человек увидел в камере живое существо. Это был паук — самый обыкновенный паук-крестовик. Они стали друзьями — человек и паук; человек заботился о пауке, кормил его, брал в руки. Паук спокойно влезал на палец человека. А когда человек трогал его лапки, паук спокойно и осторожно перебирал ими. Человек беспокоился — не слишком ли разжирело животное: это вредит здоровью. И заключенный срывал сеть паука — пусть потрудится, похудеет, это полезно. А паук? Он, в свою очередь, словно старался развлечь заключенного. Всякий раз было что-то новое в том, как паук ткал свою сеть, соединявшую ножки стола с перекладиной. Иногда он останавливался во время работы, разрушал часть сети, будто был чем-то недоволен, и начинал переделывать ее. Поэтому Поливанов писал о пауке, что это была «аристократическая натура»…
Что же это такое? Поехал ты на курорт, а лезешь в «паучье царство» в каком-то Ченске! Мало ли ты разбрасывал, растрачивал свой живой талант по пустякам! Кидался от одной науки к другой. А тут еще — пауки! Ну, дело твое, не спорю. Мне-то нравится твой талантливый разброс, удивительное мозговое завихрение.
До свидания. Надеюсь, ты еще хорошо отдохнешь.
С приветом твой Д. Чарушин».
Твоя телеграмма с запросом о барометре Дижонваля не застала меня в Москве Был в Новгороде Шел по следам жизни одного замечательного землепроходца
Сегодня вернулся в Москву. Прочел твою телеграмму. Ты спрашиваешь меня, знаю ли я что-либо о барометре Дижонваля Знаю, что ни в производстве, ни в продаже такого барометра никогда не было. Все? Нет! Такой барометр был, есть и будет Думаешь — шутка, парадокс, анекдот? Ничуть. Он существует Ты, конечно, знаешь, что среди генералов Наполеона Бонапарта был един, о котором Наполеон, уже на острове Елены, писал, что он был самым талантливым из всех его полководцев Это Пишегрю. Его биография в известном смысле примечательна и трагична, но не буду сейчас ею заниматься Перехожу прямо к твоему вопросу.
Так вот. Декабрь 1794 года застал Пишегрю в походе — он вел французское республиканское войско на Голландию и с успехом продвигался вперед Но в один далеко не прекрасный для Пишегрю день природа нарушила его планы Дождь, слякоть, все дороги размыты, реки разлились, войску продвигаться нельзя. Неудача грозит всему походу. Пишегрю принимает решение — отказаться от наступательных действий. Но вдруг из Утрехта — из Голландии — Пишегрю получает донесение, где указывается точно день, когда ударят сильные морозы: земля промерзнет, на реках появится крепкий лед, и можно будет войску двигаться дальше. Пишегрю поверил в это донесение, хотя оно подкреплялось ссылкой на барометр, который никогда и никто в расчет не принимал. И действительно, в указанный день все вокруг замерзло. Пехота и кавалерия Пишегрю двинулись дальше. 29 декабря Пишегрю по льду переходит реку Ваал Но вот 7 января погода опять резко меняется. Снова дожди, слякоть, лед тает Пишегрю, пройдя далеко в глубь страны, оказался в еще более трудном, почти катастрофическом положении. Но тут он снова получает уведомление из Утрехта, от 13 января, где ему точно указывают, когда он сможет двинуть войска по замерзшим рекам и дорогам. Донесение и на этот раз не обмануло. Уже 14 января подул северный ветер, 15-го резко понизилась температура. А 16 января Пишегрю уже в Утрехте! И тут он освобождает из тюрьмы Дижонваля Катремера, генерала Батавской республики, того, кто посылал предсказания погоды.
В Голландии в 1787 году Дижонваля заключили в тюрьму, где он пробыл около семи лет, то есть до того дня, когда его освободил Пишегрю Все свои прогнозы погоды Дижонваль делал в тюремной камере, на основе наблюдения за поведением пауков
Впоследствии, в Париже, он писал:
«Когда пауки-круговики совсем не делают паутины, тогда наступает та скверная погода, которая на барометре обозначается дождем и ветром, если пауки начинают протягивать радиальные паутинные нити, тогда можно рассчитывать, что через десять — двенадцать часов буря утихнет; если они уничтожают четверть или треть паутинной сети, чтобы сохранить ее остаток, это знаменует приближение ветра. Вообще, когда пауки начинают в большом количестве протягивать свою паутину, можно ожидать хорошей погоды; если они делают небольшие сети, это значит, что погода будет переменчива; если, наконец, совсем не показываются, то с полным основанием можно рассчитывать на дурную погоду».
Мой любезный, но забавный друг, ты сам не знаешь, какое мне доставил удовольствие своим не совсем обычным вопросом. Почему все так легко понимают шахматиста, который хочет сразиться с тем, кто может поставить его в неожиданно затруднительное положение? Почему понимаем мы хозяйку, которая, услышав где-то в гостях новый рецепт торта, с таким упоением и волнением принимается дома за трудную задачу? Какую же творческую радость испытываю я, сотрудник справочно-библиографического отдела библиотеки, когда, услышав своеобразный вопрос, начинаю готовиться к ответу: сопоставляю факты из разных областей науки, литературы, искусства, ищу и перелистываю справочники, энциклопедические словари, старинные издания, мемуары, архивные документы!
Дорогой друг! Вряд ли ты ждешь от меня научной проверки наблюдений Дижонваля над пауками. Теперь еще вот что: ты знаешь, что гордость моей жизни — картотека имен и терминов, которую я составляю вот уже десятки лет. И не было еще случая, чтобы картотека меня подвела. Так что без ложной скромности скажу: не счесть моих ответов на вопросы и не перечислить моих отгадок на разные загадки. А вот сейчас никак не отгадаю, не пойму и не возьму в толк, почему тебя вдруг заинтересовал Дижонваль. Уж не вздумал ли ты написать научно-художественный сценарий о пауках? Так не лучше ли вместо Голландии и Франции конца восемнадцатого века вспомнить нашего Поливанова? Народоволец семидесятых годов прошлого века, Петр Сергеевич Поливанов был осужден царским правительством на вечное заключение. И вот однажды, когда за решеткой стояло хмурое утро петербургской ранней весны, обреченный на вечное одиночество человек увидел в камере живое существо. Это был паук — самый обыкновенный паук-крестовик. Они стали друзьями — человек и паук; человек заботился о пауке, кормил его, брал в руки. Паук спокойно влезал на палец человека. А когда человек трогал его лапки, паук спокойно и осторожно перебирал ими. Человек беспокоился — не слишком ли разжирело животное: это вредит здоровью. И заключенный срывал сеть паука — пусть потрудится, похудеет, это полезно. А паук? Он, в свою очередь, словно старался развлечь заключенного. Всякий раз было что-то новое в том, как паук ткал свою сеть, соединявшую ножки стола с перекладиной. Иногда он останавливался во время работы, разрушал часть сети, будто был чем-то недоволен, и начинал переделывать ее. Поэтому Поливанов писал о пауке, что это была «аристократическая натура»…
Что же это такое? Поехал ты на курорт, а лезешь в «паучье царство» в каком-то Ченске! Мало ли ты разбрасывал, растрачивал свой живой талант по пустякам! Кидался от одной науки к другой. А тут еще — пауки! Ну, дело твое, не спорю. Мне-то нравится твой талантливый разброс, удивительное мозговое завихрение.
До свидания. Надеюсь, ты еще хорошо отдохнешь.
С приветом твой Д. Чарушин».
Шнурки… пауки….
Я думал о пауках, когда рано утром вышел из города и направился туда, где студент Белянкин собрал свой букет, букет с теми листками, которые меня удивили, озадачили, ввергли в беспокойство и не выпускают из Ченска.
Письмо Чарушина я несколько раз прочел в гостинице при свете лампы. Что открыло мне это письмо? Я уверился: неизвестный путешественник, желая узнать погоду, вынужден был наблюдать за поведением пауков. В наши дни узнавать прогнозы погоды у пауков! В наши дни! Ну хорошо! Письмо Чарушина разъяснило значение нескольких слов микролистков. «Барометр Дижонваля», «думал о Поливанове»… Но теперь, после этого разъяснения, микролистки стали для меня еще более загадочными.
Почему пошел я туда, где были сорваны цветы? Очень просто. Ни ночью, ни на рассвете я не мог уснуть. Было душно. В институт к Тарасевичу с письмом Чарушина можно было пойти только во второй половине дня. К тому же после письма Чарушина мне очень хотелось посмотреть пауков «в натуре» и, конечно, побывать в том месте, где были найдены записочки
Студент Белянкин подробно рассказал в институте о месте, где он собрал свой пресловутый букет, и я хорошо представлял себе, как туда идти.
Дорога асфальтирована. По обеим сторонам росли в два ряда молодые, гибкие тополя. Наверное, их посадили тогда же, когда асфальтировали дорогу.
Я иду по тропинке вдоль шоссе.
Сквозь чащу кустарника то показывалось, то исчезало море. Дорога поднималась все выше и выше. Потом спускалась, вновь поднималась. Где-то вдали виднелись белые домики дачного поселка научных работников.
Внизу, под горой, в долине, налево от асфальтового шоссе, извивалась проселочная дорога. Она исчезала в роще. А там, дальше, что за развалины?
Спустившись с горы, я на проселочной дороге встретил женщину и мальчика лет семи-восьми. Они вели на поводу прихрамывающую лошадь. Мы разговорились. Женщина рассказала, что работает в подсобном хозяйстве научных работников. Лошадь ушибла ногу о борону; надо показать ветеринару.
— А там, за рощей направо, — спросил я, — что за развалины?
— Там до революции была усадьба. Чудак помещик жил, — сказала женщина.
— Поначудил этот помещик, понастроил разные ходы под землей так, чтобы прямо из своей спальни под землей к морю выходить. А то, бывало, по ночам при луне у моря вдруг сам появится и гостей за собой с музыкой приведет. Наши старики рассказывают: «Приходим мы на музыку эту к морю, подходим ближе — глядь, а музыки уже не. слышно и людей не видно, обратно музыка под землю ушла…»
Я не дослушал, попрощался и пошел дальше. Шел и думал о пауках. Но не мог не думать и о… шнурках. Да, о шнурках. Они то и дело развязывались, приходилось останавливаться, нагибаться, завязывать, а они снова развязывались.
Шнурки… шнурки… Черные и белые, коричневые и желтые, длинные и короткие, тонкие и толстые — все с железными наконечниками, — они висели на веревочке ларька в Ченске у чистильщика обуви. Когда я подошел к нему, он старательно чистил свои высокие черные сапоги, вытягивая то одну, то другую ногу. Лишь после этого, налюбовавшись блеском сапог, он лениво протянул мне пару шнурков.
Какие строптивые, нетерпеливые, беспокойные шнурки достались мне в удел!
В первый же раз, когда я поспешно стал их вдевать, они сразу заупрямились. Никак не влезали в отверстия. Я дернул. А шнурок в отместку уронил свой маленький железный наконечник. За день шнурок совсем разлохматился, наконец оборвался.
Но хуже всего обошлись со мной шнурки вчера вечером. Хотелось быстро снять ботинок, но потянул не тот конец узелка — узелок не развязался, а затянулся туго, совсем туго. Лезвие бритвы срезало узелок — шнурок укоротился. И теперь я шел по тропинке рядом с дорогой, а шнурок то и дело развязывался. Но не смешно ли, что я так много говорю о шнурках? Ничуть! И не странно, и не смешно! Ведь все, что потом приключилось, как раз и связано со скверным характером моих шнурков, которые с непонятной злостью и в отместку мне неведомо за что всё развязывались и заставляли так часто нагибаться к земле.
Мысли мои то и дело возвращались к письму Чарушина: «Дижонваль… пауки…» И больше всего я хотел в те минуты увидеть самого обыкновенного паука. Казалось мне, что теперь на него я посмотрю совсем иначе. Увижу совсем не таким, каким видел всегда. Я стал оглядываться по сторонам, подходил к кустам, но нигде не увидел и следа какой-либо паутины.
Роща стала гуще и темнее. Проселочная дорога свернула направо.
Я шел по запущенной, забытой аллее каштанов, полутемной и прохладной, меж прямых черных стволов. Аллея стала расширяться и замкнулась вокруг деревянной полуразрушенной беседки. Тут же валялась сорванная калитка.
Неожиданная акация, разросшаяся, по-видимому, после того, как люди перестали посещать беседку, заслоняла вход.
С трудом я пробрался в беседку. Здесь торчали полусгнившие столбы столика и скамеек.
Я присел на край сломанной скамейки.
Под скамейкой и меж столбов буйно и высоко росла бледно-зеленая трава. Паутина, которую я отыскал меж столбов беседки, была серая и оборванная. В ней повисли крошечные кусочки прутиков. Паук, видно, давно ее оставил.
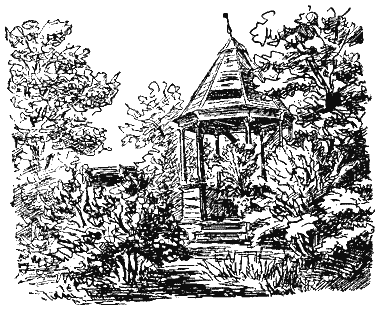
Вдруг раздался резкий лай собаки. Я пошел на лай. Густые кусты цветущего шиповника преградили мне дорогу. Как красиво алели их цветы! Так это было здесь! Здесь студент Белянкин ломал ветки шиповника, к которым пристали загадочные листочки… В букете были и незабудки. Вот и они — спокойно растут вдоль ручейка.
Лай затих. А потом послышался вновь, но не такой резкий.
Он точно исходил откуда-то из-под земли. Я стал присматриваться и прислушиваться.
За кустами я увидел что-то вроде землянки. Она находилась совсем недалеко от меня. Вход был защищен тесовым навесом. На навесе лежали квадратики дерна. Это было сделано наспех — там и здесь из-под дерна еще виднелся белый тес. К землянке вела неровная дорога, вся в ямах и камнях. Из землянки слышался лай.
Я подошел к входу и медленно, осторожно стал спускаться вниз. Несколько каменных ступенек. Площадка. На площадке стол, два стула.
На столе мерцал фонарь «летучая мышь», лежали счеты и какая-то книга.
Ступеньки вели дальше, в глубину. А оттуда шел отрывистый лай собаки.
— Слушайте! — крикнул я в темноту.
— Кто там? — ответили из подвала. Собака еще яростнее залилась.
— Фу, замолчи ты, Курчавка! — прикрикнул кто-то на собаку.
Собака смолкла.
— Есть тут кто-нибудь? Выходите!
Сначала молчание, потом… потом снова окрик:
— Кто там?
И снова, точно в ответ на эти два слова, отчаянный лай. На площадку прыгнула собака. Прыгнула и как вкопанная остановилась; вся рыжая, а спина черная. Она глядела на меня совсем не грозно и махала пушистым хвостом.
Кто-то, кряхтя и охая, взбирался по ступенькам. Из темной глубины поднималась рука с зажженным фонарем.
Предо мной предстала могучая женская фигура в ватнике и больших резиновых сапогах.
— Здравствуйте! — пробасила женщина и добавила: — Приехали? По вызову?
— Приехал, — ответил я в недоумении.
— А где ваш транспорт?
— Какой транспорт?
— Без транспорта нельзя.
— Но я… я пришел…
— То-то и дело, что ходят сюда многие.
— Многие? — переспросил я.
— Вы что, загадочки пришли загадывать, цветочки собирать, как другие, или за овощами приехали? Лук, морковь, бурак. Если вы за овощами, то почему без машины, без тары для погрузки? Кто же вы такой?
— Кто я?
— Вот-вот! По какому случаю на базе появились? Оторопев, растерявшись под натиском вопросов, я не гнал, как все объяснить сердитой женщине, и только пробормотал:
— А вы кто? Какая база?
— Как так — кто я? Я Анна Ивановна Черникова, заведующая базой Райпищеторга.
— Прощайте! — крикнул я, повернулся и ушел. Сделав десяток-другой шагов, я оглянулся и из-за кустов увидел: за мной, держа собаку на поводке, следовала Анна Ивановна Черникова.
Я прыгнул через небольшой ручеек. Несносный шнурок! Опять… опять развязался. В который раз! Я нагнулся, потянул оба конца шнурка. Какая-то колючка (репейник, что ли!) зацепилась за растрепанный конец шнурка. Я стал снимать. В колючке запутался дохлый паук.
Всю дорогу я думал о пауках, о письме Чарушина, — верно, только поэтому я заметил паука и спрятал его в спичечную коробку.
Письмо Чарушина я несколько раз прочел в гостинице при свете лампы. Что открыло мне это письмо? Я уверился: неизвестный путешественник, желая узнать погоду, вынужден был наблюдать за поведением пауков. В наши дни узнавать прогнозы погоды у пауков! В наши дни! Ну хорошо! Письмо Чарушина разъяснило значение нескольких слов микролистков. «Барометр Дижонваля», «думал о Поливанове»… Но теперь, после этого разъяснения, микролистки стали для меня еще более загадочными.
Почему пошел я туда, где были сорваны цветы? Очень просто. Ни ночью, ни на рассвете я не мог уснуть. Было душно. В институт к Тарасевичу с письмом Чарушина можно было пойти только во второй половине дня. К тому же после письма Чарушина мне очень хотелось посмотреть пауков «в натуре» и, конечно, побывать в том месте, где были найдены записочки
Студент Белянкин подробно рассказал в институте о месте, где он собрал свой пресловутый букет, и я хорошо представлял себе, как туда идти.
Дорога асфальтирована. По обеим сторонам росли в два ряда молодые, гибкие тополя. Наверное, их посадили тогда же, когда асфальтировали дорогу.
Я иду по тропинке вдоль шоссе.
Сквозь чащу кустарника то показывалось, то исчезало море. Дорога поднималась все выше и выше. Потом спускалась, вновь поднималась. Где-то вдали виднелись белые домики дачного поселка научных работников.
Внизу, под горой, в долине, налево от асфальтового шоссе, извивалась проселочная дорога. Она исчезала в роще. А там, дальше, что за развалины?
Спустившись с горы, я на проселочной дороге встретил женщину и мальчика лет семи-восьми. Они вели на поводу прихрамывающую лошадь. Мы разговорились. Женщина рассказала, что работает в подсобном хозяйстве научных работников. Лошадь ушибла ногу о борону; надо показать ветеринару.
— А там, за рощей направо, — спросил я, — что за развалины?
— Там до революции была усадьба. Чудак помещик жил, — сказала женщина.
— Поначудил этот помещик, понастроил разные ходы под землей так, чтобы прямо из своей спальни под землей к морю выходить. А то, бывало, по ночам при луне у моря вдруг сам появится и гостей за собой с музыкой приведет. Наши старики рассказывают: «Приходим мы на музыку эту к морю, подходим ближе — глядь, а музыки уже не. слышно и людей не видно, обратно музыка под землю ушла…»
Я не дослушал, попрощался и пошел дальше. Шел и думал о пауках. Но не мог не думать и о… шнурках. Да, о шнурках. Они то и дело развязывались, приходилось останавливаться, нагибаться, завязывать, а они снова развязывались.
Шнурки… шнурки… Черные и белые, коричневые и желтые, длинные и короткие, тонкие и толстые — все с железными наконечниками, — они висели на веревочке ларька в Ченске у чистильщика обуви. Когда я подошел к нему, он старательно чистил свои высокие черные сапоги, вытягивая то одну, то другую ногу. Лишь после этого, налюбовавшись блеском сапог, он лениво протянул мне пару шнурков.
Какие строптивые, нетерпеливые, беспокойные шнурки достались мне в удел!
В первый же раз, когда я поспешно стал их вдевать, они сразу заупрямились. Никак не влезали в отверстия. Я дернул. А шнурок в отместку уронил свой маленький железный наконечник. За день шнурок совсем разлохматился, наконец оборвался.
Но хуже всего обошлись со мной шнурки вчера вечером. Хотелось быстро снять ботинок, но потянул не тот конец узелка — узелок не развязался, а затянулся туго, совсем туго. Лезвие бритвы срезало узелок — шнурок укоротился. И теперь я шел по тропинке рядом с дорогой, а шнурок то и дело развязывался. Но не смешно ли, что я так много говорю о шнурках? Ничуть! И не странно, и не смешно! Ведь все, что потом приключилось, как раз и связано со скверным характером моих шнурков, которые с непонятной злостью и в отместку мне неведомо за что всё развязывались и заставляли так часто нагибаться к земле.
Мысли мои то и дело возвращались к письму Чарушина: «Дижонваль… пауки…» И больше всего я хотел в те минуты увидеть самого обыкновенного паука. Казалось мне, что теперь на него я посмотрю совсем иначе. Увижу совсем не таким, каким видел всегда. Я стал оглядываться по сторонам, подходил к кустам, но нигде не увидел и следа какой-либо паутины.
Роща стала гуще и темнее. Проселочная дорога свернула направо.
Я шел по запущенной, забытой аллее каштанов, полутемной и прохладной, меж прямых черных стволов. Аллея стала расширяться и замкнулась вокруг деревянной полуразрушенной беседки. Тут же валялась сорванная калитка.
Неожиданная акация, разросшаяся, по-видимому, после того, как люди перестали посещать беседку, заслоняла вход.
С трудом я пробрался в беседку. Здесь торчали полусгнившие столбы столика и скамеек.
Я присел на край сломанной скамейки.
Под скамейкой и меж столбов буйно и высоко росла бледно-зеленая трава. Паутина, которую я отыскал меж столбов беседки, была серая и оборванная. В ней повисли крошечные кусочки прутиков. Паук, видно, давно ее оставил.
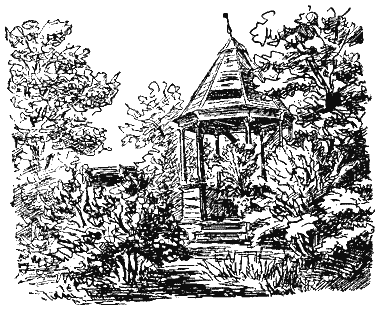
Вдруг раздался резкий лай собаки. Я пошел на лай. Густые кусты цветущего шиповника преградили мне дорогу. Как красиво алели их цветы! Так это было здесь! Здесь студент Белянкин ломал ветки шиповника, к которым пристали загадочные листочки… В букете были и незабудки. Вот и они — спокойно растут вдоль ручейка.
Лай затих. А потом послышался вновь, но не такой резкий.
Он точно исходил откуда-то из-под земли. Я стал присматриваться и прислушиваться.
За кустами я увидел что-то вроде землянки. Она находилась совсем недалеко от меня. Вход был защищен тесовым навесом. На навесе лежали квадратики дерна. Это было сделано наспех — там и здесь из-под дерна еще виднелся белый тес. К землянке вела неровная дорога, вся в ямах и камнях. Из землянки слышался лай.
Я подошел к входу и медленно, осторожно стал спускаться вниз. Несколько каменных ступенек. Площадка. На площадке стол, два стула.
На столе мерцал фонарь «летучая мышь», лежали счеты и какая-то книга.
Ступеньки вели дальше, в глубину. А оттуда шел отрывистый лай собаки.
— Слушайте! — крикнул я в темноту.
— Кто там? — ответили из подвала. Собака еще яростнее залилась.
— Фу, замолчи ты, Курчавка! — прикрикнул кто-то на собаку.
Собака смолкла.
— Есть тут кто-нибудь? Выходите!
Сначала молчание, потом… потом снова окрик:
— Кто там?
И снова, точно в ответ на эти два слова, отчаянный лай. На площадку прыгнула собака. Прыгнула и как вкопанная остановилась; вся рыжая, а спина черная. Она глядела на меня совсем не грозно и махала пушистым хвостом.
Кто-то, кряхтя и охая, взбирался по ступенькам. Из темной глубины поднималась рука с зажженным фонарем.
Предо мной предстала могучая женская фигура в ватнике и больших резиновых сапогах.
— Здравствуйте! — пробасила женщина и добавила: — Приехали? По вызову?
— Приехал, — ответил я в недоумении.
— А где ваш транспорт?
— Какой транспорт?
— Без транспорта нельзя.
— Но я… я пришел…
— То-то и дело, что ходят сюда многие.
— Многие? — переспросил я.
— Вы что, загадочки пришли загадывать, цветочки собирать, как другие, или за овощами приехали? Лук, морковь, бурак. Если вы за овощами, то почему без машины, без тары для погрузки? Кто же вы такой?
— Кто я?
— Вот-вот! По какому случаю на базе появились? Оторопев, растерявшись под натиском вопросов, я не гнал, как все объяснить сердитой женщине, и только пробормотал:
— А вы кто? Какая база?
— Как так — кто я? Я Анна Ивановна Черникова, заведующая базой Райпищеторга.
— Прощайте! — крикнул я, повернулся и ушел. Сделав десяток-другой шагов, я оглянулся и из-за кустов увидел: за мной, держа собаку на поводке, следовала Анна Ивановна Черникова.
Я прыгнул через небольшой ручеек. Несносный шнурок! Опять… опять развязался. В который раз! Я нагнулся, потянул оба конца шнурка. Какая-то колючка (репейник, что ли!) зацепилась за растрепанный конец шнурка. Я стал снимать. В колючке запутался дохлый паук.
Всю дорогу я думал о пауках, о письме Чарушина, — верно, только поэтому я заметил паука и спрятал его в спичечную коробку.
Дохлый паук
— Барометр Дижонваля существует! Вот письмо, а вот и «испорченный» барометр! — воскликнул я, входя в кабинет директора института Степана Егоровича Тарасевича, и положил на стол письмо Чарушина и спичечную коробку с дохлым паучком.
Профессор сдержанно поздоровался со мной, посмотрел на меня с некоторым недоумением и, представив доценту Серафиме Васильевне Воронцовой, прибавил:
— Надеюсь, порывистый ход ваших рассуждений по поводу найденных записок не будет стеснен присутствием нашего молодого специалиста. Маляры затянули окраску коридора и некоторых кабинетов, и Серафима Васильевна расположилась у меня со своим микроскопом.
Из-под больших стекол очков на меня посмотрели голубые глаза. Посмотрели, как мне показалось, весьма насмешливо. А затем Серафима Васильевна снова опустила глаза к микроскопу, и правая ее рука быстро забегала по листу бумаги, делая какие-то записи.
Степан Егорович внимательно прочел письмо Чарушина и развел руками:
— Пусть так! Пусть барометр Дижонваля — пауки. Но что это меняет?
— Все! Все меняет! Раз есть барометр Дижонваля, следовательно…
…следовательно, — рассмеялся Тарасевич, — есть и пауки.
— Следовательно, есть и путешественник, который вынужден узнавать погоду по поведению пауков.
— Фантазия!
— Что? А записки? Я вижу вьючное животное на привязи, путешественника, который уже погрузил свой мешок и дописывает дневник…
— Ребусом называется загадка, состоящая в том, что часть слова или целые слова выражены посредством нарисованных фигур, нот или других знаков, звучание которых сходно с задуманными словами, — сказала медленно Воронцова, продолжая глядеть в микроскоп. Что вы хотите сказать? — спросил я.
— Какой-то затейник написал ребус, кроссворд. В нем вместо простого слова «паук» проставил два слова: «барометр Дижонваля», а рядом с Эратосфеном — «личинку стрекозы»… А вы вот маетесь, отгадываете этот ребус.
«Ребус, кроссворд», — повторил я про себя и почувствовал, что эти веселые и простые слова, само их звучание не только снимает с записок загадочность, но и показывает все в смешном виде. Но это ощущение длилось всего мгновение. Нет! Где, кто, когда и зачем станет составлять такие кроссворды?
И я сказал:
— Не ради кроссвордов и ребусов остался я в Ченске, отнимаю время у вас, Степан Егорович, писал Чарушину. А сегодня утром даже побывал там, где студент Белянкин вместе с цветами подобрал загадочные листки.
— С чем же вы вернулись из этой экспедиции?
— Экспедиция не удалась. Подобрал одного паука, да и то дохлого…
— Дохлый паук!.. — захохотала, откинувшись от микроскопа, доцент Воронцова. Она хохотала все громче: — Дохлый паук!.. Ой, не могу! До…до…до…хлый!.. Дайте посмотреть!
Воронцова подбежала к пауку, который лежал в спичечной коробке. Она сняла очки, протерла их и снова надела, всмотрелась в паука.
— Апофеоз исканий, загадок, предположений, писем в Москву — дохлый паук!.. Как же вы, Степан Егорович, — обратилась она к профессору Тарасовичу, — не подумали, что все это так просто и ясно: какой-то дачник чудил, составлял кроссворды, а литератор из Москвы пытается из крапивы делать бриллианты!
— Дачник?! Но позвольте! — воскликнул я. — Там, где найдены листки, и дач-то нет!
Профессор сдержанно поздоровался со мной, посмотрел на меня с некоторым недоумением и, представив доценту Серафиме Васильевне Воронцовой, прибавил:
— Надеюсь, порывистый ход ваших рассуждений по поводу найденных записок не будет стеснен присутствием нашего молодого специалиста. Маляры затянули окраску коридора и некоторых кабинетов, и Серафима Васильевна расположилась у меня со своим микроскопом.
Из-под больших стекол очков на меня посмотрели голубые глаза. Посмотрели, как мне показалось, весьма насмешливо. А затем Серафима Васильевна снова опустила глаза к микроскопу, и правая ее рука быстро забегала по листу бумаги, делая какие-то записи.
Степан Егорович внимательно прочел письмо Чарушина и развел руками:
— Пусть так! Пусть барометр Дижонваля — пауки. Но что это меняет?
— Все! Все меняет! Раз есть барометр Дижонваля, следовательно…
…следовательно, — рассмеялся Тарасевич, — есть и пауки.
— Следовательно, есть и путешественник, который вынужден узнавать погоду по поведению пауков.
— Фантазия!
— Что? А записки? Я вижу вьючное животное на привязи, путешественника, который уже погрузил свой мешок и дописывает дневник…
— Ребусом называется загадка, состоящая в том, что часть слова или целые слова выражены посредством нарисованных фигур, нот или других знаков, звучание которых сходно с задуманными словами, — сказала медленно Воронцова, продолжая глядеть в микроскоп. Что вы хотите сказать? — спросил я.
— Какой-то затейник написал ребус, кроссворд. В нем вместо простого слова «паук» проставил два слова: «барометр Дижонваля», а рядом с Эратосфеном — «личинку стрекозы»… А вы вот маетесь, отгадываете этот ребус.
«Ребус, кроссворд», — повторил я про себя и почувствовал, что эти веселые и простые слова, само их звучание не только снимает с записок загадочность, но и показывает все в смешном виде. Но это ощущение длилось всего мгновение. Нет! Где, кто, когда и зачем станет составлять такие кроссворды?
И я сказал:
— Не ради кроссвордов и ребусов остался я в Ченске, отнимаю время у вас, Степан Егорович, писал Чарушину. А сегодня утром даже побывал там, где студент Белянкин вместе с цветами подобрал загадочные листки.
— С чем же вы вернулись из этой экспедиции?
— Экспедиция не удалась. Подобрал одного паука, да и то дохлого…
— Дохлый паук!.. — захохотала, откинувшись от микроскопа, доцент Воронцова. Она хохотала все громче: — Дохлый паук!.. Ой, не могу! До…до…до…хлый!.. Дайте посмотреть!
Воронцова подбежала к пауку, который лежал в спичечной коробке. Она сняла очки, протерла их и снова надела, всмотрелась в паука.
— Апофеоз исканий, загадок, предположений, писем в Москву — дохлый паук!.. Как же вы, Степан Егорович, — обратилась она к профессору Тарасовичу, — не подумали, что все это так просто и ясно: какой-то дачник чудил, составлял кроссворды, а литератор из Москвы пытается из крапивы делать бриллианты!
— Дачник?! Но позвольте! — воскликнул я. — Там, где найдены листки, и дач-то нет!
