Страница:
Однако в 30-м году это многолетнее Резерфордово соавторство с Чадвиком подошло к естественному завершению. Финалом была их совместная (плюс Эллис) фундаментальная книга «Излучения радиоактивных веществ». И с тех пор они уже вместе не трудились ни за лабораторным столом, ни за письменным. У Резерфорда, очевидно, больше не поднималась рука превращать почти сорокалетнего, давно обретшего самостоятельность и независимость Чадвика в своего помощника.
Тот по праву мог быть не вторым, а первым в любом исследовательском предприятии. И новыми соавторами Резерфорда начали становиться в 30-х годах тогда совсем еще безвестные бакалавры искусств и доктора философии. Он работал то с Вин-Вильямсом и Уордом, то с Боуденом и В. Люисом, то с Хартеком и А. Кемптоном.
К слову сказать, последнего не нужно путать с известным А. Комптоном, с которым Резерфорд тоже, правда, гораздо раньше, выступал как соавтор. Однажды, в декабре 1919 года, они вдвоем опубликовали в «Nature» крошечную заметку на довольно неожиданную тему - «Радиоактивность и гравитация». (Там сообщалось о безуспешной попытке измерить предсказуемое общей теорией относительности сокращение периода полураспада радиоактивного вещества, излучающего в сильном гравитационном поле. По основной аксиоме эйнштейновской теории роль такого поля могло играть бешеное вращенье на центрифуге. Но эффект был заведомо слишком ничтожен количественно для уверенных суждений.) И вот начиная с 33-го года все чаще соавтором Резерфорда становился Маркус Олифант. Мемуаристы утверждают, что молодой австралиец, подобно Фаулеру и Капице, чем-то напоминал самого сэра Эрнста. Была в его лице та же привлекательная открытость, а в манере поведения - та же шумная непосредственность. А Бор уверял, что они вообще были людьми одного склада и одного типа работоспособности. Словом, не случайно Олифант стал последней кавендишевской привязанностью Резерфорда.
В 1933 году он запустил по заданию шефа новую установку для ускорения протонов. Она давала не 600 тысяч вольт, а в три раза меньше. Но зато на ней достигалась в сто раз более высокая плотность потока ускоренных частиц, чем у Коккрофта-Уолтона. И когда эта установка еще только монтировалась, Резерфорд, как бы подразнивая старого манчестерца Ганса Гейгера, сообщал ему, что скоро будет работать с такими бомбардирующими корпускулярными потоками, какие могла бы давать лишь глыба радия весом больше 100 килограммов. На этой-то установке Резерфорд вместе с Олифантом провел в 33-м году обширное исследование, для которого, однако, не нашлось иного заглавия, кроме совершенно описательного: «Эксперименты по превращению элементов с помощью протонов».
Варьировались мишени - от легких атомов до самых тяжелых. Менялась энергия протонов - от 20 тысяч до 200 тысяч электрон-вольт. Накапливалась статистика трансмутаций.
Выяснялось, когда они происходят, а когда нет. И была в этой работе обстоятельность, но не было взлетов. Была систематичность, но не было озарений. И лишь в 7-м пункте ее итогов заключался впечатляющий результат: обстрел мишени из бора приводил к красивой ядерной реакции - рождались три гелиевых ядра, три альфа-частицы, разлетавшихся под углами в 120 градусов:
B 11 +5+ H 1 +1= 3Hе 4 +2
Но и этот успех вряд ли заслуживал названия триумфального, как определил его Ив ради оправдания неосторожного прозвища - «рекордный год».
Если 33-й год и был для науки рекордным, то разве что в трагическом смысле. Однако сначала еще немного об его радостях. 3 февраля лорд-председатель Совета Стенли Болдуин торжественно открывал на Фри Скул лэйн новую физическую лабораторию Королевского общества. Дело в том, что он был по совместительству и лидером английских твердолобых и канцлером Кембриджского университета. А кроме того, любил Резерфорда. Любил и ценил. Ценил до чрезвычайности высоко.
И даже утверждал, что мир, сознавая величье работ Резерфорда, все-таки не отдает себе полного отчета в истинном их значении. А сэру Эрнсту не только приятно, но и полезно было, чтобы новую лабораторию открывал один из руководителей правительства: в глазах всех, кто финансировал науку, это придавало Кавендишу лишний вес.
Пятнадцать тысяч фунтов из Мондовского фонда были истрачены, по-видимому, наилучшим образом. Во всяком случае, так считали и Резерфорд и Капица. Первый - потому, что глубоко верил в плодотворность замыслов второго. А второй - потому, что лаборатория специально для него и строилась, да к тому же по его расчетам и планам.
- Открытие этой лаборатории - кульминация моих надежд последнего десятилетия… - сказал во время торжественной церемонии Резерфорд. И это не были застольные слова, вырвавшиеся от избытка чувств под впечатлением минуты.
То была фраза из обдуманного и заранее написанного адреса.
Не обошлось без смешного происшествия… Да, адрес был написан задолго до торжества. И передан Болдуину в качестве шпаргалки для его будущей поздравительной речи. Резерфорд успел забыть об этом, а Болдуин, очевидно, давно привык не утруждать себя на официальных церемониях слушаньем чужих спичей. Выступая после Резерфорда, он как ни в чем не бывало прочитал тот самый текст, который только что огласил сэр Эрнст. Замечательно, что в аудитории, по словам Дирака и Капицы, никто даже не улыбнулся, сознавая, как нехорошо было бы испортить столь важный спектакль.
Так получилось, что, в сущности, дважды прозвучали слова:
«Кульминация моих надежд»!
Иным из кавендишевцев они показались чрезмерными.
И непонятными. С новой силой в слабых душах пробудилось старое недовольство. Очередное возвышение «этого русского» было поистине беспрецедентным. И разве не физика ядра продолжала оставаться той областью, где концентрировались все вожделения Папы?! А между тем кульминацией его надежд, да еще в масштабах целого десятилетия, оказывалось создание наилучших условий для работы в иной области - сверхсильных магнитных полей…
Это недоумение поначалу казалось вполне здравым. Но недоумевающие не могли же пропустить мимо ушей простейший довод Резерфорда: мгновенные магнитные поля Капицы - «новое и мощное оружие исследования»! Эти слова содержались в том же приветственном адресе. Видимо, ему все больше нравилась декларация Капицы: «Одна сотая секунды - это громадное время, если вы знаете, как его использовать».
Ну, а не мог ли он, как спросил один кавендишевец, поместить деньги лучше? Это праздный вопрос. И невежливый.
Для ответа на него обладал ли кто-нибудь большей компетентностью, чем он сам? Сказано было большим художником: «Надо быть на стороне гения!» (От возможных ошибок спасает критерий: «гений и злодейство - две вещи несовместные».) Разумеется, этого рода недоумения и критицизм прятались за дверьми лабораторных комнат Кавендиша, почти ничем себя не выдавая. Зато порыв другого недовольства, в общем-то безобидного, но тоже связанного с открытием Монд-лаборатории, пронесся над Кембриджем с явственным шумом.
Двухэтажное здание было построено в умеренно-конструк-тивистском духе, и на его фасаде в ясном ритме чередовались вертикальные плоскости из стекла и камня. Оно выглядело подчеркнуто современно. Но вне всяких требований стиля справа от входа по гладкой вертикали стены карабкался вверх высеченный в камне крокодил!
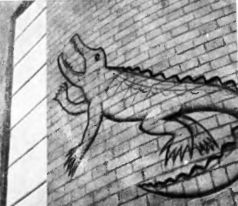
«Крокодил» Эрика Гилла на фасаде Монд-лаборатории
Это была искусная работа настоящего мастера. Ее выполнил широко известный в ту пору скульптор Эрик Гилл. (Ларсен в «Питомнике гениев» благоразумно указал: «Капица заплатил за эту скульптуру из своего собственного кармана».
Очевидно, кто-то готов был утверждать, что пострадали средства Мондовского фонда.) Конечно, все кавендишевцы издавна знали, что означало в понимании Капицы Резерфордово прозвище Крокодил. «…Это существо внушает нам смесь ужаса и восхищения… Оно никогда не поворачивает головы назад…
Оно идет только прямо вперед - как наука, как Резерфорд…» - повторял Капица всем любопытствующим. Иные просто весело смеялись этой окаменевшей шутке. Другие посматривали на самого Капицу со смесью ужаса и восхищения: все-таки надо было быть человеком особого покроя, чтобы решиться на этакий поступок. А третьи возмущались происшедшим. Но напрасно: известно было, что Резерфорду втайне нравилась кличка, придуманная Капицей. И он с довольной улыбкой оглядывал каменного крокодила.
Однако этот крокодил являл собою лишь половину приключившейся тогда «беды». А второй половиной послужила другая работа Эрика Гилла, украсившая внутренний холл Монд-лаборатории: резной профиль Резерфорда.
Сегодня нельзя понять, чем были недовольны «консервативные круги Кембриджа». То был барельеф как барельеф. Легкая стилизация под воображаемую египетскую скульптурную фреску. Или что-то в этом роде. При всем том - портрет сильного и мыслящего человека. Пожалуй, немножко больше породистости в чертах, чем следовало бы. И пожалуй, слишком мало того, что хотелось бы назвать новозеландством, или антиподовостыо, или океанизмом Резерфорда. И право, ничего оскорбляющего даже самый воспитанный вкус. Напротив, в манере автора скорее ощущался излишне тренированный вкус… Но так ли, этак ли, а пошли пересуды. И наконец, раздались требования - убрать барельеф из лаборатории! Однако были в Кавендише и сторонники Капицы - Гилла. Среди них - Дирак.
Капица вынужден был отправиться к Резерфорду.
А что мог сказать Резерфорд? Нелегко святому, не потерявшему чувства юмора, рассуждать о своем иконописном изображении. Ему могло не нравиться, что барельеф напоминает надгробье. Но даже намек на это был бы равносилен приговору. Равно как и напоминание - «не сотвори себе кумира». А похвала из его уст прозвучала бы и вовсе глупо.
В общем он должен был устраниться от суда…
И тут-то вся эта досадная и непредвиденная катавасия нечаянно дала начало маленькой истории, для нас тем более привлекательной, что ею можно естественно, как заключительным штрихом, завершить в этой книге пунктирное повествование о дружбе Резерфорда и Бора. И потому лучше всего досказать эту историю словами сына последнего - профессора Ore Бора.
Через тридцать с лишним лет, в 1965 году, Ore Бор принимал в Копенгагенском физическом институте старого друга своего покойного отца - академика Петра Леонидовича Капицу. В приветственной речи Бор-младший вспомнил давние времена и рассказал о происшествии с барельефом Эрика Гилла.
К тому, что мы знаем, добавилось следующее: …Резерфорд сказал Капице:
- Лучше всего написать Бору и спросить о его точке зрения. Он знает меня прекрасно, да к тому же питает большой интерес к современному искусству. Я бы и сам был не прочь узнать, что он думает…
Капица тотчас послал фотографию барельефа моему отцу. И тот ответил, что хотя судить о произведении искусства по фотоснимку, разумеется, трудно, но он полагает, что барельеф превосходен и на свой лад передает Резерфордову поглощенность глубокими размышленьями и мощь его личности.
Кажется, это мнение помогло спасти барельеф. И Капица заказал художнику точную его копию, а затем вместе с Дираком послал ее в знак признательности моему отцу. Она была помещена над камином в его институтском кабинете и остается чем-то чрезвычайно для нас драгоценным. Когда профессор Капица пришел сегодня к нам в институт, это было первое, что мы ему показали.
А сам Нильс Бор, на четверть века переживший того, кого почитал «вторым отцом», написал в своих воспоминаниях, что барельеф Резерфорда каждый день радовал его взор.
Этого достаточно, чтобы включить работу Эрика Гилла в разряд памятных реликвий, а весь этот эпизод - в человеческую летопись атомного века. Можно бы добавить, что он займет свое место на одной из ее последних мирных страниц.
И вправду: пока длилась эта в общем-то не очень существенная и на фоне прочих людских забот не более чем занятная психологическая игра взрослых детей, в воздухе Европы уже вновь потянуло запахом крови. Запахом крови и дымом совсем нешуточных инквизиционных костров…
Не в жизни одной Германии…
И не в судьбе одних евреев…
И в истории не только славянства…
В жизни, судьбе, истории почти всех народов и едва ли не всех стран мира. 30 января 1933 года в самом центре цивилизованнейшей Европы утвердилась у власти самая дикарская из диктатур, какие умудрялись создавать для себя люди.
Вначале все казалось: это не продлится долго. Слишком глупо звучали заповеди нацизма. «Наука есть явление расовое, обусловленное кровью, как и любой иной продукт человеческой деятельности». Это утверждал сам фюрер германского народа. Но, как-то не верилось, что из такого дурацкого утверждения могут воспоследовать реальные действия.
Вначале все думалось: победит хотя бы здравый смысл.
Не честность или мудрость, не порядочность или человечность, а хотя бы только здравый смысл: зачем же «им», новым правителям Германии, наносить ущерб своей репутации и своей стране - ее культуре и ее будущему, о котором они обещали радеть неустанно?
Вначале все не верилось: мыслимо ли, что они будут изгонять из своей расовой науки, скажем, теорию относительности, только оттого, что Эйнштейн - потомок создателей Экклезиаста, а не разрушителей Рима?! Можно ли было допустить, что они и его самого подвергнут изгнанию из Германии или того хуже?.. Но нет, в реальные, а не словесные убийства, погромы, костры тогда еще поверил бы даже не всякий пессимист.
А Резерфорд был оптимистом! И это ему казалось, думалось, верило сь, что все устроится.
Да обойдется, черт побери!
Уляжется. Затихнет. Развеется.
Пойдет логично. Не выйдет за рамки…
А он ведь при этом довольно сносно знал историю человечества. Или, точнее, хорошо помнил все читанное о былых временах на школьной скамье и в годы студенчества, да и позже, когда в часы досугов он с привычной своей молниеносностью поглощал без разбора все, что чудилось ему интересным. История чудилась интересной. И недаром с ним любил болтать манчестерский историк Тоут. И недаром он поразил однажды двух заслуженных генералов своей праздной осведомленностью в третьестепенных деталях военных кампаний Александра Великого. И главное: все ему рисовалось в отчетливо-зримых картинах. Таков уж был механизм его памяти, всегда работавшей заодно с его необыкновенным воображением. И он умел подтрунивать над прошлым, как над чем-то газетно-сегодняшним. И умел спорить об уроках былого. И знал кровавую необузданность фанатизма. И понимал, что не разум, не логика, не расчет - руководящие начала истории.
Но когда она делалась на его глазах и была историей, еще не ставшей историей, то есть когда в ней еще все можно было исправить, пустить по другому руслу, обдуманно изменить, очеловечить, образумить, - словом, когда она представлялась еще управляемым потоком, ему, человеку мысли и знания, все казалось, думалось, верилось: да не может быть, чтобы это зашло далеко! Да обойдется, черт побери… Уляжется, затихнет, развеется… Еще возьмут свое знание и мысль. Уж немцам-то не занимать ни того, ни другого.
Все не умещалось у него в голове, что впредь от имени Германии будут разговаривать иные немцы, а не те, кому действительно не занимать на стороне ни мыслей, ни знаний.
А тем, кому не занимать, будет становиться на родной земле все хуже и хуже. И неарийцам и арийцам… 3 апреля 33-го года - шел уже третий месяц фашистской диктатуры - он написал во Фрейбург своему старому ученику и другу Дьердю Хевеши:
Все мы, естественно, крайне внимательно следим за действиями нового германского правительства и особенно за антисемитскими акциями. Я надеюсь, что вас никак не затронуло это странное наважденье. Знаю, что Эйнштейн уволился со своего поста в Берлине… Мы, конечно, еще надеемся навестить вас во Фрейбурге в середине июня, если положение в Германии исправится.
«Странное наважденье!»
«Если положение исправится!…»
Всего удивительней, что это его прекраснодушие было совершенно искренним. И в общем-то неистребимым. Даже по прошествии еще одиннадцати месяцев, когда за голову Эйнштейна уже была назначена премия в 50 тысяч марок и со всеми иллюзиями следовало расстаться навсегда, он, Резерфорд, отвечая на провокационное письмо профессора-нациста Иоганнеса Штарка - того самого, что купил на Нобелевскую премию фарфоровую фабрику, - позволил себе заявить с прежним оптимизмом.
Мы все искренне надеемся, что разрыв с традициями интеллектуальной свободы в вашей стране есть только преходящая фаза…
К счастью, эта доверчивость не подавляла в нем негодования. «Взрывчатого негодования» - по словам сэра Вильяма Бевериджа, главы одного из оксфордских колледжей, приехавшего в мае 33-го года к кембриджским коллегам с важной и совершенно добровольной миссией.
Той весной появились в Англии первые беженцы с континента. Будто где-то шла война! Будто где-то мирные люди ждали неминуемого вторженья врага и заранее знали, что нельзя им рассчитывать на снисхожденье. Будто перестали вдруг распространяться на них, на людей, все защитительные установленья человечьего общежития, выработанные тысячелетьями.
Но почему - «будто»? Так происходило на самом деле.
В рассказах изгнанников оживали немыслимые картины внутренней оккупации германских городов. Штурмовики в коричневых рубашках и штатские нацисты в собственных пиджаках, ошалелые фанатики и трезвые карьеристы, примитивные подонки и высокоразвитые трусы захватывали страну - свое отечество! - как побежденную державу. И торопливо бесчинствовали в ней, точно боялись не успеть сполна попользоваться предоставленной им бесконтрольностью, как торопятся и боятся времени всякие оккупанты.
Люди на чемоданах…
Дети, всхлипывающие по-немецки, по-венгерски, по-итальянски, по-польски…
Женщины с затравленными глазами…
Старики с безнадежными улыбками…
Люди, надменно замкнувшиеся р несчастье…
Беженцы. Изгнанники. Эмигранты.
Неарийцы. Антифашисты.
И среди них ученые всех рангов, от мировых светил до начинающих магистров. Исследователи, лишившиеся лабораторий, библиотек, музеев, помощников, противников, дискуссий, журналов, кафедр, средств для работы и средств к существованию.
Учителя без учеников. Ученики без учителей.
Что ждало их в Англии? Что надо было предпринять для спасения этих людей от близких бед нищеты и спасения их знаний, опыта, талантов и замыслов для науки? Короче - как можно и должно было им помочь?
Для обсуждения этой-то проблемы и приехал в Кембридж видный оксфордец Беверидж. Позже, по просьбе Ива, он записал свои впечатления от тогдашней встречи с Резерфордом: …Я нашел его в состоянии взрывчатого негодования по поводу того обращенья, какому подвергались в Германии его ученые коллеги, чьи работы, равно как и их самих, он знал чрезвычайно близко и ценил высочайшим образом.
Так, в одну из майских суббот 33-го года в результате дружного единомыслия Резерфорда, Бевериджа, известного историка Джорджа Тревельяна и президента Королевского общества - Резерфордова преемника - Фредерика Гопкинса практически было решено создать Совет Академической помощи изгнанникам фашизма.
Очень скоро Резерфорд стал его президентом и, сверх того, председателем Исполнительного комитета. И в этом-то качестве 3 октября 33-го года открывал он в Альберт-холле десятитысячный антифашистский митинг, на котором представлял лондонцам своего «старого друга и коллегу профессора Эйнштейна».
Уже около 1000 ученых-изгнанников значились к тому вре- мени в списках Совета Академической помощи. (К маю 1934 года это число дошло до 1300.) Устройство стольких судеб становилось трудной проблемой. И обнаруживалось, что вовсе не всюду и не всегда изгнанников встречали с участьем.
Случаи такого рода приводили Резерфорда в бешенство.
Незадолго ли до митинга в Альберт-холле или, напротив, какое-то время спустя нечто подобное произошло с молодым теоретиком Рудольфом Пайерлсом.
Он был из тех, кто очень счастливо начинал свою жизнь в науке. Обстоятельства свели его со сверстником выдающейся одаренности - Львом Ландау. Вместе сделали они совсем еще юношами важную работу по квантовой электродинамике.
И в 30-м году вместе провели не одну неделю в Копенгагене у Бора, защищая в отчаянных спорах свою точку зрения.
Словом, все шло как надо, и будущее обещало быть милостивым к талантливому исследователю. И внезапно все обернулось бедой. В качестве эмигранта Пайерлс очутился в Манче-стере.
Заботами Совета Академической помощи он был определен на маленькую должность. По молодости лет и малой известности на другую должность он и не рассчитывал. И полагались ему маленькие деньги, что тоже было естественно. Но по чьей-то злой воле этих денег ему не платили. Не платили, и все! Это был недоказуемый (всегда можно было сослаться на недоразумение) саботаж помощи эмигрантам. Пайерлсу было очень скверно. Он не выдержал. Бросил Манчестер и отправился в Кембридж.
Ярость Резерфорда могла быть только бессильной, когда он узнал, отчего этот молодой теоретик удрал из Манчестера.
Зато Пайерлса сразу устроили в Монд-лаборатории. Прошло всего несколько дней, когда во дворе Кавендиша он попался на глаза Резерфорду. На весь двор прозвучал вопрос:
- Ну как, а здесь вам деньги уже дали?
Пайерлс сказал, что еще нет, рано, только в конце месяца он должен будет получить жалованье.
- На что же вы живете?
Пайерлс смущенно ответил что-то невнятное. И тогда раздалось грохочущее:
- Хорошо, вам дадут деньги! Уж я позабочусь, чтобы они, черт возьми, дали вам деньги!
«Это так резко контрастировало с Манчестером, что я навсегда запомнил тот разговор, - рассказывал Пайерлс через тридцать лет. - И с тех пор, между прочим, я сам постоянно задаюсь вопросом, как живут молодые люди, которыми мне приходится руководить…»
Но Пайерлс, наверное, очень удивился бы, узнав, что Резерфорд совсем не всегда проявлял такую заботу о материальном благополучии своих мальчиков. Сам проживший всю молодость сначала на стипендии, а потом на скудное макдональдовское жалованье, он привык и к чужому безденежью относиться без тревог. И полагал, что в самоограниченье нет несчастья. И считал, что начинающим ученым не вредно жить туго. Даже обожавший его Гарольд Робинзон вынужден был признать, что: …тот, кто не мог удовлетвориться меньше чем тремя фунтами в неделю или собирался жениться, несомненно, находил несимпатичной эту позицию Резерфорда, а его взгляд на преимущества простого образа жизни - преувеличенным.
И не будь Пайерлс эмигрантом, сэр Эрнст не кричал бы гневно и несправедливо «они» по адресу мондовцев. (Тем более что именно от Капицы постоянно исходили просьбы и требования о благоустройстве эмигрантов. Венгерский изгнанник Лео Сциллард в шутку даже спрашивал Капицу, уж не иудей ли он, на что последний отвечал: «Нет, но буду!») Словом, в иных обстоятельствах Резерфорд не придал бы никакого значения денежным затруднениям Пайерлса. Но в том-то все и дело, что тут обстоятельства были особыми. И проблема была не просто материальной, а нравственной. Подчеркнуто нравственной.
И неспроста в голосе Резерфорда звучали самые грозовые его ноты, когда на митинге в Альберт-холле, рассказывая о деятельности Совета Академической помощи, он говорил о своем отвращении к «мелочному духу национальной и сектантской вражды», так же как и к «духу политической непримиримости»:
Каждый из нас может иметь свои личные взгляды в области политики, но в нашей работе по оказанию помощи фашистским изгнанникам все различия в политических мнениях должны отступить прочь перед жизненной необходимостью сохранить эту великую сокровищницу знаний и мудрого опыта, которая в противном случае будет потеряна для мира.
А потом говорил Эйнштейн.
Он спрашивал: «Как можем мы спасти Европу от новых бедствий?» И провозгласил спокойную веру в человеческий разум, столь же неистребимую, как и у его британского коллеги:
Пусть нынешние катаклизмы приведут нас к лучшему будущему.
Обнажающе резким светом уверенно светили юпитеры.
И была минута молчания, когда Резерфорд уже кончил говорить, а Эйнштейн еще не начал. И в громадной тишине десятитысячного зала стояли над морем людских голов и сердец два этих человека - два этих превосходнейших человека, ни разу не встречавшихся наедине и, в сущности, едва знакомых друг с другом, но в ту минуту столь неотторжимо близких друг другу, что даже для них самих, а не только для окружающих, было безусловной истиной: они друзья, да притом старые и верные, и, уж, конечно, на всю жизнь!..
Их соединяло то, что на протяжении последних десятилетий неизменно и безоговорочно соединяет разноязычных людей всех материков, рас и верований: противостояние великой беде и великому позору нашего века.
У фашизма, под какими бы национальными знаменами ни делал он свои бесчеловечные дела, оказалась одна незапрограммированная его фюрерами заслуга перед историей: он породил мировой антифашизм! Он довел до опасно-разящей остроты чувство интернациональной солидарности у лучшей части человечества. И вдруг превратил в социально-исторические ценности такие простые и вечные вещи, как человеческое достоинство, порядочность, духовная независимость, доброта.
Тот по праву мог быть не вторым, а первым в любом исследовательском предприятии. И новыми соавторами Резерфорда начали становиться в 30-х годах тогда совсем еще безвестные бакалавры искусств и доктора философии. Он работал то с Вин-Вильямсом и Уордом, то с Боуденом и В. Люисом, то с Хартеком и А. Кемптоном.
К слову сказать, последнего не нужно путать с известным А. Комптоном, с которым Резерфорд тоже, правда, гораздо раньше, выступал как соавтор. Однажды, в декабре 1919 года, они вдвоем опубликовали в «Nature» крошечную заметку на довольно неожиданную тему - «Радиоактивность и гравитация». (Там сообщалось о безуспешной попытке измерить предсказуемое общей теорией относительности сокращение периода полураспада радиоактивного вещества, излучающего в сильном гравитационном поле. По основной аксиоме эйнштейновской теории роль такого поля могло играть бешеное вращенье на центрифуге. Но эффект был заведомо слишком ничтожен количественно для уверенных суждений.) И вот начиная с 33-го года все чаще соавтором Резерфорда становился Маркус Олифант. Мемуаристы утверждают, что молодой австралиец, подобно Фаулеру и Капице, чем-то напоминал самого сэра Эрнста. Была в его лице та же привлекательная открытость, а в манере поведения - та же шумная непосредственность. А Бор уверял, что они вообще были людьми одного склада и одного типа работоспособности. Словом, не случайно Олифант стал последней кавендишевской привязанностью Резерфорда.
В 1933 году он запустил по заданию шефа новую установку для ускорения протонов. Она давала не 600 тысяч вольт, а в три раза меньше. Но зато на ней достигалась в сто раз более высокая плотность потока ускоренных частиц, чем у Коккрофта-Уолтона. И когда эта установка еще только монтировалась, Резерфорд, как бы подразнивая старого манчестерца Ганса Гейгера, сообщал ему, что скоро будет работать с такими бомбардирующими корпускулярными потоками, какие могла бы давать лишь глыба радия весом больше 100 килограммов. На этой-то установке Резерфорд вместе с Олифантом провел в 33-м году обширное исследование, для которого, однако, не нашлось иного заглавия, кроме совершенно описательного: «Эксперименты по превращению элементов с помощью протонов».
Варьировались мишени - от легких атомов до самых тяжелых. Менялась энергия протонов - от 20 тысяч до 200 тысяч электрон-вольт. Накапливалась статистика трансмутаций.
Выяснялось, когда они происходят, а когда нет. И была в этой работе обстоятельность, но не было взлетов. Была систематичность, но не было озарений. И лишь в 7-м пункте ее итогов заключался впечатляющий результат: обстрел мишени из бора приводил к красивой ядерной реакции - рождались три гелиевых ядра, три альфа-частицы, разлетавшихся под углами в 120 градусов:
B 11 +5+ H 1 +1= 3Hе 4 +2
Но и этот успех вряд ли заслуживал названия триумфального, как определил его Ив ради оправдания неосторожного прозвища - «рекордный год».
Если 33-й год и был для науки рекордным, то разве что в трагическом смысле. Однако сначала еще немного об его радостях. 3 февраля лорд-председатель Совета Стенли Болдуин торжественно открывал на Фри Скул лэйн новую физическую лабораторию Королевского общества. Дело в том, что он был по совместительству и лидером английских твердолобых и канцлером Кембриджского университета. А кроме того, любил Резерфорда. Любил и ценил. Ценил до чрезвычайности высоко.
И даже утверждал, что мир, сознавая величье работ Резерфорда, все-таки не отдает себе полного отчета в истинном их значении. А сэру Эрнсту не только приятно, но и полезно было, чтобы новую лабораторию открывал один из руководителей правительства: в глазах всех, кто финансировал науку, это придавало Кавендишу лишний вес.
Пятнадцать тысяч фунтов из Мондовского фонда были истрачены, по-видимому, наилучшим образом. Во всяком случае, так считали и Резерфорд и Капица. Первый - потому, что глубоко верил в плодотворность замыслов второго. А второй - потому, что лаборатория специально для него и строилась, да к тому же по его расчетам и планам.
- Открытие этой лаборатории - кульминация моих надежд последнего десятилетия… - сказал во время торжественной церемонии Резерфорд. И это не были застольные слова, вырвавшиеся от избытка чувств под впечатлением минуты.
То была фраза из обдуманного и заранее написанного адреса.
Не обошлось без смешного происшествия… Да, адрес был написан задолго до торжества. И передан Болдуину в качестве шпаргалки для его будущей поздравительной речи. Резерфорд успел забыть об этом, а Болдуин, очевидно, давно привык не утруждать себя на официальных церемониях слушаньем чужих спичей. Выступая после Резерфорда, он как ни в чем не бывало прочитал тот самый текст, который только что огласил сэр Эрнст. Замечательно, что в аудитории, по словам Дирака и Капицы, никто даже не улыбнулся, сознавая, как нехорошо было бы испортить столь важный спектакль.
Так получилось, что, в сущности, дважды прозвучали слова:
«Кульминация моих надежд»!
Иным из кавендишевцев они показались чрезмерными.
И непонятными. С новой силой в слабых душах пробудилось старое недовольство. Очередное возвышение «этого русского» было поистине беспрецедентным. И разве не физика ядра продолжала оставаться той областью, где концентрировались все вожделения Папы?! А между тем кульминацией его надежд, да еще в масштабах целого десятилетия, оказывалось создание наилучших условий для работы в иной области - сверхсильных магнитных полей…
Это недоумение поначалу казалось вполне здравым. Но недоумевающие не могли же пропустить мимо ушей простейший довод Резерфорда: мгновенные магнитные поля Капицы - «новое и мощное оружие исследования»! Эти слова содержались в том же приветственном адресе. Видимо, ему все больше нравилась декларация Капицы: «Одна сотая секунды - это громадное время, если вы знаете, как его использовать».
Ну, а не мог ли он, как спросил один кавендишевец, поместить деньги лучше? Это праздный вопрос. И невежливый.
Для ответа на него обладал ли кто-нибудь большей компетентностью, чем он сам? Сказано было большим художником: «Надо быть на стороне гения!» (От возможных ошибок спасает критерий: «гений и злодейство - две вещи несовместные».) Разумеется, этого рода недоумения и критицизм прятались за дверьми лабораторных комнат Кавендиша, почти ничем себя не выдавая. Зато порыв другого недовольства, в общем-то безобидного, но тоже связанного с открытием Монд-лаборатории, пронесся над Кембриджем с явственным шумом.
Двухэтажное здание было построено в умеренно-конструк-тивистском духе, и на его фасаде в ясном ритме чередовались вертикальные плоскости из стекла и камня. Оно выглядело подчеркнуто современно. Но вне всяких требований стиля справа от входа по гладкой вертикали стены карабкался вверх высеченный в камне крокодил!
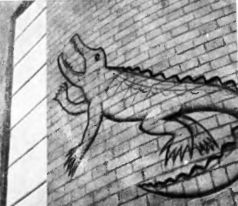
«Крокодил» Эрика Гилла на фасаде Монд-лаборатории
Это была искусная работа настоящего мастера. Ее выполнил широко известный в ту пору скульптор Эрик Гилл. (Ларсен в «Питомнике гениев» благоразумно указал: «Капица заплатил за эту скульптуру из своего собственного кармана».
Очевидно, кто-то готов был утверждать, что пострадали средства Мондовского фонда.) Конечно, все кавендишевцы издавна знали, что означало в понимании Капицы Резерфордово прозвище Крокодил. «…Это существо внушает нам смесь ужаса и восхищения… Оно никогда не поворачивает головы назад…
Оно идет только прямо вперед - как наука, как Резерфорд…» - повторял Капица всем любопытствующим. Иные просто весело смеялись этой окаменевшей шутке. Другие посматривали на самого Капицу со смесью ужаса и восхищения: все-таки надо было быть человеком особого покроя, чтобы решиться на этакий поступок. А третьи возмущались происшедшим. Но напрасно: известно было, что Резерфорду втайне нравилась кличка, придуманная Капицей. И он с довольной улыбкой оглядывал каменного крокодила.
Однако этот крокодил являл собою лишь половину приключившейся тогда «беды». А второй половиной послужила другая работа Эрика Гилла, украсившая внутренний холл Монд-лаборатории: резной профиль Резерфорда.
Сегодня нельзя понять, чем были недовольны «консервативные круги Кембриджа». То был барельеф как барельеф. Легкая стилизация под воображаемую египетскую скульптурную фреску. Или что-то в этом роде. При всем том - портрет сильного и мыслящего человека. Пожалуй, немножко больше породистости в чертах, чем следовало бы. И пожалуй, слишком мало того, что хотелось бы назвать новозеландством, или антиподовостыо, или океанизмом Резерфорда. И право, ничего оскорбляющего даже самый воспитанный вкус. Напротив, в манере автора скорее ощущался излишне тренированный вкус… Но так ли, этак ли, а пошли пересуды. И наконец, раздались требования - убрать барельеф из лаборатории! Однако были в Кавендише и сторонники Капицы - Гилла. Среди них - Дирак.
Капица вынужден был отправиться к Резерфорду.
А что мог сказать Резерфорд? Нелегко святому, не потерявшему чувства юмора, рассуждать о своем иконописном изображении. Ему могло не нравиться, что барельеф напоминает надгробье. Но даже намек на это был бы равносилен приговору. Равно как и напоминание - «не сотвори себе кумира». А похвала из его уст прозвучала бы и вовсе глупо.
В общем он должен был устраниться от суда…
И тут-то вся эта досадная и непредвиденная катавасия нечаянно дала начало маленькой истории, для нас тем более привлекательной, что ею можно естественно, как заключительным штрихом, завершить в этой книге пунктирное повествование о дружбе Резерфорда и Бора. И потому лучше всего досказать эту историю словами сына последнего - профессора Ore Бора.
Через тридцать с лишним лет, в 1965 году, Ore Бор принимал в Копенгагенском физическом институте старого друга своего покойного отца - академика Петра Леонидовича Капицу. В приветственной речи Бор-младший вспомнил давние времена и рассказал о происшествии с барельефом Эрика Гилла.
К тому, что мы знаем, добавилось следующее: …Резерфорд сказал Капице:
- Лучше всего написать Бору и спросить о его точке зрения. Он знает меня прекрасно, да к тому же питает большой интерес к современному искусству. Я бы и сам был не прочь узнать, что он думает…
Капица тотчас послал фотографию барельефа моему отцу. И тот ответил, что хотя судить о произведении искусства по фотоснимку, разумеется, трудно, но он полагает, что барельеф превосходен и на свой лад передает Резерфордову поглощенность глубокими размышленьями и мощь его личности.
Кажется, это мнение помогло спасти барельеф. И Капица заказал художнику точную его копию, а затем вместе с Дираком послал ее в знак признательности моему отцу. Она была помещена над камином в его институтском кабинете и остается чем-то чрезвычайно для нас драгоценным. Когда профессор Капица пришел сегодня к нам в институт, это было первое, что мы ему показали.
А сам Нильс Бор, на четверть века переживший того, кого почитал «вторым отцом», написал в своих воспоминаниях, что барельеф Резерфорда каждый день радовал его взор.
Этого достаточно, чтобы включить работу Эрика Гилла в разряд памятных реликвий, а весь этот эпизод - в человеческую летопись атомного века. Можно бы добавить, что он займет свое место на одной из ее последних мирных страниц.
И вправду: пока длилась эта в общем-то не очень существенная и на фоне прочих людских забот не более чем занятная психологическая игра взрослых детей, в воздухе Европы уже вновь потянуло запахом крови. Запахом крови и дымом совсем нешуточных инквизиционных костров…
15
Год 1933-й стал трагическим для науки оттого, что она дело всечеловеческое. А он, этот год, открыл собою эпоху многолетней, лавинно прокатившейся по миру и оставшейся навсегда непоправимой трагедии в жизни человечества вообще.Не в жизни одной Германии…
И не в судьбе одних евреев…
И в истории не только славянства…
В жизни, судьбе, истории почти всех народов и едва ли не всех стран мира. 30 января 1933 года в самом центре цивилизованнейшей Европы утвердилась у власти самая дикарская из диктатур, какие умудрялись создавать для себя люди.
Вначале все казалось: это не продлится долго. Слишком глупо звучали заповеди нацизма. «Наука есть явление расовое, обусловленное кровью, как и любой иной продукт человеческой деятельности». Это утверждал сам фюрер германского народа. Но, как-то не верилось, что из такого дурацкого утверждения могут воспоследовать реальные действия.
Вначале все думалось: победит хотя бы здравый смысл.
Не честность или мудрость, не порядочность или человечность, а хотя бы только здравый смысл: зачем же «им», новым правителям Германии, наносить ущерб своей репутации и своей стране - ее культуре и ее будущему, о котором они обещали радеть неустанно?
Вначале все не верилось: мыслимо ли, что они будут изгонять из своей расовой науки, скажем, теорию относительности, только оттого, что Эйнштейн - потомок создателей Экклезиаста, а не разрушителей Рима?! Можно ли было допустить, что они и его самого подвергнут изгнанию из Германии или того хуже?.. Но нет, в реальные, а не словесные убийства, погромы, костры тогда еще поверил бы даже не всякий пессимист.
А Резерфорд был оптимистом! И это ему казалось, думалось, верило сь, что все устроится.
Да обойдется, черт побери!
Уляжется. Затихнет. Развеется.
Пойдет логично. Не выйдет за рамки…
А он ведь при этом довольно сносно знал историю человечества. Или, точнее, хорошо помнил все читанное о былых временах на школьной скамье и в годы студенчества, да и позже, когда в часы досугов он с привычной своей молниеносностью поглощал без разбора все, что чудилось ему интересным. История чудилась интересной. И недаром с ним любил болтать манчестерский историк Тоут. И недаром он поразил однажды двух заслуженных генералов своей праздной осведомленностью в третьестепенных деталях военных кампаний Александра Великого. И главное: все ему рисовалось в отчетливо-зримых картинах. Таков уж был механизм его памяти, всегда работавшей заодно с его необыкновенным воображением. И он умел подтрунивать над прошлым, как над чем-то газетно-сегодняшним. И умел спорить об уроках былого. И знал кровавую необузданность фанатизма. И понимал, что не разум, не логика, не расчет - руководящие начала истории.
Но когда она делалась на его глазах и была историей, еще не ставшей историей, то есть когда в ней еще все можно было исправить, пустить по другому руслу, обдуманно изменить, очеловечить, образумить, - словом, когда она представлялась еще управляемым потоком, ему, человеку мысли и знания, все казалось, думалось, верилось: да не может быть, чтобы это зашло далеко! Да обойдется, черт побери… Уляжется, затихнет, развеется… Еще возьмут свое знание и мысль. Уж немцам-то не занимать ни того, ни другого.
Все не умещалось у него в голове, что впредь от имени Германии будут разговаривать иные немцы, а не те, кому действительно не занимать на стороне ни мыслей, ни знаний.
А тем, кому не занимать, будет становиться на родной земле все хуже и хуже. И неарийцам и арийцам… 3 апреля 33-го года - шел уже третий месяц фашистской диктатуры - он написал во Фрейбург своему старому ученику и другу Дьердю Хевеши:
Все мы, естественно, крайне внимательно следим за действиями нового германского правительства и особенно за антисемитскими акциями. Я надеюсь, что вас никак не затронуло это странное наважденье. Знаю, что Эйнштейн уволился со своего поста в Берлине… Мы, конечно, еще надеемся навестить вас во Фрейбурге в середине июня, если положение в Германии исправится.
«Странное наважденье!»
«Если положение исправится!…»
Всего удивительней, что это его прекраснодушие было совершенно искренним. И в общем-то неистребимым. Даже по прошествии еще одиннадцати месяцев, когда за голову Эйнштейна уже была назначена премия в 50 тысяч марок и со всеми иллюзиями следовало расстаться навсегда, он, Резерфорд, отвечая на провокационное письмо профессора-нациста Иоганнеса Штарка - того самого, что купил на Нобелевскую премию фарфоровую фабрику, - позволил себе заявить с прежним оптимизмом.
Мы все искренне надеемся, что разрыв с традициями интеллектуальной свободы в вашей стране есть только преходящая фаза…
К счастью, эта доверчивость не подавляла в нем негодования. «Взрывчатого негодования» - по словам сэра Вильяма Бевериджа, главы одного из оксфордских колледжей, приехавшего в мае 33-го года к кембриджским коллегам с важной и совершенно добровольной миссией.
Той весной появились в Англии первые беженцы с континента. Будто где-то шла война! Будто где-то мирные люди ждали неминуемого вторженья врага и заранее знали, что нельзя им рассчитывать на снисхожденье. Будто перестали вдруг распространяться на них, на людей, все защитительные установленья человечьего общежития, выработанные тысячелетьями.
Но почему - «будто»? Так происходило на самом деле.
В рассказах изгнанников оживали немыслимые картины внутренней оккупации германских городов. Штурмовики в коричневых рубашках и штатские нацисты в собственных пиджаках, ошалелые фанатики и трезвые карьеристы, примитивные подонки и высокоразвитые трусы захватывали страну - свое отечество! - как побежденную державу. И торопливо бесчинствовали в ней, точно боялись не успеть сполна попользоваться предоставленной им бесконтрольностью, как торопятся и боятся времени всякие оккупанты.
Люди на чемоданах…
Дети, всхлипывающие по-немецки, по-венгерски, по-итальянски, по-польски…
Женщины с затравленными глазами…
Старики с безнадежными улыбками…
Люди, надменно замкнувшиеся р несчастье…
Беженцы. Изгнанники. Эмигранты.
Неарийцы. Антифашисты.
И среди них ученые всех рангов, от мировых светил до начинающих магистров. Исследователи, лишившиеся лабораторий, библиотек, музеев, помощников, противников, дискуссий, журналов, кафедр, средств для работы и средств к существованию.
Учителя без учеников. Ученики без учителей.
Что ждало их в Англии? Что надо было предпринять для спасения этих людей от близких бед нищеты и спасения их знаний, опыта, талантов и замыслов для науки? Короче - как можно и должно было им помочь?
Для обсуждения этой-то проблемы и приехал в Кембридж видный оксфордец Беверидж. Позже, по просьбе Ива, он записал свои впечатления от тогдашней встречи с Резерфордом: …Я нашел его в состоянии взрывчатого негодования по поводу того обращенья, какому подвергались в Германии его ученые коллеги, чьи работы, равно как и их самих, он знал чрезвычайно близко и ценил высочайшим образом.
Так, в одну из майских суббот 33-го года в результате дружного единомыслия Резерфорда, Бевериджа, известного историка Джорджа Тревельяна и президента Королевского общества - Резерфордова преемника - Фредерика Гопкинса практически было решено создать Совет Академической помощи изгнанникам фашизма.
Очень скоро Резерфорд стал его президентом и, сверх того, председателем Исполнительного комитета. И в этом-то качестве 3 октября 33-го года открывал он в Альберт-холле десятитысячный антифашистский митинг, на котором представлял лондонцам своего «старого друга и коллегу профессора Эйнштейна».
Уже около 1000 ученых-изгнанников значились к тому вре- мени в списках Совета Академической помощи. (К маю 1934 года это число дошло до 1300.) Устройство стольких судеб становилось трудной проблемой. И обнаруживалось, что вовсе не всюду и не всегда изгнанников встречали с участьем.
Случаи такого рода приводили Резерфорда в бешенство.
Незадолго ли до митинга в Альберт-холле или, напротив, какое-то время спустя нечто подобное произошло с молодым теоретиком Рудольфом Пайерлсом.
Он был из тех, кто очень счастливо начинал свою жизнь в науке. Обстоятельства свели его со сверстником выдающейся одаренности - Львом Ландау. Вместе сделали они совсем еще юношами важную работу по квантовой электродинамике.
И в 30-м году вместе провели не одну неделю в Копенгагене у Бора, защищая в отчаянных спорах свою точку зрения.
Словом, все шло как надо, и будущее обещало быть милостивым к талантливому исследователю. И внезапно все обернулось бедой. В качестве эмигранта Пайерлс очутился в Манче-стере.
Заботами Совета Академической помощи он был определен на маленькую должность. По молодости лет и малой известности на другую должность он и не рассчитывал. И полагались ему маленькие деньги, что тоже было естественно. Но по чьей-то злой воле этих денег ему не платили. Не платили, и все! Это был недоказуемый (всегда можно было сослаться на недоразумение) саботаж помощи эмигрантам. Пайерлсу было очень скверно. Он не выдержал. Бросил Манчестер и отправился в Кембридж.
Ярость Резерфорда могла быть только бессильной, когда он узнал, отчего этот молодой теоретик удрал из Манчестера.
Зато Пайерлса сразу устроили в Монд-лаборатории. Прошло всего несколько дней, когда во дворе Кавендиша он попался на глаза Резерфорду. На весь двор прозвучал вопрос:
- Ну как, а здесь вам деньги уже дали?
Пайерлс сказал, что еще нет, рано, только в конце месяца он должен будет получить жалованье.
- На что же вы живете?
Пайерлс смущенно ответил что-то невнятное. И тогда раздалось грохочущее:
- Хорошо, вам дадут деньги! Уж я позабочусь, чтобы они, черт возьми, дали вам деньги!
«Это так резко контрастировало с Манчестером, что я навсегда запомнил тот разговор, - рассказывал Пайерлс через тридцать лет. - И с тех пор, между прочим, я сам постоянно задаюсь вопросом, как живут молодые люди, которыми мне приходится руководить…»
Но Пайерлс, наверное, очень удивился бы, узнав, что Резерфорд совсем не всегда проявлял такую заботу о материальном благополучии своих мальчиков. Сам проживший всю молодость сначала на стипендии, а потом на скудное макдональдовское жалованье, он привык и к чужому безденежью относиться без тревог. И полагал, что в самоограниченье нет несчастья. И считал, что начинающим ученым не вредно жить туго. Даже обожавший его Гарольд Робинзон вынужден был признать, что: …тот, кто не мог удовлетвориться меньше чем тремя фунтами в неделю или собирался жениться, несомненно, находил несимпатичной эту позицию Резерфорда, а его взгляд на преимущества простого образа жизни - преувеличенным.
И не будь Пайерлс эмигрантом, сэр Эрнст не кричал бы гневно и несправедливо «они» по адресу мондовцев. (Тем более что именно от Капицы постоянно исходили просьбы и требования о благоустройстве эмигрантов. Венгерский изгнанник Лео Сциллард в шутку даже спрашивал Капицу, уж не иудей ли он, на что последний отвечал: «Нет, но буду!») Словом, в иных обстоятельствах Резерфорд не придал бы никакого значения денежным затруднениям Пайерлса. Но в том-то все и дело, что тут обстоятельства были особыми. И проблема была не просто материальной, а нравственной. Подчеркнуто нравственной.
И неспроста в голосе Резерфорда звучали самые грозовые его ноты, когда на митинге в Альберт-холле, рассказывая о деятельности Совета Академической помощи, он говорил о своем отвращении к «мелочному духу национальной и сектантской вражды», так же как и к «духу политической непримиримости»:
Каждый из нас может иметь свои личные взгляды в области политики, но в нашей работе по оказанию помощи фашистским изгнанникам все различия в политических мнениях должны отступить прочь перед жизненной необходимостью сохранить эту великую сокровищницу знаний и мудрого опыта, которая в противном случае будет потеряна для мира.
А потом говорил Эйнштейн.
Он спрашивал: «Как можем мы спасти Европу от новых бедствий?» И провозгласил спокойную веру в человеческий разум, столь же неистребимую, как и у его британского коллеги:
Пусть нынешние катаклизмы приведут нас к лучшему будущему.
Обнажающе резким светом уверенно светили юпитеры.
И была минута молчания, когда Резерфорд уже кончил говорить, а Эйнштейн еще не начал. И в громадной тишине десятитысячного зала стояли над морем людских голов и сердец два этих человека - два этих превосходнейших человека, ни разу не встречавшихся наедине и, в сущности, едва знакомых друг с другом, но в ту минуту столь неотторжимо близких друг другу, что даже для них самих, а не только для окружающих, было безусловной истиной: они друзья, да притом старые и верные, и, уж, конечно, на всю жизнь!..
Их соединяло то, что на протяжении последних десятилетий неизменно и безоговорочно соединяет разноязычных людей всех материков, рас и верований: противостояние великой беде и великому позору нашего века.
У фашизма, под какими бы национальными знаменами ни делал он свои бесчеловечные дела, оказалась одна незапрограммированная его фюрерами заслуга перед историей: он породил мировой антифашизм! Он довел до опасно-разящей остроты чувство интернациональной солидарности у лучшей части человечества. И вдруг превратил в социально-исторические ценности такие простые и вечные вещи, как человеческое достоинство, порядочность, духовная независимость, доброта.
