Страница:
— Ура! — закричал главарь разбойников, первым просунув в щель голову. — Ура!
Но не успел он сделать и шага, как в горло ему вцепился Ланс, а палки Линкольна и монаха обрушились на его затылок, и он рухнул у порога.
Та же участь постигла и следующего за ним бандита.
С третьим удалось разделаться точно так же, но четверо оставшихся сумели вступить в борьбу, и они не были остановлены, как их предшественники, собаками, все еще не выпускавшими своих жертв; завязалась настоящая драка; Гилберт и Робин, заняв позиции, безусловно могли бы ее быстро прекратить и добиться победы, расстреляв противника стрелами из своих колчанов, потому что нападавшие, были вооружены только копьями; но Гилберт не хотел кровопролития и предпочел предоставить монаху-бенедиктинцу и Линкольну обстоятельно поколотить палками подручных барона Фиц-Олвина, а потому и он и Аллан Клер только отражали удары копий.
До сих пор кровь пролилась лишь от укусов собак, но тут Робину стало стыдно, что он бездействует, к тому же ему захотелось показать свое умение; поскольку Линкольн научил его владеть палкой не хуже, чем Гилберт — луком, он схватил древко алебарды, и его мулине присоединилось к устрашающим ударам его товарищей.
Не успел Робин подойти к дерущимся, как один из разбойников, огромный, как Геркулес, свирепо и насмешливо ухмыляясь, отступил на шаг перед Линкольном и монахом, обернулся к юноше и сделал выпад. Но Робин не потерял хладнокровия и, отразив удар копья, который мог бы проткнуть его насквозь, ответил на него прямым горизонтальным ударом в грудь, заставившим бандита отлететь к стене и сползти по ней.
— Браво, Робин! — закричал Линкольн.
— Тысяча смертей! — бормотал разбойник, отплевываясь сгустками крови; казалось, он был близок к смерти, но внезапно встал, выпрямился, притворно шатаясь, и вдруг, словно обезумев от ярости, кинулся на Робина с копьем наперевес.
Вот тут бы Робину и пришел конец, потому что вне себя от радости он забыл прикрыться палкой и копье мгновенно пронзило бы его, если бы старый Линкольн, внимательно следивший за всем происходящим, не уложил убийцу ударом палки по голове.
— Ну вот и четверо! — со смехом воскликнул он.
И правда, четверо бандитов уже валялись на полу; на ногах остались только трое, да и те скорее расположены были убежать, чем продолжать драку, потому что монах-бенедиктинец не переставал наносить им удар за ударом своей огромной кизиловой палкой.
До чего же он был великолепен, этот святой отец: капюшон его был откинут, рукава засучены до локтя, подол подоткнут выше колен, а на лице пылал румянец праведного гнева!
Сам архангел Гавриил, сражающийся с дьяволом, не был более грозен!
Пока герой-монах, рядом с которым находился восхищенный Линкольн, продолжал битву, Гилберте помощью Робина и Аллана надежно связал руки и ноги тем из побежденных, кто еще подавал признаки жизни. Двое запросили пощады, третий был мертв, главарь, на котором Ланс так и висел, вцепившись ему в горло, страшно хрипел и время от времени вопил, обращаясь к своим товарищам:
— Убейте, убейте, убейте собаку!
Но те его не слышали, а если бы и слышали, то не смогли бы прийти на помощь, потому что сами вынуждены были защищаться.
И все же один человек, о котором все уже забыли, попытался ему помочь. Тайфер, чуть не захлебнувшийся в чане и почти бездыханным положенный своими товарищами на землю под навес, придя в себя и услышав шум битвы, ползком добрался до места схватки и уже хотел ударить храброго Ланса ножом, но тут Робин заметил его, схватил за плечи, бросил навзничь, отнял у него кинжал, прижал коленом к полу и держал так, пока Гилберт и Аллан не связали ему руки и ноги.
Эта попытка Тайфера помочь главарю только ускорила его гибель: Ланс, как любая собака, у которой хотят отнять кость, впал в дикую ярость, его страшные клыки еще глубже вонзились в горло жертвы, разодрав сонную артерию и яремные вены, и злодей стал истекать кровью.
Злоумышленники увидели, что случилось с их главарем, но продолжали сопротивляться, хотя и недолго, к тому же старый Линкольн преградил им путь к отступлению, закрыв дверь и заложив засовы, и разбойники оказались в мышеловке.
— Пощады! — закричал один из них, оглушенный и измученный ударами кизиловой палки монаха.
— Нет тебе пощады! — крикнул в ответ монах. — Хотели, чтобы вас приласкали, так получайте!
— Пощады, Бога ради!
— Не будет никому из вас пощады!
И кизиловая палка беспрестанно опускалась, поднимаясь лишь затем, чтобы снова опуститься.
— Пощады, пощады! — наконец закричали все разбойники вместе.
— Сначала бросьте копья! Они бросили копья на землю.
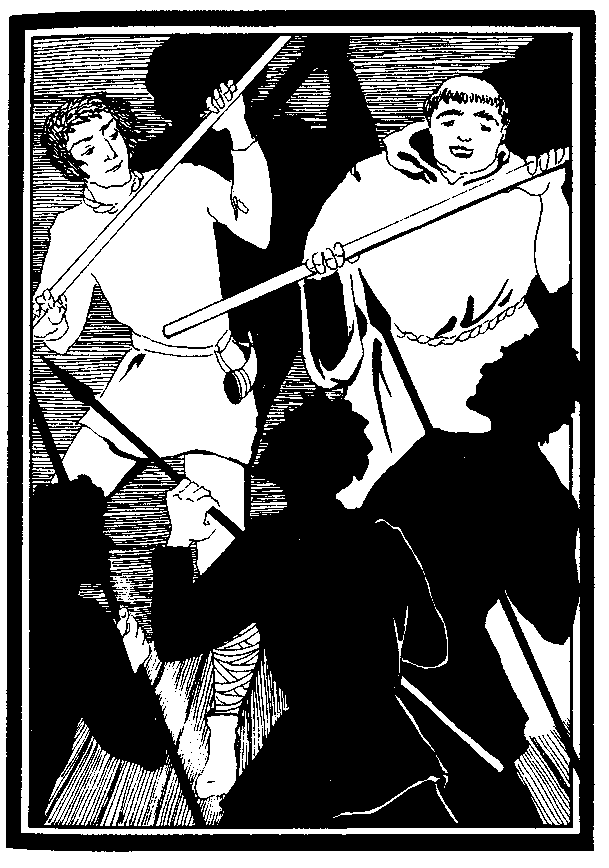 — Теперь на колени! Разбойники опустились на колени.
— Теперь на колени! Разбойники опустились на колени.
— Прекрасно! Осталось только вытереть палку.
«Вытереть палку» для веселого монаха значило хорошенько пройтись ею последний раз по спинам злодеев. Потом он скрестил на груди руки, и, опершись на палку, застыл в позе Геркулеса-победителя.
— Ну а теперь пусть вашу судьбу решает хозяин дома, — сказал он.
Гилберт Хэд волен был над жизнью и смертью этих негодяев; согласно нравам и обычаям того времени, когда каждый сам вершил правосудие, лесник мог предать их смерти, но он терпеть не мог проливать кровь, кроме как в случае законной самозащиты, а потому принял другое решение.
Шестерых раненых подняли, привели кое-как в чувство, стянули им за спиной руки и привязали к одной веревке, как галерных рабов. Потом Линкольн с помощью молодого монаха отвел их за несколько миль от дома в самую чащу леса и оставил там размышлять над своей судьбой.
Тайфера среди них не было. В ту минуту, когда Линкольн хотел привязать его к общей цепи, он неожиданно сказал:
— Гилберт Хэд, прикажи перенести меня на постель. Я должен тебе кое-что сказать перед смертью, Гилберт Хэд.
— Ну нет, неблагодарная ты собака; тебя скорее следовало бы повесить на первом попавшемся суку.
— Смилуйся, выслушай меня!
— Нет, ты пойдешь с другими.
— Выслушай меня, мне надо тебе рассказать нечто очень важное.
Гилберт хотел опять ответить отказом, но тут ему показалось, что губы Тайфера произнесли имя, пробудившее в нем множество горьких воспоминаний.
— Энни, он произнес имя Энни! — прошептал Гилберт, тотчас же склоняясь над раненым.
— Да, я произнес имя Энни, — слабым голосом прошептал умирающий.
— Ну так говори скорее, что ты о ней знаешь.
— Не здесь — наверху, когда мы останемся одни.
— Мы и так одни.
Гилберт и в самом деле так думал, потому что Робин и Аллан пошли рыть могилу неподалеку от дома, чтобы похоронить умершего, а Маргарет и Марианна еще не вышли из своего убежища.
— Нет, мы не одни, — сказал Тайфер, показывая на старого монаха, молившегося над трупом разбойника.
И, схватив Гилберта за руку, Тайфер попытался приподняться с земли, но тот поспешно оттолкнул его со словами:
— Не касайся меня, негодяй!
Несчастный упал на спину, но Гилберт, невольно поддавшийся чувству жалости, осторожно поднял его: одно имя Энни умерило его гнев.
— Гилберт, — заговорил снова Тайфер, и голос его становился все слабее и слабее, — я сделал тебе много зла, но я попытаюсь его искупить.
— А я не прошу тебя его искупить, я просто слушаю, что ты скажешь.
— Ах, Гилберт, умилосердись, не дай мне умереть… я задыхаюсь… верни меня к жизни, хоть ненадолго, я тебе все расскажу там, наверху!
Гилберт хотел было выйти и позвать Робина и Аллана, чтобы они помогли ему перенести умирающего на постель, но тот подумал, что лесник решил его оставить одного, сделал усилие, приподнялся и воскликнул:
— Ты что, не узнаешь меня, Гилберт?
— А как же, узнаю: ты проклятый убийца и предатель! — ответил Гилберт уже с порога.
— Я еще хуже, чем ты думаешь, Гилберт: я Ритсон, Роланд Ритсон, брат твоей жены.
— Ритсон! Ритсон! О Пресвятая Дева, Матерь Божья! Разве это возможно?
И Гилберт опустился на колени рядом с умирающим: тот бился в последних приступах агонии.
V
Но не успел он сделать и шага, как в горло ему вцепился Ланс, а палки Линкольна и монаха обрушились на его затылок, и он рухнул у порога.
Та же участь постигла и следующего за ним бандита.
С третьим удалось разделаться точно так же, но четверо оставшихся сумели вступить в борьбу, и они не были остановлены, как их предшественники, собаками, все еще не выпускавшими своих жертв; завязалась настоящая драка; Гилберт и Робин, заняв позиции, безусловно могли бы ее быстро прекратить и добиться победы, расстреляв противника стрелами из своих колчанов, потому что нападавшие, были вооружены только копьями; но Гилберт не хотел кровопролития и предпочел предоставить монаху-бенедиктинцу и Линкольну обстоятельно поколотить палками подручных барона Фиц-Олвина, а потому и он и Аллан Клер только отражали удары копий.
До сих пор кровь пролилась лишь от укусов собак, но тут Робину стало стыдно, что он бездействует, к тому же ему захотелось показать свое умение; поскольку Линкольн научил его владеть палкой не хуже, чем Гилберт — луком, он схватил древко алебарды, и его мулине присоединилось к устрашающим ударам его товарищей.
Не успел Робин подойти к дерущимся, как один из разбойников, огромный, как Геркулес, свирепо и насмешливо ухмыляясь, отступил на шаг перед Линкольном и монахом, обернулся к юноше и сделал выпад. Но Робин не потерял хладнокровия и, отразив удар копья, который мог бы проткнуть его насквозь, ответил на него прямым горизонтальным ударом в грудь, заставившим бандита отлететь к стене и сползти по ней.
— Браво, Робин! — закричал Линкольн.
— Тысяча смертей! — бормотал разбойник, отплевываясь сгустками крови; казалось, он был близок к смерти, но внезапно встал, выпрямился, притворно шатаясь, и вдруг, словно обезумев от ярости, кинулся на Робина с копьем наперевес.
Вот тут бы Робину и пришел конец, потому что вне себя от радости он забыл прикрыться палкой и копье мгновенно пронзило бы его, если бы старый Линкольн, внимательно следивший за всем происходящим, не уложил убийцу ударом палки по голове.
— Ну вот и четверо! — со смехом воскликнул он.
И правда, четверо бандитов уже валялись на полу; на ногах остались только трое, да и те скорее расположены были убежать, чем продолжать драку, потому что монах-бенедиктинец не переставал наносить им удар за ударом своей огромной кизиловой палкой.
До чего же он был великолепен, этот святой отец: капюшон его был откинут, рукава засучены до локтя, подол подоткнут выше колен, а на лице пылал румянец праведного гнева!
Сам архангел Гавриил, сражающийся с дьяволом, не был более грозен!
Пока герой-монах, рядом с которым находился восхищенный Линкольн, продолжал битву, Гилберте помощью Робина и Аллана надежно связал руки и ноги тем из побежденных, кто еще подавал признаки жизни. Двое запросили пощады, третий был мертв, главарь, на котором Ланс так и висел, вцепившись ему в горло, страшно хрипел и время от времени вопил, обращаясь к своим товарищам:
— Убейте, убейте, убейте собаку!
Но те его не слышали, а если бы и слышали, то не смогли бы прийти на помощь, потому что сами вынуждены были защищаться.
И все же один человек, о котором все уже забыли, попытался ему помочь. Тайфер, чуть не захлебнувшийся в чане и почти бездыханным положенный своими товарищами на землю под навес, придя в себя и услышав шум битвы, ползком добрался до места схватки и уже хотел ударить храброго Ланса ножом, но тут Робин заметил его, схватил за плечи, бросил навзничь, отнял у него кинжал, прижал коленом к полу и держал так, пока Гилберт и Аллан не связали ему руки и ноги.
Эта попытка Тайфера помочь главарю только ускорила его гибель: Ланс, как любая собака, у которой хотят отнять кость, впал в дикую ярость, его страшные клыки еще глубже вонзились в горло жертвы, разодрав сонную артерию и яремные вены, и злодей стал истекать кровью.
Злоумышленники увидели, что случилось с их главарем, но продолжали сопротивляться, хотя и недолго, к тому же старый Линкольн преградил им путь к отступлению, закрыв дверь и заложив засовы, и разбойники оказались в мышеловке.
— Пощады! — закричал один из них, оглушенный и измученный ударами кизиловой палки монаха.
— Нет тебе пощады! — крикнул в ответ монах. — Хотели, чтобы вас приласкали, так получайте!
— Пощады, Бога ради!
— Не будет никому из вас пощады!
И кизиловая палка беспрестанно опускалась, поднимаясь лишь затем, чтобы снова опуститься.
— Пощады, пощады! — наконец закричали все разбойники вместе.
— Сначала бросьте копья! Они бросили копья на землю.
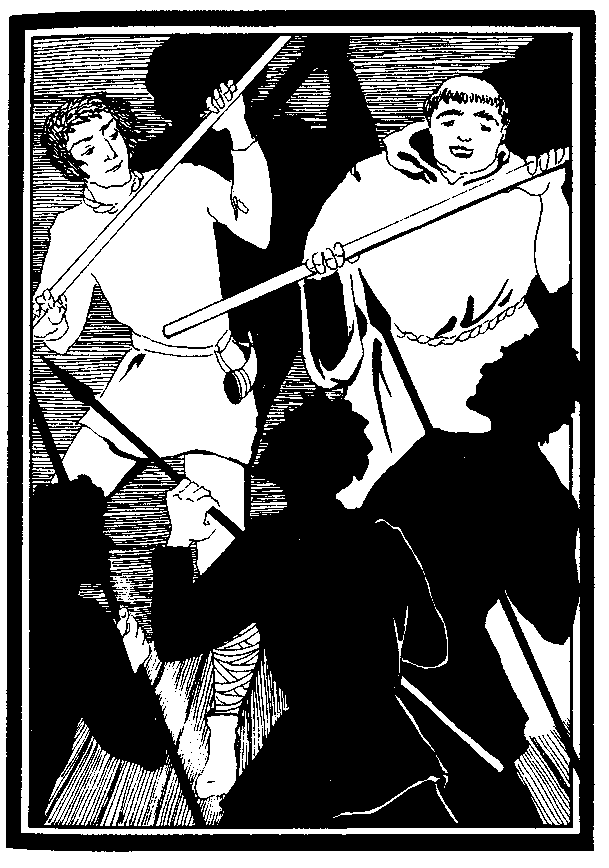
— Прекрасно! Осталось только вытереть палку.
«Вытереть палку» для веселого монаха значило хорошенько пройтись ею последний раз по спинам злодеев. Потом он скрестил на груди руки, и, опершись на палку, застыл в позе Геркулеса-победителя.
— Ну а теперь пусть вашу судьбу решает хозяин дома, — сказал он.
Гилберт Хэд волен был над жизнью и смертью этих негодяев; согласно нравам и обычаям того времени, когда каждый сам вершил правосудие, лесник мог предать их смерти, но он терпеть не мог проливать кровь, кроме как в случае законной самозащиты, а потому принял другое решение.
Шестерых раненых подняли, привели кое-как в чувство, стянули им за спиной руки и привязали к одной веревке, как галерных рабов. Потом Линкольн с помощью молодого монаха отвел их за несколько миль от дома в самую чащу леса и оставил там размышлять над своей судьбой.
Тайфера среди них не было. В ту минуту, когда Линкольн хотел привязать его к общей цепи, он неожиданно сказал:
— Гилберт Хэд, прикажи перенести меня на постель. Я должен тебе кое-что сказать перед смертью, Гилберт Хэд.
— Ну нет, неблагодарная ты собака; тебя скорее следовало бы повесить на первом попавшемся суку.
— Смилуйся, выслушай меня!
— Нет, ты пойдешь с другими.
— Выслушай меня, мне надо тебе рассказать нечто очень важное.
Гилберт хотел опять ответить отказом, но тут ему показалось, что губы Тайфера произнесли имя, пробудившее в нем множество горьких воспоминаний.
— Энни, он произнес имя Энни! — прошептал Гилберт, тотчас же склоняясь над раненым.
— Да, я произнес имя Энни, — слабым голосом прошептал умирающий.
— Ну так говори скорее, что ты о ней знаешь.
— Не здесь — наверху, когда мы останемся одни.
— Мы и так одни.
Гилберт и в самом деле так думал, потому что Робин и Аллан пошли рыть могилу неподалеку от дома, чтобы похоронить умершего, а Маргарет и Марианна еще не вышли из своего убежища.
— Нет, мы не одни, — сказал Тайфер, показывая на старого монаха, молившегося над трупом разбойника.
И, схватив Гилберта за руку, Тайфер попытался приподняться с земли, но тот поспешно оттолкнул его со словами:
— Не касайся меня, негодяй!
Несчастный упал на спину, но Гилберт, невольно поддавшийся чувству жалости, осторожно поднял его: одно имя Энни умерило его гнев.
— Гилберт, — заговорил снова Тайфер, и голос его становился все слабее и слабее, — я сделал тебе много зла, но я попытаюсь его искупить.
— А я не прошу тебя его искупить, я просто слушаю, что ты скажешь.
— Ах, Гилберт, умилосердись, не дай мне умереть… я задыхаюсь… верни меня к жизни, хоть ненадолго, я тебе все расскажу там, наверху!
Гилберт хотел было выйти и позвать Робина и Аллана, чтобы они помогли ему перенести умирающего на постель, но тот подумал, что лесник решил его оставить одного, сделал усилие, приподнялся и воскликнул:
— Ты что, не узнаешь меня, Гилберт?
— А как же, узнаю: ты проклятый убийца и предатель! — ответил Гилберт уже с порога.
— Я еще хуже, чем ты думаешь, Гилберт: я Ритсон, Роланд Ритсон, брат твоей жены.
— Ритсон! Ритсон! О Пресвятая Дева, Матерь Божья! Разве это возможно?
И Гилберт опустился на колени рядом с умирающим: тот бился в последних приступах агонии.
V
За столь бурным вечером наступила тихая и спокойная ночь. Молодой монах и Линкольн вернулись из лесу и занялись погребением убитого; Марианна и Маргарет спали, но и во сне им слышался шум битвы; Аллан, Робин, старый монах и присоединившиеся к ним молодой монах и Линкольн спали глубоко, как люди, нуждающиеся в восстановлении сил, и только Гилберт Хэд бодрствовал.
Он склонился над постелью Ритсона, который по-прежнему был без сознания, и в волнении ожидал, когда тот откроет глаза; он сомневался… сомневался в том, что этот человек с мертвенно-бледным лицом, постаревшим не столько от возраста, сколько от распутства и несущим печать порока в каждой своей черте, и есть тот красавец и весельчак Ритсон прежних лет, любимый брат Маргарет и жених несчастной Энни.
И, молитвенно сложив руки, Гилберт воскликнул:
— О Боже, сделай так, чтобы он еще не умер! Господь услышал его молитвы, и, когда взошло солнце и залило всю комнату светом, Ритсон, словно пробудившись от смертного сна, вздрогнул, покаянно вздохнул и, схватив руку Гилберта, поднес ее к губам и прошептал:
— Ты прощаешь меня?
— Сначала все расскажи мне, — ответил Гилберт, которому не терпелось прояснить обстоятельства смерти своей сестры Энни и узнать что-нибудь о происхождении Робина, — а уж потом я тебя прощу.
— И тогда я умру спокойно.
Ритсон собирался начать свой рассказ, но тут снизу донеслись молодые жизнерадостные голоса.
— Отец, ты спишь? — спросил Робин, стоя на нижней ступеньке лестницы.
— Нам пора отправляться в Ноттингем, если мы хотим вернуться сегодня вечером, — добавил Аллан Клер.
— Если вы, господа, ничего против не имеете, — громовым голосом произнес молодой монах-великан, — я составлю вам компанию, потому что меня призывает в Ноттингемский замок одно богоугодное дело.
— Так спуститесь, отец, мы хотим с вами попрощаться.
Гилберт спустился, но с некоторым сожалением: он боялся, что умирающий вот-вот испустит дух, и потому постарался поскорее подняться к нему снова и сделать так, чтобы его больше не беспокоили, ибо надеялся, что из торжественных признаний Ритсона несомненно почерпнет много важных для себя сведений.
Вот почему он тут же отпустил Робина, Аллана и монаха; Марианна и Маргарет отправились немного проводить их, чтобы развлечься утренней прогулкой по лесу; Линкольна Гилберт под каким-то предлогом послал в Мансфилд-Вуд-хауз, а отец Элдред воспользовался случаем посетить деревню. К концу дня все должны были собраться у лесника.
— Теперь мы одни, говори, я слушаю, — сказал Гилберт, садясь у изголовья постели Ритсона.
— Я не стану, братец, рассказывать вам обо всех преступлениях и чудовищных деяниях, какими я себя запятнал. Это был бы слишком долгий рассказ. Да и к чему вам знать все это? Ведь вы хотите знать всего лишь об Энни и о Робине, не так ли?
— Да. Но сначала расскажи о Робине, — ответил Гилберт, опасавшийся, что умирающий не успеет поведать ему обо всем.
— Вы знаете, что я покинул Мансфилд-Вудхауз двадцать три года тому назад, чтобы поступить на службу Филиппу Фиц-Уту, барону Бизенту. Этот титул мой хозяин получил от короля Генриха в благодарность за заслуги во время войны во Франции. Филипп Фиц-Ут был младший сын старого графа Хантингдона, который умер задолго до того, как я попал в их дом; состояние и титул он оставил своему старшему сыну Роберту Фиц-Уту.
Вскоре после того как Роберт получил это наследство, умерла родами его жена, и он сосредоточил всю свою любовь на наследнике, которого она оставила; это был слабый и болезненный ребенок, требовавший неусыпных забот и внимания, с трудом поддерживавших его жизнь. Граф Роберт, так и не утешившийся после смерти жены и отчаявшийся в будущем ребенка, позволил горю одолеть себя и скончался, препоручив брату Филиппу заботы о единственном наследнике рода.
Отныне над бароном Бизентом, Филиппом Фиц-Утом, тяготел великий долг. Но барон был преисполнен честолюбия; страстное желание приобрести новые титулы и огромное состояние заставили его забыть просьбы брата, и, поколебавшись несколько дней, он решил отделаться от ребенка, однако вскоре вынужден был отказаться от этого замысла: юный Роберт жил в окружении многочисленной челяди, лакеев, стражи; жители графства были ему преданы и не преминули бы возражать или даже взбунтоваться, если бы Филипп Фиц-Ут попробовал открыто лишить ребенка его прав.
Тогда он решил отложить это дело и возложить надежды на слабое здоровье наследника, которое, по мнению врачей, не выдержало бы, если бы юноше привили вкус к разгулу и тяжелым телесным упражнениям.
Вот с этой целью Филипп Фиц-Ут и взял меня к себе на службу. Граф Роберт приближался к своим шестнадцати годам; по подлым замыслам его дяди, я должен был подтолкнуть его к гибели всеми доступными способами — неосторожным падением, несчастным случаем, болезнью, — одним словом, сделать все, чтобы он как можно скорее умер, но не идти на убийство.
К стыду своему, должен признаться, славный мой Гилберт, что я, став совратителем и убийцей, ревностно исполнял поручение барона Бизента, хотя он и не мог следить, как я справлялся с этим делом, потому что король Генрих отправил его командовать войсками во Францию. Да простит мне Бог, я должен был бы воспользоваться его отсутствием, чтобы разрушить его злодейский замысел, но я, напротив, изо всех сил старался получить награду, которую барон обещал выдан, мне в тот лень, когда он ушаст о смерти Роберта.
Но, подрастая, Роберт становился все сильнее и сильнее. Усталости он не знал; напрасно мы день и ночь проводили в разъездах, причем в любую погоду, по лесам и полям, заглядывая во все кабаки и прочие злачные места: часто я первый готов был просить пощады. Самолюбие мое от этого страдало, и, если бы барон написал мне хоть одно-единственное двусмысленное слово, прояви!! удивление по поводу столь прекрасного и несокрушимою здоровья племянника, я не задумываясь отравил бы Роберта каким-нибудь медленнодействующим ядом, чтобы выполнить свою задачу.
А задача эта становилась день ото дня все труднее, и я понапрасну ломал голову в поисках какого-нибудь естественного способа поколебать удивительную выносливость моего воспитанника; мои собственные силы подходили к концу, и я готов был уже расторгнуть сделку с бароном Бизентом, как вдруг мне показалось, что в поведении и в лице юного графа появились кое-какие изменения; сначала они были едва приметны, но потом стали отчетливо видны, существенны и значительны. Он потерял обычную живость и жизнерадостность, целыми часами сидел печальный и задумчивый, а то внезапно останавливал коня, прервав погоню, или прогуливался где-нибудь в одиночестве как раз тогда, когда собаки брали зверя; он перестал есть, пить, спать, избегал женщин, а со мной заговаривал не чаще одного-двух раз в день.
Не надеясь на его откровенность, я хотел проследить за ним, чтобы узнать причину такой разительной перемены, но это было нелегко, потому что он постоянно отыскивал предлоги удалить меня от себя.
Однажды во время охоты, преследуя оленя, мы оказались на опушке хантингдонского леса; там граф остановился и, отдохнув минуту, отрывисто сказал мне:
«Роланд, подождите меня здесь под дубом, я вернусь через несколько часов».
«Хорошо, милорд», — ответил я ему.
И граф углубился в лесную чащу. Я тут же привязал собак к дереву и кинулся за ним, идя по его следу в кустарниках, но, как я ни спешил, он успел уйти, а я долго бродил по лесу, так что в конце концов заблудился.
Сильно раздосадованный тем, что упустил случай приоткрыть завесу таинственности, которой окружил себя Роберт, я пытался отыскать дерево, под которым должен был его ждать, как вдруг неподалеку, за купой невысоких деревьев, услышал нежный девичий голос… Я остановился, осторожно раздвинул ветки и увидел, что мой хозяин сидит рядом с красивой девушкой лет шестнадцати-семнадцати: они улыбались и разговаривали, а руки их сплелись.
«Ага! — сказал я себе. — Вот новость, которой господин барон Бизент никак не ожидает! Роберт влюблен, — вот откуда бессонница, печаль, отсутствие аппетита и, самое главное, прогулки в одиночестве».
Я прислушался к тому, о чем говорили влюбленные, надеясь узнать какую-нибудь тайну, но не уловил ничего, кроме того, что обычно говорится в подобных обстоятельствах.
День клонился к вечеру; Роберт встал, взял девушку под руку и проводил ее до опушки, на которой ее ждал слуга с двумя лошадьми; я следил за ними издалека, но там они расстались, и мой хозяин поспешил к месту, где он оставил меня.
Я успел вернуться туда раньше него; когда он появился, собаки были отвязаны и я во всю силу своих легких трубил в рог.
«Почему ты так громко трубишь?» — спросил он.
«Солнце село, господин граф, — ответил я, — и мне стало страшно, как бы вы не заблудились в лесу».
«И вовсе я не заблудился, — холодно ответил он. — Возвращаемся в замок».
Свидания Роберта с его возлюбленной повторялись в течение долгого времени. Чтобы их облегчить, Роберт доверил мне свою тайну, а я рассказал об этом барону Бизенту, но только после того, как выяснил все о девушке. Мисс Лора принадлежала к менее знатной фамилии, чем Роберт, но все равно такой союз был достойный.
Барон велел мне во что бы то ни стало помешать женитьбе Роберта на этой самой мисс Лоре, вплоть до того, что, если потребуется, я должен был принести ее в жертву.
Приказ показался мне очень жестоким, очень опасным, а главное — трудноисполнимым; я хотел было отказаться от него, но как я мог это сделать, если я запродался барону Бизенту душой и телом?
Я уже и не знал, ни на что мне решиться, ни у какого дьявола просить совета, как вдруг Роберт, доверчивый и нескрытный, как всякий счастливый человек, рассказал мне, что, желая быть любимым ради себя самого, он скрыл от мисс Лоры, кто он есть.
Мисс Лора думала, что он сын лесника, но, несмотря на его низкое происхождение, согласилась отдать ему свою руку.
Роберт снял небольшой домик в маленьком городке Лукейс, в Ноттингемшире; там он со своей молодой женой собирался укрыться от нескромных взглядов, а чтобы никто ни о чем не догадался, он, уезжая из Хантингдонского замка, объявил, что едет на несколько месяцев в Нормандию к своему дяде барону Бизенту.
Планы его исполнились великолепно: некий священник тайно обвенчал влюбленных; единственным свидетелем их венчания был я, и мы все отправились жить в Лукейс, в снятый графом домик.
И потекли дни, полные счастья, вопреки настойчивым приказам барона, которого я держал в курсе всех событий и который угрожал мне своим гневом за то, что я не воспрепятствовал этому союзу… Ныне я благодарю Господа за то, что не смог этого сделать.
Прошел год безоблачного счастья, и Лора родила сына, но это стоило ей жизни.
— И этот сын, — с беспокойством спросил Гилберт, — это и есть?..
— Да, это ребенок, которого мы отдали вам на попечение пятнадцать лет тому назад.
— Значит, Робин должен носить имя графа Хантингдон?
— Да, Робин — граф, Робин…
И Ритсон, возбуждение и столь долгую речь которого поддерживали угрызения совести, казалось был готов, как только Гилберт прервал его, вот-вот испустить последний вздох.
— Ах, так мой приемный сын — граф, — с гордостью повторял старый Гилберт Хэд, — граф Хантингдон! Досказывай же, брат, досказывай мне историю моего Робина.
Ритсон, собрав последние силы, продолжал:
— Роберт, обезумев от горя, остался глух ко всем утешениям, потерял мужество и серьезно заболел.
Барон Бизент, недовольный тем, как я выполняю свои обязанности, сообщил о том, что он скоро вернется; я думал угодить ему и приказал похоронить графиню Лору в монастыре по соседству, не открывая никому, что она была супругой графа Роберта, а ребенка отдал кормилице, в семью одной знакомой фермерши. Пока я занимался всем этим, в Англию вернулся барон Бизент; полагая благоприятным для осуществления своих замыслов не разоблачать выдумку о поездке Роберта во Францию, он велел перевезти графа в замок под предлогом, что тот заболел в пути.
Судьба благоволила барону Бизенту; он, наконец, достиг желанной цели и видел себя уже наследником титула и состояния графов Хантингдонов, потому что Роберт умирал… За несколько минут до своей кончины несчастный молодой человек призвал барона к своему изголовью, рассказал ему о своей женитьбе на Лоре и заставил его поклясться на Евангелии, что он воспитает сироту. Дядя поклялся… Но не успело еще остыть тело бедного Роберта, как барон позвал меня в ту комнату, где лежал покойный, и и свою очередь заставил поклясться на Евангелии, что до конца его дней я никому не расскажу ни о женитьбе Роберта, ни о рождении его сына, ни об обстоятельствах его смерти.
Сердце мое разрывалось; вспоминая своего хозяина, а вернее, воспитанника и товарища, такого мягкого, доброго и щедрого и ко мне, и ко всем окружающим, я плакал, но вынужден был повиноваться барону Бизенту.
И я поклялся, после чего мы привезли к вам лишенного наследства сироту.
— А где же этот барон Бизент, незаконно присвоивший себе титул графа Хантингдона? — спросил Гилберт.
— Он утонул во время кораблекрушения у берегов Франции; я сопровождал его тогда, как и при поездке к вам, и привез в Англию известие о его гибели.
— И кто же ему наследовал?
— Богатый аббат Рамсей, Уильям Фиц-Ут.
— Как? Значит наследство моего сына Робина присвоил какой-то аббат?
— Да, и этот аббат взял меня к себе на службу, а несколько дней тому назад я поссорился с одним из его слуг и он без всяких оснований прогнал меня. В душе моей закипела ярость, и, уходя от него, я поклялся ему отомстить… И хотя смерть не даст мне сделать это самому, я все же буду отомщен, потому что, насколько я знаю Гилберта Хэда, он не позволит, чтобы Робин так и оставался лишенным наследства.
— Да, он не останется лишенным наследства, — заявил Гилберт, — или я сложу на этом голову. А кто его родные со стороны матери? Ведь в их интересах, чтобы Робина признали графом Хантингдоном?
— Сэр Гай Гэмвелл-Холл — отец графини Лоры.
— Как?! Тот самый старый сэр Гай Гэмвелл-Холл, который живет со своими шестью могучими сыновьями, силачами-охотниками, на другом краю Шервудского леса?
— Да, брат.
— Ну что ж! С его помощью у меня достанет силы выдворить из Хантингдонского замка господина аббата, хотя он и зовется аббатом Рамсеем, богатым и могущественным бароном Бротоном.
— Брат, значит, я умру отомщенным? — спросил Ритсон, едва шевеля языком.
— Клянусь моей головой и правой рукой, что, если Господь ласт мне жизни, Робин будет графом Хантингдоном, наперекор всем аббатам Англии… хотя их тут и немало.
— Спасибо! Этим я искуплю хоть часть своей вины.
Ритсон был и агонии, но время от времени силы возвращались к нему и он делал новые признания. Он еще не все рассказал — то ли потому, что ему было стыдно, то ли потому, что предсмертные муки затемняли его память. Он долго хрипел, а потом сказал:
— Ах, я забыл рассказать еще что-то важное… очень важное…
— Говори, — сказал Гилберт, поддерживая его голову, — говори!
— Этот рыцарь и молодая дама, которых ты приютил…
— Так что?
— Я хотел их убить. Вчера… барон Фиц-Олвин заплатил мне за это, а из опасений, что я упущу их, послал еще людей, моих сообщников, которых вы поколотили вчера вечером. Я не знаю, почему барон покушается на жизнь этих двоих… но предупреди их от моего имени, чтобы они поостереглись приближаться к Ноттингемскому замку.
Гилберт вздрогнул, подумав о том, что Аллан и Робин отправились в Ноттингем, но было уже поздно предупредить их от опасности.
— Ритсон, — сказал он, — тут неподалеку есть монах-бенедиктинец; хочешь, я пойду за ним, и он примирит тебя с Богом?
— Нет, я проклят, проклят, да он и не успеет, я умираю.
— Мужайся, брат.
— Я умираю, Гилберт, и, если ты меня простил, обещай похоронить меня между дубом и буком, которые растут на том месте, где дорога сворачивает к Мансфилд-Вудхаузу; вырой мне могилу там, обещаешь?
— Обещаю.
— Спасибо, добрый Гилберт…
Затем Ритсон, ломая в отчаянии руки, добавил:
— Ах, ты еще не обо всех моих преступлениях знаешь! Мне нужно признаться во всем… но, если я признаюсь во всем, ты все равно обещаешь похоронить меня там, где я просил?
— Все равно обещаю.
— Гилберт Хэд! У тебя была сестра! Ты помнишь об этом?
— О! — воскликнул Гилберт, побледнев и судорожно сжав руки. — Помню ли я? Что ты можешь рассказать о моей бедной сестре, пропавшей в лесу: ее или похитили разбойники или растерзали волки. Ох, Энни, нежная, прекрасная моя Энни!
По телу Ритсона пробежала предсмертная судорога, и он еле слышно заговорил:
— Ты, Гилберт, любил Маргарет, мою сестру, а я любил твою, я любил ее безумно, исступленно; никто из нас и подумать не мог, что я так ее любил. И вот однажды я встретил ее в лесу и забыл о том, что честный человек обязан уважать девушку, на которой хочет жениться. Энни с презрением оттолкнула меня и поклялась, что никогда мне не простит мою вину… Я умолял ее о прощении, валялся перед ней на коленях, грозился умереть… Она сжалилась, и там, где я просил тебя похоронить меня, под теми деревьями, мы дали клятву любить друг друга вечно… А несколько дней спустя я недостойно и низко обманул ее… один из моих друзей, переодевшись священником, тайно обвенчал нас.
Он склонился над постелью Ритсона, который по-прежнему был без сознания, и в волнении ожидал, когда тот откроет глаза; он сомневался… сомневался в том, что этот человек с мертвенно-бледным лицом, постаревшим не столько от возраста, сколько от распутства и несущим печать порока в каждой своей черте, и есть тот красавец и весельчак Ритсон прежних лет, любимый брат Маргарет и жених несчастной Энни.
И, молитвенно сложив руки, Гилберт воскликнул:
— О Боже, сделай так, чтобы он еще не умер! Господь услышал его молитвы, и, когда взошло солнце и залило всю комнату светом, Ритсон, словно пробудившись от смертного сна, вздрогнул, покаянно вздохнул и, схватив руку Гилберта, поднес ее к губам и прошептал:
— Ты прощаешь меня?
— Сначала все расскажи мне, — ответил Гилберт, которому не терпелось прояснить обстоятельства смерти своей сестры Энни и узнать что-нибудь о происхождении Робина, — а уж потом я тебя прощу.
— И тогда я умру спокойно.
Ритсон собирался начать свой рассказ, но тут снизу донеслись молодые жизнерадостные голоса.
— Отец, ты спишь? — спросил Робин, стоя на нижней ступеньке лестницы.
— Нам пора отправляться в Ноттингем, если мы хотим вернуться сегодня вечером, — добавил Аллан Клер.
— Если вы, господа, ничего против не имеете, — громовым голосом произнес молодой монах-великан, — я составлю вам компанию, потому что меня призывает в Ноттингемский замок одно богоугодное дело.
— Так спуститесь, отец, мы хотим с вами попрощаться.
Гилберт спустился, но с некоторым сожалением: он боялся, что умирающий вот-вот испустит дух, и потому постарался поскорее подняться к нему снова и сделать так, чтобы его больше не беспокоили, ибо надеялся, что из торжественных признаний Ритсона несомненно почерпнет много важных для себя сведений.
Вот почему он тут же отпустил Робина, Аллана и монаха; Марианна и Маргарет отправились немного проводить их, чтобы развлечься утренней прогулкой по лесу; Линкольна Гилберт под каким-то предлогом послал в Мансфилд-Вуд-хауз, а отец Элдред воспользовался случаем посетить деревню. К концу дня все должны были собраться у лесника.
— Теперь мы одни, говори, я слушаю, — сказал Гилберт, садясь у изголовья постели Ритсона.
— Я не стану, братец, рассказывать вам обо всех преступлениях и чудовищных деяниях, какими я себя запятнал. Это был бы слишком долгий рассказ. Да и к чему вам знать все это? Ведь вы хотите знать всего лишь об Энни и о Робине, не так ли?
— Да. Но сначала расскажи о Робине, — ответил Гилберт, опасавшийся, что умирающий не успеет поведать ему обо всем.
— Вы знаете, что я покинул Мансфилд-Вудхауз двадцать три года тому назад, чтобы поступить на службу Филиппу Фиц-Уту, барону Бизенту. Этот титул мой хозяин получил от короля Генриха в благодарность за заслуги во время войны во Франции. Филипп Фиц-Ут был младший сын старого графа Хантингдона, который умер задолго до того, как я попал в их дом; состояние и титул он оставил своему старшему сыну Роберту Фиц-Уту.
Вскоре после того как Роберт получил это наследство, умерла родами его жена, и он сосредоточил всю свою любовь на наследнике, которого она оставила; это был слабый и болезненный ребенок, требовавший неусыпных забот и внимания, с трудом поддерживавших его жизнь. Граф Роберт, так и не утешившийся после смерти жены и отчаявшийся в будущем ребенка, позволил горю одолеть себя и скончался, препоручив брату Филиппу заботы о единственном наследнике рода.
Отныне над бароном Бизентом, Филиппом Фиц-Утом, тяготел великий долг. Но барон был преисполнен честолюбия; страстное желание приобрести новые титулы и огромное состояние заставили его забыть просьбы брата, и, поколебавшись несколько дней, он решил отделаться от ребенка, однако вскоре вынужден был отказаться от этого замысла: юный Роберт жил в окружении многочисленной челяди, лакеев, стражи; жители графства были ему преданы и не преминули бы возражать или даже взбунтоваться, если бы Филипп Фиц-Ут попробовал открыто лишить ребенка его прав.
Тогда он решил отложить это дело и возложить надежды на слабое здоровье наследника, которое, по мнению врачей, не выдержало бы, если бы юноше привили вкус к разгулу и тяжелым телесным упражнениям.
Вот с этой целью Филипп Фиц-Ут и взял меня к себе на службу. Граф Роберт приближался к своим шестнадцати годам; по подлым замыслам его дяди, я должен был подтолкнуть его к гибели всеми доступными способами — неосторожным падением, несчастным случаем, болезнью, — одним словом, сделать все, чтобы он как можно скорее умер, но не идти на убийство.
К стыду своему, должен признаться, славный мой Гилберт, что я, став совратителем и убийцей, ревностно исполнял поручение барона Бизента, хотя он и не мог следить, как я справлялся с этим делом, потому что король Генрих отправил его командовать войсками во Францию. Да простит мне Бог, я должен был бы воспользоваться его отсутствием, чтобы разрушить его злодейский замысел, но я, напротив, изо всех сил старался получить награду, которую барон обещал выдан, мне в тот лень, когда он ушаст о смерти Роберта.
Но, подрастая, Роберт становился все сильнее и сильнее. Усталости он не знал; напрасно мы день и ночь проводили в разъездах, причем в любую погоду, по лесам и полям, заглядывая во все кабаки и прочие злачные места: часто я первый готов был просить пощады. Самолюбие мое от этого страдало, и, если бы барон написал мне хоть одно-единственное двусмысленное слово, прояви!! удивление по поводу столь прекрасного и несокрушимою здоровья племянника, я не задумываясь отравил бы Роберта каким-нибудь медленнодействующим ядом, чтобы выполнить свою задачу.
А задача эта становилась день ото дня все труднее, и я понапрасну ломал голову в поисках какого-нибудь естественного способа поколебать удивительную выносливость моего воспитанника; мои собственные силы подходили к концу, и я готов был уже расторгнуть сделку с бароном Бизентом, как вдруг мне показалось, что в поведении и в лице юного графа появились кое-какие изменения; сначала они были едва приметны, но потом стали отчетливо видны, существенны и значительны. Он потерял обычную живость и жизнерадостность, целыми часами сидел печальный и задумчивый, а то внезапно останавливал коня, прервав погоню, или прогуливался где-нибудь в одиночестве как раз тогда, когда собаки брали зверя; он перестал есть, пить, спать, избегал женщин, а со мной заговаривал не чаще одного-двух раз в день.
Не надеясь на его откровенность, я хотел проследить за ним, чтобы узнать причину такой разительной перемены, но это было нелегко, потому что он постоянно отыскивал предлоги удалить меня от себя.
Однажды во время охоты, преследуя оленя, мы оказались на опушке хантингдонского леса; там граф остановился и, отдохнув минуту, отрывисто сказал мне:
«Роланд, подождите меня здесь под дубом, я вернусь через несколько часов».
«Хорошо, милорд», — ответил я ему.
И граф углубился в лесную чащу. Я тут же привязал собак к дереву и кинулся за ним, идя по его следу в кустарниках, но, как я ни спешил, он успел уйти, а я долго бродил по лесу, так что в конце концов заблудился.
Сильно раздосадованный тем, что упустил случай приоткрыть завесу таинственности, которой окружил себя Роберт, я пытался отыскать дерево, под которым должен был его ждать, как вдруг неподалеку, за купой невысоких деревьев, услышал нежный девичий голос… Я остановился, осторожно раздвинул ветки и увидел, что мой хозяин сидит рядом с красивой девушкой лет шестнадцати-семнадцати: они улыбались и разговаривали, а руки их сплелись.
«Ага! — сказал я себе. — Вот новость, которой господин барон Бизент никак не ожидает! Роберт влюблен, — вот откуда бессонница, печаль, отсутствие аппетита и, самое главное, прогулки в одиночестве».
Я прислушался к тому, о чем говорили влюбленные, надеясь узнать какую-нибудь тайну, но не уловил ничего, кроме того, что обычно говорится в подобных обстоятельствах.
День клонился к вечеру; Роберт встал, взял девушку под руку и проводил ее до опушки, на которой ее ждал слуга с двумя лошадьми; я следил за ними издалека, но там они расстались, и мой хозяин поспешил к месту, где он оставил меня.
Я успел вернуться туда раньше него; когда он появился, собаки были отвязаны и я во всю силу своих легких трубил в рог.
«Почему ты так громко трубишь?» — спросил он.
«Солнце село, господин граф, — ответил я, — и мне стало страшно, как бы вы не заблудились в лесу».
«И вовсе я не заблудился, — холодно ответил он. — Возвращаемся в замок».
Свидания Роберта с его возлюбленной повторялись в течение долгого времени. Чтобы их облегчить, Роберт доверил мне свою тайну, а я рассказал об этом барону Бизенту, но только после того, как выяснил все о девушке. Мисс Лора принадлежала к менее знатной фамилии, чем Роберт, но все равно такой союз был достойный.
Барон велел мне во что бы то ни стало помешать женитьбе Роберта на этой самой мисс Лоре, вплоть до того, что, если потребуется, я должен был принести ее в жертву.
Приказ показался мне очень жестоким, очень опасным, а главное — трудноисполнимым; я хотел было отказаться от него, но как я мог это сделать, если я запродался барону Бизенту душой и телом?
Я уже и не знал, ни на что мне решиться, ни у какого дьявола просить совета, как вдруг Роберт, доверчивый и нескрытный, как всякий счастливый человек, рассказал мне, что, желая быть любимым ради себя самого, он скрыл от мисс Лоры, кто он есть.
Мисс Лора думала, что он сын лесника, но, несмотря на его низкое происхождение, согласилась отдать ему свою руку.
Роберт снял небольшой домик в маленьком городке Лукейс, в Ноттингемшире; там он со своей молодой женой собирался укрыться от нескромных взглядов, а чтобы никто ни о чем не догадался, он, уезжая из Хантингдонского замка, объявил, что едет на несколько месяцев в Нормандию к своему дяде барону Бизенту.
Планы его исполнились великолепно: некий священник тайно обвенчал влюбленных; единственным свидетелем их венчания был я, и мы все отправились жить в Лукейс, в снятый графом домик.
И потекли дни, полные счастья, вопреки настойчивым приказам барона, которого я держал в курсе всех событий и который угрожал мне своим гневом за то, что я не воспрепятствовал этому союзу… Ныне я благодарю Господа за то, что не смог этого сделать.
Прошел год безоблачного счастья, и Лора родила сына, но это стоило ей жизни.
— И этот сын, — с беспокойством спросил Гилберт, — это и есть?..
— Да, это ребенок, которого мы отдали вам на попечение пятнадцать лет тому назад.
— Значит, Робин должен носить имя графа Хантингдон?
— Да, Робин — граф, Робин…
И Ритсон, возбуждение и столь долгую речь которого поддерживали угрызения совести, казалось был готов, как только Гилберт прервал его, вот-вот испустить последний вздох.
— Ах, так мой приемный сын — граф, — с гордостью повторял старый Гилберт Хэд, — граф Хантингдон! Досказывай же, брат, досказывай мне историю моего Робина.
Ритсон, собрав последние силы, продолжал:
— Роберт, обезумев от горя, остался глух ко всем утешениям, потерял мужество и серьезно заболел.
Барон Бизент, недовольный тем, как я выполняю свои обязанности, сообщил о том, что он скоро вернется; я думал угодить ему и приказал похоронить графиню Лору в монастыре по соседству, не открывая никому, что она была супругой графа Роберта, а ребенка отдал кормилице, в семью одной знакомой фермерши. Пока я занимался всем этим, в Англию вернулся барон Бизент; полагая благоприятным для осуществления своих замыслов не разоблачать выдумку о поездке Роберта во Францию, он велел перевезти графа в замок под предлогом, что тот заболел в пути.
Судьба благоволила барону Бизенту; он, наконец, достиг желанной цели и видел себя уже наследником титула и состояния графов Хантингдонов, потому что Роберт умирал… За несколько минут до своей кончины несчастный молодой человек призвал барона к своему изголовью, рассказал ему о своей женитьбе на Лоре и заставил его поклясться на Евангелии, что он воспитает сироту. Дядя поклялся… Но не успело еще остыть тело бедного Роберта, как барон позвал меня в ту комнату, где лежал покойный, и и свою очередь заставил поклясться на Евангелии, что до конца его дней я никому не расскажу ни о женитьбе Роберта, ни о рождении его сына, ни об обстоятельствах его смерти.
Сердце мое разрывалось; вспоминая своего хозяина, а вернее, воспитанника и товарища, такого мягкого, доброго и щедрого и ко мне, и ко всем окружающим, я плакал, но вынужден был повиноваться барону Бизенту.
И я поклялся, после чего мы привезли к вам лишенного наследства сироту.
— А где же этот барон Бизент, незаконно присвоивший себе титул графа Хантингдона? — спросил Гилберт.
— Он утонул во время кораблекрушения у берегов Франции; я сопровождал его тогда, как и при поездке к вам, и привез в Англию известие о его гибели.
— И кто же ему наследовал?
— Богатый аббат Рамсей, Уильям Фиц-Ут.
— Как? Значит наследство моего сына Робина присвоил какой-то аббат?
— Да, и этот аббат взял меня к себе на службу, а несколько дней тому назад я поссорился с одним из его слуг и он без всяких оснований прогнал меня. В душе моей закипела ярость, и, уходя от него, я поклялся ему отомстить… И хотя смерть не даст мне сделать это самому, я все же буду отомщен, потому что, насколько я знаю Гилберта Хэда, он не позволит, чтобы Робин так и оставался лишенным наследства.
— Да, он не останется лишенным наследства, — заявил Гилберт, — или я сложу на этом голову. А кто его родные со стороны матери? Ведь в их интересах, чтобы Робина признали графом Хантингдоном?
— Сэр Гай Гэмвелл-Холл — отец графини Лоры.
— Как?! Тот самый старый сэр Гай Гэмвелл-Холл, который живет со своими шестью могучими сыновьями, силачами-охотниками, на другом краю Шервудского леса?
— Да, брат.
— Ну что ж! С его помощью у меня достанет силы выдворить из Хантингдонского замка господина аббата, хотя он и зовется аббатом Рамсеем, богатым и могущественным бароном Бротоном.
— Брат, значит, я умру отомщенным? — спросил Ритсон, едва шевеля языком.
— Клянусь моей головой и правой рукой, что, если Господь ласт мне жизни, Робин будет графом Хантингдоном, наперекор всем аббатам Англии… хотя их тут и немало.
— Спасибо! Этим я искуплю хоть часть своей вины.
Ритсон был и агонии, но время от времени силы возвращались к нему и он делал новые признания. Он еще не все рассказал — то ли потому, что ему было стыдно, то ли потому, что предсмертные муки затемняли его память. Он долго хрипел, а потом сказал:
— Ах, я забыл рассказать еще что-то важное… очень важное…
— Говори, — сказал Гилберт, поддерживая его голову, — говори!
— Этот рыцарь и молодая дама, которых ты приютил…
— Так что?
— Я хотел их убить. Вчера… барон Фиц-Олвин заплатил мне за это, а из опасений, что я упущу их, послал еще людей, моих сообщников, которых вы поколотили вчера вечером. Я не знаю, почему барон покушается на жизнь этих двоих… но предупреди их от моего имени, чтобы они поостереглись приближаться к Ноттингемскому замку.
Гилберт вздрогнул, подумав о том, что Аллан и Робин отправились в Ноттингем, но было уже поздно предупредить их от опасности.
— Ритсон, — сказал он, — тут неподалеку есть монах-бенедиктинец; хочешь, я пойду за ним, и он примирит тебя с Богом?
— Нет, я проклят, проклят, да он и не успеет, я умираю.
— Мужайся, брат.
— Я умираю, Гилберт, и, если ты меня простил, обещай похоронить меня между дубом и буком, которые растут на том месте, где дорога сворачивает к Мансфилд-Вудхаузу; вырой мне могилу там, обещаешь?
— Обещаю.
— Спасибо, добрый Гилберт…
Затем Ритсон, ломая в отчаянии руки, добавил:
— Ах, ты еще не обо всех моих преступлениях знаешь! Мне нужно признаться во всем… но, если я признаюсь во всем, ты все равно обещаешь похоронить меня там, где я просил?
— Все равно обещаю.
— Гилберт Хэд! У тебя была сестра! Ты помнишь об этом?
— О! — воскликнул Гилберт, побледнев и судорожно сжав руки. — Помню ли я? Что ты можешь рассказать о моей бедной сестре, пропавшей в лесу: ее или похитили разбойники или растерзали волки. Ох, Энни, нежная, прекрасная моя Энни!
По телу Ритсона пробежала предсмертная судорога, и он еле слышно заговорил:
— Ты, Гилберт, любил Маргарет, мою сестру, а я любил твою, я любил ее безумно, исступленно; никто из нас и подумать не мог, что я так ее любил. И вот однажды я встретил ее в лесу и забыл о том, что честный человек обязан уважать девушку, на которой хочет жениться. Энни с презрением оттолкнула меня и поклялась, что никогда мне не простит мою вину… Я умолял ее о прощении, валялся перед ней на коленях, грозился умереть… Она сжалилась, и там, где я просил тебя похоронить меня, под теми деревьями, мы дали клятву любить друг друга вечно… А несколько дней спустя я недостойно и низко обманул ее… один из моих друзей, переодевшись священником, тайно обвенчал нас.
