Страница:
Могила уже была наполовину вырыта, когда Уилл, с натянутым луком и кинжалом в руках стороживший своих друзей, подошел и сказал на ухо своему двоюродному брату:
— Не худо было бы сделать яму побольше и похоронить в ней за компанию еще одного человека.
— Что это значит, братец?
— Человек, который утверждал, что на него волки напали, и которого мы оставили в плохом состоянии в нескольких шагах отсюда, умер; подойдите, пните его ногой, и вы увидите, что он не застонет.
Оба разбойника были уже похоронены, оставалось еще немного забросать могилу землей, когда в третий раз над лесом пронесся жалобный вой собаки.
— Ланс, бедный мой Ланс, теперь я займусь тобой! — воскликнул лесник. — Не оказав тебе помощи, я домой не вернусь.
Как и сказала Мод, разъяренный барон в сопровождении шести солдат явился в камеру Аллана Клера. Пленника в ней не было!
— А-а! — сказал барон, разражаясь тигриным смехом (если только тигры умеют смеяться). — Вот как здесь выполняют мои приказы! Я просто в восторге! К чему мне тогда каменная башня, к чему тюремщики? Клянусь святой Гризельдой, отныне я буду осуществлять свое правосудие без их помощи, а пленников буду запирать в клетку, где моя дочь держит птиц… Эгберт Ланнер, тюремщик, где ты?
— Вот он, ваша светлость, — ответил один из солдат, — я крепко держу его, а не то он бы уже давно убежал.
— Если бы он убежал, я бы повесил тебя вместо него… Подойди ко мне, Эгберт. Видишь дверь? Она заперта. Видишь оконце этой камеры? Оно очень узкое. Так вот, объясни мне, каким образом пленник, не такой худой, чтобы пролезть в это оконце, и не бесплотный, как воздух, чтобы улетучиться сквозь замочную скважину, каким образом, объясни мне, он отсюда исчез?
Эгберт молчал: он был ни жив ни мертв.
— Ответь мне, какая подлая корысть тебя заставила помочь бежать этому преступнику? Я спрашиваю тебя без гнева, и ответь мне без страха. Я добр и справедлив, и, быть может, если ты признаешь свою вину, я прощу тебя.
Напрасно барон разыгрывал добродушие. Эгберт по опыту знал, что верить в его искренность не следует, и, по-прежнему полумертвый от страха, продолжал молчать.
— А! Глупые рабы! — неожиданно воскликнул Фиц-Олвин. — Спорю, что ни одному из вас и в голову не пришло предупредить привратника о том, что произошло! Живо, живо, пусть кто-нибудь из вас передаст Герберту Линдсею от моего имени приказ поднять мост и запереть все ворота.
Один из солдат тотчас же побежал передавать приказ, но заблудился в темных переходах тюрьмы и свалился вниз головой в открытый люк подземелья; он разбился насмерть, но этого несчастного случая никто не заметил, и поэтому беглецы спокойно вышли из замка.
— Милорд, — сказал один из солдат, — когда мы сюда шли, мне показалось, что в конце галереи, ведущей в часовню, я видел свет факела.
— И ты до сих пор ничего мне не говорил! — вскричал барон. — Ох, эти негодяи поклялись изжарить меня на медленном огне! Но они умрут раньше меня, — добавил он, задыхаясь от гнева, — да, вы умрете раньше меня, и я придумаю для вас ужасную казнь, если не поймаю этого нечестивца, вместо которого для начала будет повешен Эгберт.
Произнеся это, Фиц-Олвин вырвал факел из рук одного из солдат и бросился в часовню. Кристабель стояла перед могилой матери и, казалось, целиком была погружена в молитву.
— Обыщите все углы и закоулки и приведите его живым или мертвым! — закричал барон.
Солдаты повиновались.
— А вы что здесь делаете, дочь моя?
— Молюсь, отец.
— И конечно, молитесь за этого нечестивца, заслуживающего виселицы?!
— Я молюсь за вас у могилы матери, разве вы не видите?
— Где ваш сообщник?
— Какой сообщник?
— Этот предатель, Аллан.
— Не знаю.
— Вы меня обманываете, он здесь.
— Я никогда вас не обманывала, отец.
Барон внимательно всмотрелся в бледное лицо дочери.
— Ни того ни другого не нашли, — сказал подошедший солдат.
— Ни того ни другого? — повторил Фиц-Олвин, начавший догадываться о бегстве Робина.
— Ну да, милорд, ни того ни другого. А разве не о двух убежавших пленниках шла речь?
Придя в полное отчаяние оттого, что от него ускользнул Робин, наглый Робин, который осмелился перечить ему и от которого он надеялся пытками вырвать достоверные сведения об Аллане, барон опустил свою широкую ладонь на плечо проговорившегося солдата и сказал:
— Ни того ни другого? Объясни мне, что значат эти слова?
Солдат задрожал под страшной тяжестью этой руки, не зная, что ответить.
— Для начала, кто ты есть?
— Если вашей светлости угодно, меня зовут Гаспар Стейнкоф; я стоял на часах на валу и…
— Презренный! Так это ты стоял на часах у двери камеры этого шервудского волчонка? Не говори мне, что это не ты его упустил, или я заколю тебя кинжалом!
Мы воздержимся от дальнейших описаний различных оттенков гнева барона: нашим читателям достаточно знать, что гнев стал для него привычкой, потребностью и, перестав гневаться, он перестал бы дышать.
— Итак, ты признаешься, что он бежал, когда ты стоял на часах на восточном валу? — помолчав, продолжал барон. — Ну, отвечай!
— Милорд, вы же угрожали заколоть меня, если я в этом признаюсь, — отвечал бедняга.
— И исполню свою угрозу.
— Тогда я буду молчать.
Барон занес над несчастным кинжал, но леди Кристабель удержала его руку, воскликнув:
— О, заклинаю вас, отец, не пятнайте кровью эту могилу! Мольба была услышана; барон резко оттолкнул Гаспара, вложил кинжал в ножны и строго сказал девушке:
— Ступайте в свою комнату, миледи, а вы все садитесь на лошадей и скачите в Мансфилд-Вудхауз; пленники, должно быть, бежали в этом направлении, и вы легко их перехватите, они мне нужны, нужны во что бы то ни стало, понимаете? Нужны!
Солдаты повиновались, Кристабель направилась к себе, но тут в часовне появилась Мод, подбежала к хозяйке и, приложив палец к губам, еле слышно сказала:
— Спасены! Спасены!
Молодая леди молитвенно сложила руки, чтобы возблагодарить Бога и в сопровождении Мод направилась к выходу.
— Стойте! — закричал барон, услышав шепот горничной. — Мисс Герберт Линдсей, мне нужно с вами минуту побеседовать. Ну-ка, подойдите поближе, да не бойтесь, не съем же я вас.
— Не знаю, — ответила испуганная Мод, — но вы мне кажетесь таким сердитым, таким разгневанным, милорд, что я не решаюсь.
— Мисс Герберт Линдсей, ваша хитрость всем известна, равно как и то, что нахмуренными бровями вас не устрашишь. И все же, если я захочу, вы будете в самом деле трепетать от страха, и берегитесь, чтобы я этого не захотел… Итак, кто же это спасен? Я слышал ваши слова, наглая красотка!
— А я и не сказала, что кто-то спасен, милорд, — ответила Мод, с самым невинным видом теребя длинный рукав платья.
— Ах, вы не сказали что кто-то спасен, прелестная притворщица! Вы, наверное, сказали: «Спасены», во множественном числе.
Горничная отрицательно покачала головой.
— О, вы лгунья, лгунья, и я поймал вас с поличным! Мод уставилась на барона, изобразив на своем лице крайнюю глупость; она словно не понимала странных слов, «поймать с поличным».
— Меня ты своей приторной глупостью не обманешь, продолжал барон. — Я знаю, что ты помогла моим пленникам бежать, но победу праздновать еще рано, они не так далеко ушли от замка, чтобы мои люди не могли их догнать, и посмотрим, помешаешь ли ты мне через час связать их спиной к спине и сбросить со стены в ров.
— Чтобы связать их спиной к спине, милорд, их надо сначала сюда привести, — возразила Мод, по-прежнему изображая из себя невинную дурочку, хотя в глазах ее искрилось лукавство.
— Но прежде чем их сбросят в ров, их исповедуют, и если выяснится, что вы помогли им бежать, мы найдем способ заставить вас дрожать от страха, мисс Герберт Линдсей.
— Как вам будет угодно, милорд.
— Посмотрим, как вам это понравится, посмотрим.
— Клянусь святым Валентином, милорд, мне бы очень хотелось заранее знать о ваших планах в отношении меня, чтобы у меня достало времени приготовиться, — добавила Мод, приседая перед бароном.
— Дерзкая девчонка!
— Миледи, — продолжала совершенно спокойно горничная, подходя к своей хозяйке, напоминавшей статую Скорби, — миледи, не желает ли ваша светлость пойти к себе в комнату, ночь становится прохладной… Конечно, у вашей светлости подагры нет, но…
В крайнем раздражении барон, окончательно выведенный из себя насмешливым хладнокровием горничной, еще раз спросил у нее, что она хотела сказать своим возгласом «Спасены! Спасены!»?
В его вопросе гнева уже не было слышно, и Мод поняла, что на него пора так или иначе ответить, а потому воскликнула, как бы уступая настойчивости барона:
— Я скажу, милорд, раз вы требуете. Да, я сказала: «Он спасен», сказала шепотом, чтобы ваши солдаты не увидели, как я волнуюсь. Но от вас трудно что-нибудь скрыть, милорд. Я действительно сказала миледи: «Он спасен», и сказала это о бедном Эгберте, которого вы собирались повесить, милорд, но которого, слава Богу, не повесили! — произнесла Мод и разразилась слезами.
— Ну, это уж чересчур! — воскликнул барон. — Вы что, слабоумным меня считаете, Мод? Ах, что за глупости, вы моим терпением злоупотребляете! Эгберт будет повешен, а раз вы в него влюблены, то и вас повесят вместе с ним.
— Большое спасибо, милорд, — расхохотавшись, ответила горничная, еще раз присела, повернулась на каблучках и побежала догонять Кристабель, вышедшую из часовни.
Лорд Фиц-Олвин пошел вслед за ней, произнося длинную речь, наполненную проклятиями женской хитрости. Дерзкая насмешливость Мод до крайности обострила жестокость барона, и он все искал, на кого бы излить свой гнев; он бы отдал половину своего состояния тому, кто доставил бы ему немедленно Аллана и Робина, и, чтобы скоротать время до возвращения солдат, посланных вдогонку за беглецами, решил пойти к леди Кристабель и выплеснуть на нее свое дурное настроение.
Мод почувствовала, что барон идет следом за ней, и, опасаясь его ярости, убежала как можно скорее, унеся факел и оставив благородного лорда в полной темноте; он шел, призывая проклятия на голову горничной и вообще всех на свете.
«Буйствуйте, буйствуйте, барон!» — убегая, шептала про себя Мод; но, подумав о том, что она бросила больного старика одного в темных переходах, девушка почувствовала угрызения совести, потому что она была скорее озорной, чем злой; и тут ей послышались отчаянные крики.
— На помощь! На помощь! — кричал кто-то приглушенным и прерывающимся голосом.
— Мне кажется, я узнаю голос барона, — воскликнула Мод, храбро возвращаясь назад. — Где вы, милорд? — спросила девушка.
— Здесь, плутовка, здесь! — ответил Фиц-Олвин. (Его голос, казалось, доносился из-под земли.)
— Господи, Боже мой! Как вы туда угодили? — воскликнула Мод, остановившись на верху лестницы; посветив факелом, девушка увидела, что барон растянулся на ступеньках и не падает с них только потому, что дорогу ему преградил какой-то предмет.
В ярости барон пошел в ту же сторону, в какую до него ушел тот несчастный солдат, что отправился с приказом запереть ворота замка, упал и разбился насмерть; однако, поскольку под камзолом барон всегда носил панцирь, он не расшибся, скатываясь по ступенькам, а тело солдата удержало его от дальнейшего падения.
Это происшествие несколько притупило ярость владельца замка, как ливень ослабляет сильный ветер.
— Мод, — сказал он, опираясь на руку горничной и с трудом подымаясь, — Мод, Господь накажет вас за то, что вы проявили ко мне непочтение и бросили меня без света в темноте.
— Простите меня, милорд, я спешила вслед за миледи и думала, что с вами идет один из солдат с факелом. Слава Богу, вы живы и здоровы. Провидение не позволило, чтобы мы лишились нашего доброго хозяина!.. Обопритесь на мою руку, милорд.
— Мод, — сказал барон, сдерживая свое бешенство, потому что в эту минуту ему была необходима помощь горничной, — Мод, ты мне напомнишь, что пьянице, уснувшему на лестнице в погреб, следует дать пятьдесят плетей, чтобы его разбудить.
— Будьте спокойны, милорд, я это не забуду.
Они оба и думать не могли, что этот пьяница давно уже мертв; пляшущее пламя факела давало слабый свет, а барон был слишком озабочен происшествием со своей драгоценной особой, чтобы разобраться, чем испачканы ступени лестницы — вином или кровью.
— Куда мы идем, милорд? — спросила Мод.
— К моей дочери.
«Ах, бедная миледи, — подумала горничная, — как только барон поудобнее усядется в кресле, он опять начнет ее мучить».
Кристабель сидела за маленьким столиком и в свете бронзовой лампы внимательно разглядывала какой-то предмет, лежавший на ее ладони, но спрятала его, услышав шаги барона.
— Что за безделушку вы так поспешно спрятали от моих глаз? — спросил ее барон, усаживаясь в самом мягком из стоящих в комнате кресел.
— Ну, вот и начинается — прошептала Мод.
— Что вы говорите, Мод?
— Говорю, что вы, наверное, очень страдаете, милорд. Подозрительный барон гневно взглянул на девушку.
— Отвечайте, дочь моя, что это за безделушка?
— Это не безделушка, отец.
— Ничем другим это быть не может.
— Ну, значит, наши мнения на сей счет не совпадают, — ответила Кристабель, силясь улыбнуться.
— У хорошей дочери не должно быть мнений, отличных от мнения ее отца. Что это за безделушка?
— Клянусь вам, что это не безделушка.
— Дочь моя, — сказал барон на удивление спокойно, но крайне строго, — дочь моя, если предмет, который вы столь поспешно спрятали от моих глаз, не связан с каким-либо проступком и не служит напоминанием о предосудительных событиях, покажите его мне; я вам отец и поэтому должен следить за вашим поведением; если же, напротив, это какой-то талисман и вам следует краснеть за него, тем более я требую показать его мне; помимо прав, у меня есть обязанности, и одна из них — помешать вам свалиться в пропасть, по краю которой вы ходите, или вытащить нас, если вы туда уже упали. Еще раз, дочь моя, что за предмет вы спрятали у себя за корсажем?
— Это портрет, милорд, — ответила девушка, задрожав и покраснев от волнения.
— И чей же это портрет?.. Кристабель, не отвечая, опустила глаза.
— Не злоупотребляйте моим терпением… я сегодня терпелив, это правда, но все же… отвечайте, чей это портрет?
— Я не могу сказать вам это, отец.
В голосе Кристабель послышались слезы, но она взяла себя в руки и заговорила уже спокойнее:
— Да, отец, у вас есть право меня спрашивать, но я позволю себе взять право вам не отвечать, потому что мне не в чем себя упрекнуть, я не нанесла урона ни вашему, ни своему достоинству.
— Ну, ваша совесть спокойна, потому что она в согласии с вашими чувствами; то, что вы говорите, очень красиво и добродетельно, дочь моя.
— Соблаговолите поверить мне, отец, я никогда не опозорю вашего имени, слишком хорошо я помню свою бедную святую мать.
— Это значит, что я старый негодяй… Что ж, это давно уже всем известно, — прорычал барон, — но я не желаю, чтобы мне такое говорили в лицо.
— Но я этого и не сказала, отец.
— Так, значит, подумали. Ну, короче говоря, меня мало волнует, что за драгоценную реликвию вы от меня так упорно прячете; это портрет нечестивца, которого вы любите вопреки моей воле, и я уже на его чертову физиономию насмотрелся. А теперь послушайте и запомните, леди Кристабель: вы никогда не выйдете замуж за Аллана Клера; скорее, я убью вас обоих своей собственной рукой, чем соглашусь на такое. Я отдам вас замуж за сэра Тристрама Голдсборо… Он не очень молод, это правда, однако он несколькими годами младше меня, а я еще не стар; он не очень-то красив, и это тоже правда, но с каких это пор красота стала залогом счастья в супружестве? Я вот тоже не был красив, и, тем не менее, леди Фиц-Олвин не променяла меня на самого блестящего рыцаря двора Генриха Второго; к тому же уродство Тристрама Голдсборо — это залог вашего будущего спокойствия… он не будет вам изменять… Знайте также, что он очень богат и пользуется большим влиянием при дворе, — словом, этот человек мне… вам подходит во всех отношениях; завтра я извещу его о вашем согласии, через четыре дня он сам приедет поблагодарить нас, и не пройдет и недели, как вы будете знатной замужней дамой, миледи.
— Никогда я не выйду замуж за этого человека, милорд, — воскликнула девушка, — никогда!
Барон расхохотался.
— А никто и не просит вашего согласия, миледи, но я сумею заставить вас повиноваться.
Кристабель, которая до сих пор была бледна как смерть, покраснела, судорожно сжала руки и, по всей видимости, приняла окончательное решение.
— Оставляю вас и даю вам время на размышления, если вы считаете, что вам полезно поразмыслить. Но запомните хорошенько, дочь моя: я требую вашего полного, смиренного и безоговорочного послушания.
— Боже мой, Боже мой! Сжалься надо мною! — горестно воскликнула Кристабель.
Барон вышел, пожав плечами.
Целый час Фиц-Олвин ходил взад и вперед по своей комнате, размышляя о событиях прошедшего вечера.
Угрозы Аллана Клера его устрашили, а воля дочери казалась неукротимой.
«Я, может быть, поступил бы правильнее, — говорил он себе, — если бы заговорил об этой свадьбе поласковее. В конце концов, я эту девочку люблю: это моя дочь, моя кровь; мне совсем не хочется, чтобы она чувствовала себя моей жертвой; я хочу, чтобы она была счастлива, но я хочу также, чтоб она вышла замуж за моего старого друга Тристрама, моего старого товарища по оружию. Хорошо, попробую уговорить ее добром».
Когда барон опять подошел к дверям комнаты Кристабель, до него донеслись душераздирающие рыдания.
«Бедная малышка», — подумал он, едва слышно отворяя двери.
Девушка что-то писала.
«А-а! — сказал про себя барон, так до сих пор и не понявший, зачем его дочь научилась писать (этим умением в те времена владели только духовные лица). — Это, верно, болван Аллан Клер внушил ей, чтобы она научилась выводить каракули на бумаге».
Фиц-Олвин бесшумно подошел к столу.
— Кому же это вы пишете, сударыня? — крайне раздраженно спросил он.
Кристабель вскрикнула и хотела спрятать письмо там же, где она до этого спрятала столь дорогой для нее портрет; но барон оказался проворнее и завладел им. Растерявшись и забыв, что ее благородный родитель никогда не открыл ни одной книги и не взял в руки пера, а следовательно, читать не умеет, девушка хотела выскользнуть из комнаты, но барон схватил ее за руку и, приподняв, как перышко, притянул к себе. Кристабель потеряла сознание. Сверкающим от ярости взглядом барон попытался проникнуть в смысл знаков, начертанных рукой дочери, но, не преуспев в этом, он взглянул на побелевшее лицо девушки, безжизненно лежавшей у него на груди.
— Эй! Женщины, женщины! — громогласно закричал барон, перенеся Кристабель на постель.
Уложив дочь, Фиц-Олвин отворил дверь и громко позвал;
— Мод! Мод! Горничная прибежала.
— Разденьте вашу хозяйку, — приказал барон и с ворчанием вышел.
— Мы одни, миледи, — сказала Мод, приведя Кристабель в чувство, — не бойтесь ничего.
Кристабель открыла глаза и обвела комнату мутным взором, но увидев рядом с постелью только свою верную служанку, обхватила руками ее шею и воскликнула:
— О Мод, я погибла!
— Миледи, расскажите мне, что за несчастье с вами случилось?
— Мой отец забрал письмо, которое я писала Аллану.
— Но ведь он читать не умеет, ваш благородный отец» миледи.
— Он заставит своего духовника прочесть его.
— Да, если мы ему дадим на это время; быстро дайте мне другой листок бумаги, похожий по форме на тот, что он у вас взял.
— Вот тут отдельный листок, он немного похож…
— Будьте спокойны, миледи, вытрите ваши прекрасные глаза, а то от слез они потускнеют.
Отважная Мод вошла в комнату барона как раз в ту миг нуту, когда тот собрался слушать, как его почтенный духовник будет читать ему письмо Кристабель к Аллану, которое тот уже держал в руках.
— Милорд, — живо воскликнула Мод, — миледи послала меня взять обратно бумагу, которую вы, ваша светлость, забрали у нее со стола.
И с этими словами ловко, как кошка, Мод скользнула к духовнику.
— Клянусь святым Дунстаном, моя дочь с ума сошла! Она осмелилась дать тебе подобное поручение?
— Да, милорд, и я его выполню! — воскликнула Мод, ловко выхватывая из рук монаха бумагу, которую тот уже поднес к самому носу, чтобы лучше разобрать почерк.
— Нахалка! — закричал барон и кинулся вдогонку за Мод.
Девушка ловче лани прыгнула к двери, но на пороге остановилась и позволила себя поймать.
— Отдай бумагу или я тебя удушу!
Мод опустила голову и, будто трясясь от страха, дала барону возможность вытащить из кармана своего передника, куда она опустила руки, бумагу, в точности похожую на ту, которую собирался читать духовник.
— Стоило бы тебе влепить пару пощечин, проклятая тупица! — воскликнул барон, одной рукой замахиваясь на Мод, а другой протягивая монаху письмо.
— Я только выполняла приказ миледи.
— Ну хорошо! Передай моей дочери, что она еще поплатится за твою наглость.
— Я почтительно приветствую милорда, — ответила Мод, сопровождая свои слова насмешливым поклоном.
В восторге от того, что ее хитрость удалась, девушка радостно вернулась к хозяйке.
— Ну что же, отец мой, нас оставили наконец-то в покое, — обратился барон к своему духовнику, — прочтите мне, что моя дочь пишет этому язычнику Аллану Клеру.
Монах начал читать гнусавым голосом:
Когда зима, смягчась, фиалкам позволяет цвесть,
Когда цветы бутоны раскрывают и о весне подснежник говорит,
Когда душа твоя, томясь, уж нежных взоров ждет и нежных слов.
Когда улыбка на устах твоих играет — ты помнишь обо мне, моя любовь?
— Что вы такое читаете, отец мой? — воскликнул барон. — Это же чушь, разрази меня Господь!
— Я читаю слово в слово то, что написано на этом листке; вам угодно, чтобы я продолжал?
— Конечно, мой отец, но мне казалось, что моя дочь слишком взволнована, чтобы писать какую-то глупую песенку.
Монах продолжал:
Когда весна наряд из роз благоуханных на землю надевает, Когда смеется солнце в небесах, Когда жасмина цвет белеет под окном — Любви мечты ко мне ты посылаешь?
— К черту! — завопил барон. — Это, кажется, называется стихами; там еще много, отец мой?
— Еще несколько строк, и все.
— Посмотрите, что на обороте.
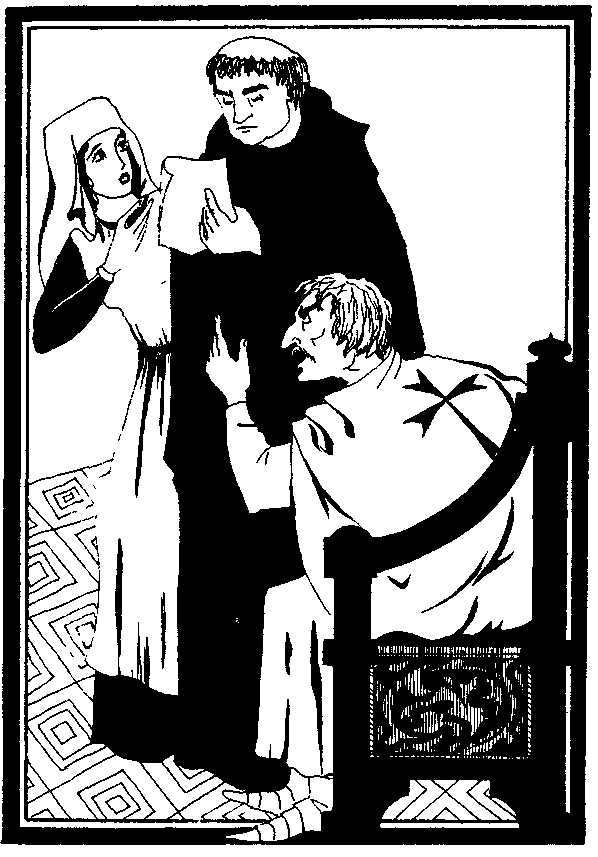 — «Когда осень…»
— «Когда осень…»
— Довольно! Будет! — зарычал Фиц-Олвин. — Тут, вероятно, о всех временах года говорится.
И все же старик продолжал:
Когда листва упавшая лужайку покрывает, Когда закрыто небо пеленою туч, Когда кругом ложится иней и валит снег — Ты помнишь обо мне, любовь моя?
— «Любовь моя, любовь моя!» — повторил барон. — Это просто невозможно! Когда я ее застал, Кристабель не писала стихов. Меня провели, и ловко провели, но, клянусь святым Петром, ненадолго. Отец мой, я хотел бы остаться один, прощайте и спокойной ночи.
— Да будет с вами мир, сын мой, — удаляясь, сказал монах.
Оставим барона строить планы мести и вернемся к Кристабель и хитроумной Мод.
Девушка писала Аллану, что она готова покинуть отчий дом, потому что планы барона выдать ее замуж за Тристрама Голдсборо вынудили ее принять это ужасное решение.
— Я берусь отправить письмо сэру Аллану, — сказала Мод, взяв послание; с этой целью девушка пошла и разыскала юношу лет шестнадцати-семнадцати, своего молочного брата.
— Хэлберт, — сказала она ему, — хочешь оказать мне, вернее леди Кристабель, большую услугу?
— С удовольствием, — ответил мальчик.
— Но я предупреждаю тебя, что это небезопасное поручение.
— Тем лучше, Мод.
— Значит, я могу тебе верить? — сказала Мод, обвивая рукой шею мальчика и пристально глядя на него своими прекрасными черными глазами.
— Как Господу Богу, — наивно и напыщенно ответил мальчик, — как Господу Богу, моя дорогая Мод.
— О, я знала, что могу на тебя рассчитывать, дорогой брат, спасибо тебе.
— А что нужно?
— Нужно встать, одеться и сесть на коня.
— Нет ничего легче.
— Но нужно взять на конюшне лучшего скакуна.
— И это тоже легко. Моя кобыла, которая названа в вашу честь, Мод, это лучшая рысистая лошадь в графстве.
— Я это знаю, милый мальчик. Поспеши и, как только будешь готов, приходи ко мне на тот двор, что перед подъемным мостом. Я тебя там буду ждать.
Через десять минут Хэлберт, держа на поводу лошадь, внимательно слушал распоряжения ловкой горничной.
— Значит, — говорила она, — ты проедешь через город и немного лесом и увидишь, несколько миль не доезжая до селения Мансфилд-Вудхауз, дом. В этом доме живет сторож-лесник по имени Гилберт Хэд. Ты ему отдашь записку и попросишь передать ее сэру Аллану Клеру, а сыну лесника, Робин Гуду, вернешь лук и стрелы, которые ему принадлежат. Вот такие поручения. Ты все хорошо понял?
— Отлично понял, прекрасная Мод, — ответил мальчик. — Других распоряжений у вас нет?
— Нет. Ах да, я совсем забыла… Ты скажешь Робин Гуду, владельцу этого лука и стрел, что ему постараются дать знать, когда он сможет прийти в замок, не подвергая себя опасности, потому что здесь кое-кто с нетерпением ждет его возвращения… Ты понял, Хэл?
— Да, конечно, понял.
— И постарайся избежать встречи с солдатами барона.
— А почему, Мод?
— Не худо было бы сделать яму побольше и похоронить в ней за компанию еще одного человека.
— Что это значит, братец?
— Человек, который утверждал, что на него волки напали, и которого мы оставили в плохом состоянии в нескольких шагах отсюда, умер; подойдите, пните его ногой, и вы увидите, что он не застонет.
Оба разбойника были уже похоронены, оставалось еще немного забросать могилу землей, когда в третий раз над лесом пронесся жалобный вой собаки.
— Ланс, бедный мой Ланс, теперь я займусь тобой! — воскликнул лесник. — Не оказав тебе помощи, я домой не вернусь.
Как и сказала Мод, разъяренный барон в сопровождении шести солдат явился в камеру Аллана Клера. Пленника в ней не было!
— А-а! — сказал барон, разражаясь тигриным смехом (если только тигры умеют смеяться). — Вот как здесь выполняют мои приказы! Я просто в восторге! К чему мне тогда каменная башня, к чему тюремщики? Клянусь святой Гризельдой, отныне я буду осуществлять свое правосудие без их помощи, а пленников буду запирать в клетку, где моя дочь держит птиц… Эгберт Ланнер, тюремщик, где ты?
— Вот он, ваша светлость, — ответил один из солдат, — я крепко держу его, а не то он бы уже давно убежал.
— Если бы он убежал, я бы повесил тебя вместо него… Подойди ко мне, Эгберт. Видишь дверь? Она заперта. Видишь оконце этой камеры? Оно очень узкое. Так вот, объясни мне, каким образом пленник, не такой худой, чтобы пролезть в это оконце, и не бесплотный, как воздух, чтобы улетучиться сквозь замочную скважину, каким образом, объясни мне, он отсюда исчез?
Эгберт молчал: он был ни жив ни мертв.
— Ответь мне, какая подлая корысть тебя заставила помочь бежать этому преступнику? Я спрашиваю тебя без гнева, и ответь мне без страха. Я добр и справедлив, и, быть может, если ты признаешь свою вину, я прощу тебя.
Напрасно барон разыгрывал добродушие. Эгберт по опыту знал, что верить в его искренность не следует, и, по-прежнему полумертвый от страха, продолжал молчать.
— А! Глупые рабы! — неожиданно воскликнул Фиц-Олвин. — Спорю, что ни одному из вас и в голову не пришло предупредить привратника о том, что произошло! Живо, живо, пусть кто-нибудь из вас передаст Герберту Линдсею от моего имени приказ поднять мост и запереть все ворота.
Один из солдат тотчас же побежал передавать приказ, но заблудился в темных переходах тюрьмы и свалился вниз головой в открытый люк подземелья; он разбился насмерть, но этого несчастного случая никто не заметил, и поэтому беглецы спокойно вышли из замка.
— Милорд, — сказал один из солдат, — когда мы сюда шли, мне показалось, что в конце галереи, ведущей в часовню, я видел свет факела.
— И ты до сих пор ничего мне не говорил! — вскричал барон. — Ох, эти негодяи поклялись изжарить меня на медленном огне! Но они умрут раньше меня, — добавил он, задыхаясь от гнева, — да, вы умрете раньше меня, и я придумаю для вас ужасную казнь, если не поймаю этого нечестивца, вместо которого для начала будет повешен Эгберт.
Произнеся это, Фиц-Олвин вырвал факел из рук одного из солдат и бросился в часовню. Кристабель стояла перед могилой матери и, казалось, целиком была погружена в молитву.
— Обыщите все углы и закоулки и приведите его живым или мертвым! — закричал барон.
Солдаты повиновались.
— А вы что здесь делаете, дочь моя?
— Молюсь, отец.
— И конечно, молитесь за этого нечестивца, заслуживающего виселицы?!
— Я молюсь за вас у могилы матери, разве вы не видите?
— Где ваш сообщник?
— Какой сообщник?
— Этот предатель, Аллан.
— Не знаю.
— Вы меня обманываете, он здесь.
— Я никогда вас не обманывала, отец.
Барон внимательно всмотрелся в бледное лицо дочери.
— Ни того ни другого не нашли, — сказал подошедший солдат.
— Ни того ни другого? — повторил Фиц-Олвин, начавший догадываться о бегстве Робина.
— Ну да, милорд, ни того ни другого. А разве не о двух убежавших пленниках шла речь?
Придя в полное отчаяние оттого, что от него ускользнул Робин, наглый Робин, который осмелился перечить ему и от которого он надеялся пытками вырвать достоверные сведения об Аллане, барон опустил свою широкую ладонь на плечо проговорившегося солдата и сказал:
— Ни того ни другого? Объясни мне, что значат эти слова?
Солдат задрожал под страшной тяжестью этой руки, не зная, что ответить.
— Для начала, кто ты есть?
— Если вашей светлости угодно, меня зовут Гаспар Стейнкоф; я стоял на часах на валу и…
— Презренный! Так это ты стоял на часах у двери камеры этого шервудского волчонка? Не говори мне, что это не ты его упустил, или я заколю тебя кинжалом!
Мы воздержимся от дальнейших описаний различных оттенков гнева барона: нашим читателям достаточно знать, что гнев стал для него привычкой, потребностью и, перестав гневаться, он перестал бы дышать.
— Итак, ты признаешься, что он бежал, когда ты стоял на часах на восточном валу? — помолчав, продолжал барон. — Ну, отвечай!
— Милорд, вы же угрожали заколоть меня, если я в этом признаюсь, — отвечал бедняга.
— И исполню свою угрозу.
— Тогда я буду молчать.
Барон занес над несчастным кинжал, но леди Кристабель удержала его руку, воскликнув:
— О, заклинаю вас, отец, не пятнайте кровью эту могилу! Мольба была услышана; барон резко оттолкнул Гаспара, вложил кинжал в ножны и строго сказал девушке:
— Ступайте в свою комнату, миледи, а вы все садитесь на лошадей и скачите в Мансфилд-Вудхауз; пленники, должно быть, бежали в этом направлении, и вы легко их перехватите, они мне нужны, нужны во что бы то ни стало, понимаете? Нужны!
Солдаты повиновались, Кристабель направилась к себе, но тут в часовне появилась Мод, подбежала к хозяйке и, приложив палец к губам, еле слышно сказала:
— Спасены! Спасены!
Молодая леди молитвенно сложила руки, чтобы возблагодарить Бога и в сопровождении Мод направилась к выходу.
— Стойте! — закричал барон, услышав шепот горничной. — Мисс Герберт Линдсей, мне нужно с вами минуту побеседовать. Ну-ка, подойдите поближе, да не бойтесь, не съем же я вас.
— Не знаю, — ответила испуганная Мод, — но вы мне кажетесь таким сердитым, таким разгневанным, милорд, что я не решаюсь.
— Мисс Герберт Линдсей, ваша хитрость всем известна, равно как и то, что нахмуренными бровями вас не устрашишь. И все же, если я захочу, вы будете в самом деле трепетать от страха, и берегитесь, чтобы я этого не захотел… Итак, кто же это спасен? Я слышал ваши слова, наглая красотка!
— А я и не сказала, что кто-то спасен, милорд, — ответила Мод, с самым невинным видом теребя длинный рукав платья.
— Ах, вы не сказали что кто-то спасен, прелестная притворщица! Вы, наверное, сказали: «Спасены», во множественном числе.
Горничная отрицательно покачала головой.
— О, вы лгунья, лгунья, и я поймал вас с поличным! Мод уставилась на барона, изобразив на своем лице крайнюю глупость; она словно не понимала странных слов, «поймать с поличным».
— Меня ты своей приторной глупостью не обманешь, продолжал барон. — Я знаю, что ты помогла моим пленникам бежать, но победу праздновать еще рано, они не так далеко ушли от замка, чтобы мои люди не могли их догнать, и посмотрим, помешаешь ли ты мне через час связать их спиной к спине и сбросить со стены в ров.
— Чтобы связать их спиной к спине, милорд, их надо сначала сюда привести, — возразила Мод, по-прежнему изображая из себя невинную дурочку, хотя в глазах ее искрилось лукавство.
— Но прежде чем их сбросят в ров, их исповедуют, и если выяснится, что вы помогли им бежать, мы найдем способ заставить вас дрожать от страха, мисс Герберт Линдсей.
— Как вам будет угодно, милорд.
— Посмотрим, как вам это понравится, посмотрим.
— Клянусь святым Валентином, милорд, мне бы очень хотелось заранее знать о ваших планах в отношении меня, чтобы у меня достало времени приготовиться, — добавила Мод, приседая перед бароном.
— Дерзкая девчонка!
— Миледи, — продолжала совершенно спокойно горничная, подходя к своей хозяйке, напоминавшей статую Скорби, — миледи, не желает ли ваша светлость пойти к себе в комнату, ночь становится прохладной… Конечно, у вашей светлости подагры нет, но…
В крайнем раздражении барон, окончательно выведенный из себя насмешливым хладнокровием горничной, еще раз спросил у нее, что она хотела сказать своим возгласом «Спасены! Спасены!»?
В его вопросе гнева уже не было слышно, и Мод поняла, что на него пора так или иначе ответить, а потому воскликнула, как бы уступая настойчивости барона:
— Я скажу, милорд, раз вы требуете. Да, я сказала: «Он спасен», сказала шепотом, чтобы ваши солдаты не увидели, как я волнуюсь. Но от вас трудно что-нибудь скрыть, милорд. Я действительно сказала миледи: «Он спасен», и сказала это о бедном Эгберте, которого вы собирались повесить, милорд, но которого, слава Богу, не повесили! — произнесла Мод и разразилась слезами.
— Ну, это уж чересчур! — воскликнул барон. — Вы что, слабоумным меня считаете, Мод? Ах, что за глупости, вы моим терпением злоупотребляете! Эгберт будет повешен, а раз вы в него влюблены, то и вас повесят вместе с ним.
— Большое спасибо, милорд, — расхохотавшись, ответила горничная, еще раз присела, повернулась на каблучках и побежала догонять Кристабель, вышедшую из часовни.
Лорд Фиц-Олвин пошел вслед за ней, произнося длинную речь, наполненную проклятиями женской хитрости. Дерзкая насмешливость Мод до крайности обострила жестокость барона, и он все искал, на кого бы излить свой гнев; он бы отдал половину своего состояния тому, кто доставил бы ему немедленно Аллана и Робина, и, чтобы скоротать время до возвращения солдат, посланных вдогонку за беглецами, решил пойти к леди Кристабель и выплеснуть на нее свое дурное настроение.
Мод почувствовала, что барон идет следом за ней, и, опасаясь его ярости, убежала как можно скорее, унеся факел и оставив благородного лорда в полной темноте; он шел, призывая проклятия на голову горничной и вообще всех на свете.
«Буйствуйте, буйствуйте, барон!» — убегая, шептала про себя Мод; но, подумав о том, что она бросила больного старика одного в темных переходах, девушка почувствовала угрызения совести, потому что она была скорее озорной, чем злой; и тут ей послышались отчаянные крики.
— На помощь! На помощь! — кричал кто-то приглушенным и прерывающимся голосом.
— Мне кажется, я узнаю голос барона, — воскликнула Мод, храбро возвращаясь назад. — Где вы, милорд? — спросила девушка.
— Здесь, плутовка, здесь! — ответил Фиц-Олвин. (Его голос, казалось, доносился из-под земли.)
— Господи, Боже мой! Как вы туда угодили? — воскликнула Мод, остановившись на верху лестницы; посветив факелом, девушка увидела, что барон растянулся на ступеньках и не падает с них только потому, что дорогу ему преградил какой-то предмет.
В ярости барон пошел в ту же сторону, в какую до него ушел тот несчастный солдат, что отправился с приказом запереть ворота замка, упал и разбился насмерть; однако, поскольку под камзолом барон всегда носил панцирь, он не расшибся, скатываясь по ступенькам, а тело солдата удержало его от дальнейшего падения.
Это происшествие несколько притупило ярость владельца замка, как ливень ослабляет сильный ветер.
— Мод, — сказал он, опираясь на руку горничной и с трудом подымаясь, — Мод, Господь накажет вас за то, что вы проявили ко мне непочтение и бросили меня без света в темноте.
— Простите меня, милорд, я спешила вслед за миледи и думала, что с вами идет один из солдат с факелом. Слава Богу, вы живы и здоровы. Провидение не позволило, чтобы мы лишились нашего доброго хозяина!.. Обопритесь на мою руку, милорд.
— Мод, — сказал барон, сдерживая свое бешенство, потому что в эту минуту ему была необходима помощь горничной, — Мод, ты мне напомнишь, что пьянице, уснувшему на лестнице в погреб, следует дать пятьдесят плетей, чтобы его разбудить.
— Будьте спокойны, милорд, я это не забуду.
Они оба и думать не могли, что этот пьяница давно уже мертв; пляшущее пламя факела давало слабый свет, а барон был слишком озабочен происшествием со своей драгоценной особой, чтобы разобраться, чем испачканы ступени лестницы — вином или кровью.
— Куда мы идем, милорд? — спросила Мод.
— К моей дочери.
«Ах, бедная миледи, — подумала горничная, — как только барон поудобнее усядется в кресле, он опять начнет ее мучить».
Кристабель сидела за маленьким столиком и в свете бронзовой лампы внимательно разглядывала какой-то предмет, лежавший на ее ладони, но спрятала его, услышав шаги барона.
— Что за безделушку вы так поспешно спрятали от моих глаз? — спросил ее барон, усаживаясь в самом мягком из стоящих в комнате кресел.
— Ну, вот и начинается — прошептала Мод.
— Что вы говорите, Мод?
— Говорю, что вы, наверное, очень страдаете, милорд. Подозрительный барон гневно взглянул на девушку.
— Отвечайте, дочь моя, что это за безделушка?
— Это не безделушка, отец.
— Ничем другим это быть не может.
— Ну, значит, наши мнения на сей счет не совпадают, — ответила Кристабель, силясь улыбнуться.
— У хорошей дочери не должно быть мнений, отличных от мнения ее отца. Что это за безделушка?
— Клянусь вам, что это не безделушка.
— Дочь моя, — сказал барон на удивление спокойно, но крайне строго, — дочь моя, если предмет, который вы столь поспешно спрятали от моих глаз, не связан с каким-либо проступком и не служит напоминанием о предосудительных событиях, покажите его мне; я вам отец и поэтому должен следить за вашим поведением; если же, напротив, это какой-то талисман и вам следует краснеть за него, тем более я требую показать его мне; помимо прав, у меня есть обязанности, и одна из них — помешать вам свалиться в пропасть, по краю которой вы ходите, или вытащить нас, если вы туда уже упали. Еще раз, дочь моя, что за предмет вы спрятали у себя за корсажем?
— Это портрет, милорд, — ответила девушка, задрожав и покраснев от волнения.
— И чей же это портрет?.. Кристабель, не отвечая, опустила глаза.
— Не злоупотребляйте моим терпением… я сегодня терпелив, это правда, но все же… отвечайте, чей это портрет?
— Я не могу сказать вам это, отец.
В голосе Кристабель послышались слезы, но она взяла себя в руки и заговорила уже спокойнее:
— Да, отец, у вас есть право меня спрашивать, но я позволю себе взять право вам не отвечать, потому что мне не в чем себя упрекнуть, я не нанесла урона ни вашему, ни своему достоинству.
— Ну, ваша совесть спокойна, потому что она в согласии с вашими чувствами; то, что вы говорите, очень красиво и добродетельно, дочь моя.
— Соблаговолите поверить мне, отец, я никогда не опозорю вашего имени, слишком хорошо я помню свою бедную святую мать.
— Это значит, что я старый негодяй… Что ж, это давно уже всем известно, — прорычал барон, — но я не желаю, чтобы мне такое говорили в лицо.
— Но я этого и не сказала, отец.
— Так, значит, подумали. Ну, короче говоря, меня мало волнует, что за драгоценную реликвию вы от меня так упорно прячете; это портрет нечестивца, которого вы любите вопреки моей воле, и я уже на его чертову физиономию насмотрелся. А теперь послушайте и запомните, леди Кристабель: вы никогда не выйдете замуж за Аллана Клера; скорее, я убью вас обоих своей собственной рукой, чем соглашусь на такое. Я отдам вас замуж за сэра Тристрама Голдсборо… Он не очень молод, это правда, однако он несколькими годами младше меня, а я еще не стар; он не очень-то красив, и это тоже правда, но с каких это пор красота стала залогом счастья в супружестве? Я вот тоже не был красив, и, тем не менее, леди Фиц-Олвин не променяла меня на самого блестящего рыцаря двора Генриха Второго; к тому же уродство Тристрама Голдсборо — это залог вашего будущего спокойствия… он не будет вам изменять… Знайте также, что он очень богат и пользуется большим влиянием при дворе, — словом, этот человек мне… вам подходит во всех отношениях; завтра я извещу его о вашем согласии, через четыре дня он сам приедет поблагодарить нас, и не пройдет и недели, как вы будете знатной замужней дамой, миледи.
— Никогда я не выйду замуж за этого человека, милорд, — воскликнула девушка, — никогда!
Барон расхохотался.
— А никто и не просит вашего согласия, миледи, но я сумею заставить вас повиноваться.
Кристабель, которая до сих пор была бледна как смерть, покраснела, судорожно сжала руки и, по всей видимости, приняла окончательное решение.
— Оставляю вас и даю вам время на размышления, если вы считаете, что вам полезно поразмыслить. Но запомните хорошенько, дочь моя: я требую вашего полного, смиренного и безоговорочного послушания.
— Боже мой, Боже мой! Сжалься надо мною! — горестно воскликнула Кристабель.
Барон вышел, пожав плечами.
Целый час Фиц-Олвин ходил взад и вперед по своей комнате, размышляя о событиях прошедшего вечера.
Угрозы Аллана Клера его устрашили, а воля дочери казалась неукротимой.
«Я, может быть, поступил бы правильнее, — говорил он себе, — если бы заговорил об этой свадьбе поласковее. В конце концов, я эту девочку люблю: это моя дочь, моя кровь; мне совсем не хочется, чтобы она чувствовала себя моей жертвой; я хочу, чтобы она была счастлива, но я хочу также, чтоб она вышла замуж за моего старого друга Тристрама, моего старого товарища по оружию. Хорошо, попробую уговорить ее добром».
Когда барон опять подошел к дверям комнаты Кристабель, до него донеслись душераздирающие рыдания.
«Бедная малышка», — подумал он, едва слышно отворяя двери.
Девушка что-то писала.
«А-а! — сказал про себя барон, так до сих пор и не понявший, зачем его дочь научилась писать (этим умением в те времена владели только духовные лица). — Это, верно, болван Аллан Клер внушил ей, чтобы она научилась выводить каракули на бумаге».
Фиц-Олвин бесшумно подошел к столу.
— Кому же это вы пишете, сударыня? — крайне раздраженно спросил он.
Кристабель вскрикнула и хотела спрятать письмо там же, где она до этого спрятала столь дорогой для нее портрет; но барон оказался проворнее и завладел им. Растерявшись и забыв, что ее благородный родитель никогда не открыл ни одной книги и не взял в руки пера, а следовательно, читать не умеет, девушка хотела выскользнуть из комнаты, но барон схватил ее за руку и, приподняв, как перышко, притянул к себе. Кристабель потеряла сознание. Сверкающим от ярости взглядом барон попытался проникнуть в смысл знаков, начертанных рукой дочери, но, не преуспев в этом, он взглянул на побелевшее лицо девушки, безжизненно лежавшей у него на груди.
— Эй! Женщины, женщины! — громогласно закричал барон, перенеся Кристабель на постель.
Уложив дочь, Фиц-Олвин отворил дверь и громко позвал;
— Мод! Мод! Горничная прибежала.
— Разденьте вашу хозяйку, — приказал барон и с ворчанием вышел.
— Мы одни, миледи, — сказала Мод, приведя Кристабель в чувство, — не бойтесь ничего.
Кристабель открыла глаза и обвела комнату мутным взором, но увидев рядом с постелью только свою верную служанку, обхватила руками ее шею и воскликнула:
— О Мод, я погибла!
— Миледи, расскажите мне, что за несчастье с вами случилось?
— Мой отец забрал письмо, которое я писала Аллану.
— Но ведь он читать не умеет, ваш благородный отец» миледи.
— Он заставит своего духовника прочесть его.
— Да, если мы ему дадим на это время; быстро дайте мне другой листок бумаги, похожий по форме на тот, что он у вас взял.
— Вот тут отдельный листок, он немного похож…
— Будьте спокойны, миледи, вытрите ваши прекрасные глаза, а то от слез они потускнеют.
Отважная Мод вошла в комнату барона как раз в ту миг нуту, когда тот собрался слушать, как его почтенный духовник будет читать ему письмо Кристабель к Аллану, которое тот уже держал в руках.
— Милорд, — живо воскликнула Мод, — миледи послала меня взять обратно бумагу, которую вы, ваша светлость, забрали у нее со стола.
И с этими словами ловко, как кошка, Мод скользнула к духовнику.
— Клянусь святым Дунстаном, моя дочь с ума сошла! Она осмелилась дать тебе подобное поручение?
— Да, милорд, и я его выполню! — воскликнула Мод, ловко выхватывая из рук монаха бумагу, которую тот уже поднес к самому носу, чтобы лучше разобрать почерк.
— Нахалка! — закричал барон и кинулся вдогонку за Мод.
Девушка ловче лани прыгнула к двери, но на пороге остановилась и позволила себя поймать.
— Отдай бумагу или я тебя удушу!
Мод опустила голову и, будто трясясь от страха, дала барону возможность вытащить из кармана своего передника, куда она опустила руки, бумагу, в точности похожую на ту, которую собирался читать духовник.
— Стоило бы тебе влепить пару пощечин, проклятая тупица! — воскликнул барон, одной рукой замахиваясь на Мод, а другой протягивая монаху письмо.
— Я только выполняла приказ миледи.
— Ну хорошо! Передай моей дочери, что она еще поплатится за твою наглость.
— Я почтительно приветствую милорда, — ответила Мод, сопровождая свои слова насмешливым поклоном.
В восторге от того, что ее хитрость удалась, девушка радостно вернулась к хозяйке.
— Ну что же, отец мой, нас оставили наконец-то в покое, — обратился барон к своему духовнику, — прочтите мне, что моя дочь пишет этому язычнику Аллану Клеру.
Монах начал читать гнусавым голосом:
Когда зима, смягчась, фиалкам позволяет цвесть,
Когда цветы бутоны раскрывают и о весне подснежник говорит,
Когда душа твоя, томясь, уж нежных взоров ждет и нежных слов.
Когда улыбка на устах твоих играет — ты помнишь обо мне, моя любовь?
— Что вы такое читаете, отец мой? — воскликнул барон. — Это же чушь, разрази меня Господь!
— Я читаю слово в слово то, что написано на этом листке; вам угодно, чтобы я продолжал?
— Конечно, мой отец, но мне казалось, что моя дочь слишком взволнована, чтобы писать какую-то глупую песенку.
Монах продолжал:
Когда весна наряд из роз благоуханных на землю надевает, Когда смеется солнце в небесах, Когда жасмина цвет белеет под окном — Любви мечты ко мне ты посылаешь?
— К черту! — завопил барон. — Это, кажется, называется стихами; там еще много, отец мой?
— Еще несколько строк, и все.
— Посмотрите, что на обороте.
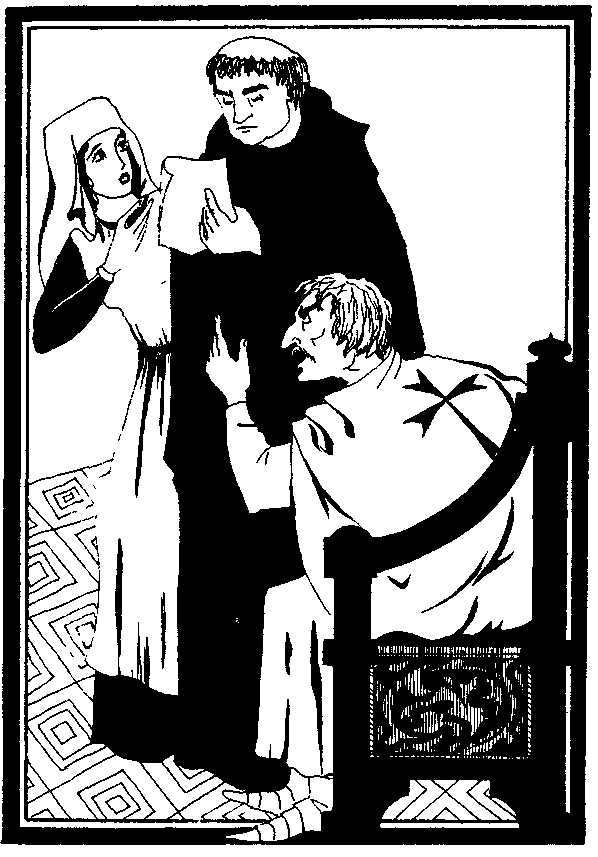
— Довольно! Будет! — зарычал Фиц-Олвин. — Тут, вероятно, о всех временах года говорится.
И все же старик продолжал:
Когда листва упавшая лужайку покрывает, Когда закрыто небо пеленою туч, Когда кругом ложится иней и валит снег — Ты помнишь обо мне, любовь моя?
— «Любовь моя, любовь моя!» — повторил барон. — Это просто невозможно! Когда я ее застал, Кристабель не писала стихов. Меня провели, и ловко провели, но, клянусь святым Петром, ненадолго. Отец мой, я хотел бы остаться один, прощайте и спокойной ночи.
— Да будет с вами мир, сын мой, — удаляясь, сказал монах.
Оставим барона строить планы мести и вернемся к Кристабель и хитроумной Мод.
Девушка писала Аллану, что она готова покинуть отчий дом, потому что планы барона выдать ее замуж за Тристрама Голдсборо вынудили ее принять это ужасное решение.
— Я берусь отправить письмо сэру Аллану, — сказала Мод, взяв послание; с этой целью девушка пошла и разыскала юношу лет шестнадцати-семнадцати, своего молочного брата.
— Хэлберт, — сказала она ему, — хочешь оказать мне, вернее леди Кристабель, большую услугу?
— С удовольствием, — ответил мальчик.
— Но я предупреждаю тебя, что это небезопасное поручение.
— Тем лучше, Мод.
— Значит, я могу тебе верить? — сказала Мод, обвивая рукой шею мальчика и пристально глядя на него своими прекрасными черными глазами.
— Как Господу Богу, — наивно и напыщенно ответил мальчик, — как Господу Богу, моя дорогая Мод.
— О, я знала, что могу на тебя рассчитывать, дорогой брат, спасибо тебе.
— А что нужно?
— Нужно встать, одеться и сесть на коня.
— Нет ничего легче.
— Но нужно взять на конюшне лучшего скакуна.
— И это тоже легко. Моя кобыла, которая названа в вашу честь, Мод, это лучшая рысистая лошадь в графстве.
— Я это знаю, милый мальчик. Поспеши и, как только будешь готов, приходи ко мне на тот двор, что перед подъемным мостом. Я тебя там буду ждать.
Через десять минут Хэлберт, держа на поводу лошадь, внимательно слушал распоряжения ловкой горничной.
— Значит, — говорила она, — ты проедешь через город и немного лесом и увидишь, несколько миль не доезжая до селения Мансфилд-Вудхауз, дом. В этом доме живет сторож-лесник по имени Гилберт Хэд. Ты ему отдашь записку и попросишь передать ее сэру Аллану Клеру, а сыну лесника, Робин Гуду, вернешь лук и стрелы, которые ему принадлежат. Вот такие поручения. Ты все хорошо понял?
— Отлично понял, прекрасная Мод, — ответил мальчик. — Других распоряжений у вас нет?
— Нет. Ах да, я совсем забыла… Ты скажешь Робин Гуду, владельцу этого лука и стрел, что ему постараются дать знать, когда он сможет прийти в замок, не подвергая себя опасности, потому что здесь кое-кто с нетерпением ждет его возвращения… Ты понял, Хэл?
— Да, конечно, понял.
— И постарайся избежать встречи с солдатами барона.
— А почему, Мод?
