Несколько дней я прожила спокойно, не подвергаясь посягательствам со стороны капитана, – пока не настала роковая ночь…
Тут, увидав, что Хартфри побледнел, она успокоила его, заверив, что небо оградило ее целомудрие и возвратило ее незапятнанной в объятия супруга. Она продолжала так:
– Может быть, я применила не тот эпитет, сказав «роковая». Но злосчастной ночью я, конечно, вправе ее назвать, потому что никогда ни одна женщина, вышедшая победительницей из борьбы, не подвергалась, я думаю, большей опасности. Итак, в одну злосчастную ночь, говорю я, выпив для храбрости пунша в компании с казначеем, единственным человеком на судне, которого он допускал к своему столу, капитан послал за мною; и волей-неволей я должна была спуститься к нему в каюту. Как только мы остались наедине, он схватил меня за руку и, оскорбив мой слух словами, которые я не способна повторить, крепкой клятвой поклялся, что больше не даст играть своею страстью; нечего мне воображать, сказал он, что можно применять к нему такое обхождение, какое терпят болваны на суше. «Так что, сударыня, довольно вам ломаться; я решил, что этой ночью вы станете моей. Пожалуйста, без борьбы и без писка, так как и то и другое будет только лишней докукой. Первого же, кто посмеет сюда войти, я спущу по шкафуту к рыбам». И он тут же поволок меня силком к кровати. Я бросилась перед ним на колени и в слезах взывала к его состраданию, но мольбы, увидела я, были бесполезны; тогда я прибегла к угрозам и попробовала припугнуть его последствиями, – угрозы поколебали его как будто больше, чем мольбы, однако и они не помогли мне. Наконец я решилась на уловку, впервые пришедшую мне на ум, когда я заметила, что он не тверд на ногах. Попросив минуту отсрочки, я собралась с духом, напустила на себя притворно-веселый вид и сказала ему с деланным смехом, что он самый грубый из всех моих кавалеров и что, верно, ему никогда не доводилось ухаживать за женщиной. «Ухаживать? – вскричал он. – К черту ухаживание! Раздену – и вся недолга». Тогда я попросила его выпить со мною пунша: потому что я, мол, так же как и он, в дружбе с кружкой и никогда ни одного мужчину не дарю лаской, не выпив с ним сперва по чарочке.
«Ну, за этим, – сказал он, – дело не станет! Пунша будет столько, что хоть утопись в нем». Тут он позвонил в колокольчик И велел подать галлон пунша. Я тем временем была вынуждена сносить его гнусные поцелуи и кое-какие вольности, в которых с большим трудом не давала ему переступить границу. Когда принесли пунш, он поднял бокал за мое здоровье и, чванясь, стал пить в таком количестве, что сильно сам помог моему замыслу. Я ему подливала так быстро, как только могла, и принуждена была сама столько пить, что в другое время это мне затуманило бы голову, но сейчас хмель не брал меня. Наконец, видя, что капитан уже изрядно упился, я подловила удобную минуту и выбежала вон из каюты, решив искать защиты у моря, если не Найду другой. Но небу угодно было милосердно избавить меня от такой крайности: капитан, бросившийся было вдогонку за мной, покачнулся и, свалившись с трапа, ведшего в каюту, вывихнул руку в плече и так расшибся, что я не только в ту ночь могла не опасаться посягательства со стороны насильника, – этот случай вызвал у него горячку, угрожавшую его жизни, и я не знаю достоверно, поправился он или нет. Пока он лежал в бреду, кораблем командовал старший помощник капитана. Это был добрый и храбрый человек, прослуживший на своем посту двадцать пять лет; но он все не мог получить в командование корабль и не раз видел, как через его голову назначают мальчишек, побочных сыновей каких-нибудь вельмож. Однажды, когда корабль все еще находился под его управлением, мы встретили английское судно, державшее курс на Корк. Я и мой друг – тот, что просидел из-за меня два дня в кандалах, – пересели на него с разрешения старшего помощника, который выдал нам провизии сколько мог и, поздравив меня с избавлением от опасности, не составлявшей тайны ни для кого из команды, любезно пожелал нам обоим счастливого плавания.
Глава VIII,
Глава IX,
Глава X
Тут, увидав, что Хартфри побледнел, она успокоила его, заверив, что небо оградило ее целомудрие и возвратило ее незапятнанной в объятия супруга. Она продолжала так:
– Может быть, я применила не тот эпитет, сказав «роковая». Но злосчастной ночью я, конечно, вправе ее назвать, потому что никогда ни одна женщина, вышедшая победительницей из борьбы, не подвергалась, я думаю, большей опасности. Итак, в одну злосчастную ночь, говорю я, выпив для храбрости пунша в компании с казначеем, единственным человеком на судне, которого он допускал к своему столу, капитан послал за мною; и волей-неволей я должна была спуститься к нему в каюту. Как только мы остались наедине, он схватил меня за руку и, оскорбив мой слух словами, которые я не способна повторить, крепкой клятвой поклялся, что больше не даст играть своею страстью; нечего мне воображать, сказал он, что можно применять к нему такое обхождение, какое терпят болваны на суше. «Так что, сударыня, довольно вам ломаться; я решил, что этой ночью вы станете моей. Пожалуйста, без борьбы и без писка, так как и то и другое будет только лишней докукой. Первого же, кто посмеет сюда войти, я спущу по шкафуту к рыбам». И он тут же поволок меня силком к кровати. Я бросилась перед ним на колени и в слезах взывала к его состраданию, но мольбы, увидела я, были бесполезны; тогда я прибегла к угрозам и попробовала припугнуть его последствиями, – угрозы поколебали его как будто больше, чем мольбы, однако и они не помогли мне. Наконец я решилась на уловку, впервые пришедшую мне на ум, когда я заметила, что он не тверд на ногах. Попросив минуту отсрочки, я собралась с духом, напустила на себя притворно-веселый вид и сказала ему с деланным смехом, что он самый грубый из всех моих кавалеров и что, верно, ему никогда не доводилось ухаживать за женщиной. «Ухаживать? – вскричал он. – К черту ухаживание! Раздену – и вся недолга». Тогда я попросила его выпить со мною пунша: потому что я, мол, так же как и он, в дружбе с кружкой и никогда ни одного мужчину не дарю лаской, не выпив с ним сперва по чарочке.
«Ну, за этим, – сказал он, – дело не станет! Пунша будет столько, что хоть утопись в нем». Тут он позвонил в колокольчик И велел подать галлон пунша. Я тем временем была вынуждена сносить его гнусные поцелуи и кое-какие вольности, в которых с большим трудом не давала ему переступить границу. Когда принесли пунш, он поднял бокал за мое здоровье и, чванясь, стал пить в таком количестве, что сильно сам помог моему замыслу. Я ему подливала так быстро, как только могла, и принуждена была сама столько пить, что в другое время это мне затуманило бы голову, но сейчас хмель не брал меня. Наконец, видя, что капитан уже изрядно упился, я подловила удобную минуту и выбежала вон из каюты, решив искать защиты у моря, если не Найду другой. Но небу угодно было милосердно избавить меня от такой крайности: капитан, бросившийся было вдогонку за мной, покачнулся и, свалившись с трапа, ведшего в каюту, вывихнул руку в плече и так расшибся, что я не только в ту ночь могла не опасаться посягательства со стороны насильника, – этот случай вызвал у него горячку, угрожавшую его жизни, и я не знаю достоверно, поправился он или нет. Пока он лежал в бреду, кораблем командовал старший помощник капитана. Это был добрый и храбрый человек, прослуживший на своем посту двадцать пять лет; но он все не мог получить в командование корабль и не раз видел, как через его голову назначают мальчишек, побочных сыновей каких-нибудь вельмож. Однажды, когда корабль все еще находился под его управлением, мы встретили английское судно, державшее курс на Корк. Я и мой друг – тот, что просидел из-за меня два дня в кандалах, – пересели на него с разрешения старшего помощника, который выдал нам провизии сколько мог и, поздравив меня с избавлением от опасности, не составлявшей тайны ни для кого из команды, любезно пожелал нам обоим счастливого плавания.
Глава VIII,
в которой миссис Хартфри продолжает рассказ о своих приключениях
вечер того дня, когда нас взяли на борт этого судна, быстроходной бригантины, мы были неподалеку от острова Мадейра; как вдруг поднялась с норд-веста сильнейшая буря, в которой мы сразу потеряли обе наши мачты. Смерть представлялась нам неизбежной. Вряд ли должна я говорить своему Томми, что занимало тогда мои мысли. Опасность казалась так велика, что капитан бригантины, убежденный атеист, начал ревностно молиться, а вся команда, почитая себя бесповоротно погибшей, так же ревностно принялась опоражнивать бочонок коньяку, клятвенно заверяя, что ни одна капля благородного напитка не будет осквернена соленой водой. Тут я увидела, что мой старый друг проявляет меньше мужества, чем я от него ожидала. Он предался, казалось, полному отчаянию. Но – хвала господу! – мы все остались живы. Буря, пробушевав одиннадцать часов, начала затихать и понемногу совсем улеглась. Теперь бригантина плыла по воле волн, которые несли ее лигу за лигой на юго-восток. Наша команда была мертвецки пьяна, упившись тем коньяком, который так заботливо уберегла от морской соли; но если бы матросы и были трезвы, труд их большой пользы не принес бы, так как мы потеряли все снасти и бригантина представляла собою только голый корпус. В таком состоянии мы шли тридцать часов, когда среди черной ночи увидели огонь, который, видимо, приближался к нам и стал постепенно таким мощным, что наши матросы признали его за фонарь военного корабля; но когда мы уже льстили себя надеждой на избавление от бедствия, огонь вдруг, к великому нашему горю, исчез, оставив нас в унынии, возраставшем при воспоминании о тех мечтах, какими тешилась наша фантазия, пока он светил нам. Остаток ночи мы провели, строя печальные догадки о покинувшем нас огне, который большинство моряков объявило теперь метеором.
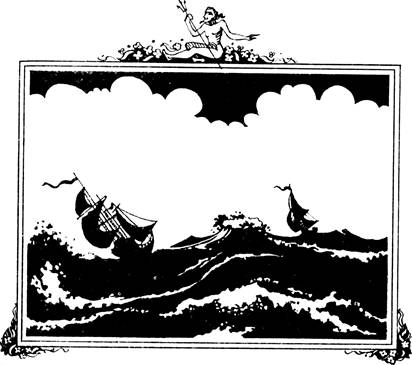
В нашей горести оставалось у нас одно утешение – обильный запас провианта; это так поддерживало дух матросов, что, по их словам, будь у них и водки вдоволь, им хоть месяц еще не ступать на сушу – все бы нипочем! Однако мы были куда ближе к берегу, чем воображали, как показал нам рассвет. Один из самых знающих в нашей команде разъяснил, что мы находимся вблизи африканского материка; но, когда мы были всего в трех лигах от земли, снова поднялась сильная буря – на этот раз с севера, так что мы опять потеряли всякую надежду на спасение. Буря эта была не столь яростна, как первая, но куда более длительна, – она бушевала почти три дня и отнесла нас на несчетные лиги к югу. Мы находились в одной лиге от какого-то берега, ожидая каждую минуту, что корабль наш разобьется в щепы, когда буря вдруг унялась. Но волны еще вздымались, точно горы, и, прежде чем заштилело, нас бросило так близко к земле, что капитан приказал спустить свою лодку, объявив, что почти не надеется спасти бригантину; и в самом деле, едва мы ее оставили, как через несколько минут увидели, что опасения его были справедливы, потому что она ударилась о скалу и тотчас затонула. Поведение моряков в этом случае сильно меня поразило: они глядели на обреченную бригантину с нежностью влюбленных или родителей; они говорили о ней, как преданный муж о жене; и многие из них, кому, думалось, природа отказала в слезах, лили их в три ручья, когда она шла ко дну. Сам капитан воскликнул: «Иди своей дорогой, прелестная Молли; никогда не глотало море более сладкого куска! Пусть дадут мне пятьдесят кораблей, ни один не полюблю я, как любил тебя. Бедная моя девчонка! Я буду помнить тебя до смертного дня».
Итак, мы благополучно достигли в лодке берега и причалили без труда. Было около полудня, и солнце пекло невероятно, его лучи почти отвесно падали нам на головы. Все же по этому мучительному зною мы прошли миль пять равниной. Перед нами встал теперь большой лес, тянувшийся направо и налево, покуда глаз хватал, и мне казалось, что он должен положить предел нашему движению вперед. Мы решили сделать здесь привал и подкрепиться той провизией, какую взяли с корабля, – от силы на несколько обедов: лодка наша была так перегружена людьми, что у нас оставалось очень мало места для всякого рода поклажи. Нашу трапезу составила отварная вяленая свинина, которую острая приправа голода сделала для моих спутников такой вкусной, что они очень основательно налегли на нее. Меня же усталость телесная и душевная так расслабила, что мне нисколько не хотелось есть; все искусство самого совершенного французского повара оказалось бы напрасным, когда бы он попробовал в тот час прельстить меня своими тонкими блюдами. Я думала о том, как мало выгадала я, снова выйдя живой из бури: мне казалось, я спасена лишь для того, чтобы погибнуть в другой стихии. Когда наши вволю – и, надо сказать, очень плотно – поели, они решили вступить в лес и попробовать пробиться сквозь него, в надежде набрести на каких-нибудь жителей или хотя бы найти что-либо годное в пищу. И вот мы пошли, установив такой порядок: один человек идет впереди с топором, расчищая дорогу; за ним следуют двое других с ружьями, защищая остальных от диких зверей; затем идут все прочие, а последним – сам капитан, тоже вооруженный ружьем, прикрывая нас от нападения сзади – с тыла, так это как будто говорится у вас? Наш отряд, общим счетом четырнадцать человек, шел и шел, пока нас не застигла ночь, и ничего по пути мы не встретили, кроме немногих птиц да кое-каких мелких зверюшек. Переночевали мы под укрытием каких-то деревьев, – да, сказать по правде, в эту пору года мы почти и не нуждались в крове, потому что единственно, с чем приходилось бороться в этом климате, была нещадная дневная жара. Не могу не упомянуть, что мой старый друг не преминул улечься на земле подле меня, объявив, что будет моим защитником, если кто-нибудь из моряков позволит себе хоть малейшую вольность; но я не могу обвинить матросов в подобных попытках: никто из них ни разу не оскорбил меня серьезнее, чем каким-либо грубым словом, да и это они позволяли себе скорее по невежеству и невоспитанности, чем вследствие распущенности или недостаточной гуманности.
Наутро мы выступили в поход и прошли совсем немного, когда один из матросов, проворно взобравшись на гору, прокричал в рупор, что совсем неподалеку видит город. Это сообщение так меня успокоило и придало мне столько силы и мужества, что при содействии моего старого друга и одного матроса, позволивших мне опереться на них, я кое-как добралась до вершины; но я так устала от подъема, так окончательно выбилась из сил, что не могла держаться на ногах и вынуждена была лечь на землю; меня так и не уговорили отважиться на спуск сквозь очень густой лес в равнину, в глубине которой действительно виднелась кучка домов или, скорее, хижин, но гораздо дальше, чем уверял нас тот матрос; то, что он назвал «неподалеку», составляло, как мне показалось, добрых двадцать миль, – да так оно, пожалуй, и было.
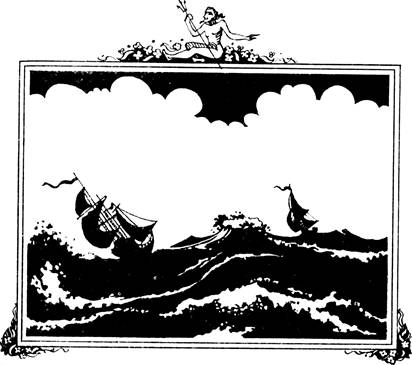
В нашей горести оставалось у нас одно утешение – обильный запас провианта; это так поддерживало дух матросов, что, по их словам, будь у них и водки вдоволь, им хоть месяц еще не ступать на сушу – все бы нипочем! Однако мы были куда ближе к берегу, чем воображали, как показал нам рассвет. Один из самых знающих в нашей команде разъяснил, что мы находимся вблизи африканского материка; но, когда мы были всего в трех лигах от земли, снова поднялась сильная буря – на этот раз с севера, так что мы опять потеряли всякую надежду на спасение. Буря эта была не столь яростна, как первая, но куда более длительна, – она бушевала почти три дня и отнесла нас на несчетные лиги к югу. Мы находились в одной лиге от какого-то берега, ожидая каждую минуту, что корабль наш разобьется в щепы, когда буря вдруг унялась. Но волны еще вздымались, точно горы, и, прежде чем заштилело, нас бросило так близко к земле, что капитан приказал спустить свою лодку, объявив, что почти не надеется спасти бригантину; и в самом деле, едва мы ее оставили, как через несколько минут увидели, что опасения его были справедливы, потому что она ударилась о скалу и тотчас затонула. Поведение моряков в этом случае сильно меня поразило: они глядели на обреченную бригантину с нежностью влюбленных или родителей; они говорили о ней, как преданный муж о жене; и многие из них, кому, думалось, природа отказала в слезах, лили их в три ручья, когда она шла ко дну. Сам капитан воскликнул: «Иди своей дорогой, прелестная Молли; никогда не глотало море более сладкого куска! Пусть дадут мне пятьдесят кораблей, ни один не полюблю я, как любил тебя. Бедная моя девчонка! Я буду помнить тебя до смертного дня».
Итак, мы благополучно достигли в лодке берега и причалили без труда. Было около полудня, и солнце пекло невероятно, его лучи почти отвесно падали нам на головы. Все же по этому мучительному зною мы прошли миль пять равниной. Перед нами встал теперь большой лес, тянувшийся направо и налево, покуда глаз хватал, и мне казалось, что он должен положить предел нашему движению вперед. Мы решили сделать здесь привал и подкрепиться той провизией, какую взяли с корабля, – от силы на несколько обедов: лодка наша была так перегружена людьми, что у нас оставалось очень мало места для всякого рода поклажи. Нашу трапезу составила отварная вяленая свинина, которую острая приправа голода сделала для моих спутников такой вкусной, что они очень основательно налегли на нее. Меня же усталость телесная и душевная так расслабила, что мне нисколько не хотелось есть; все искусство самого совершенного французского повара оказалось бы напрасным, когда бы он попробовал в тот час прельстить меня своими тонкими блюдами. Я думала о том, как мало выгадала я, снова выйдя живой из бури: мне казалось, я спасена лишь для того, чтобы погибнуть в другой стихии. Когда наши вволю – и, надо сказать, очень плотно – поели, они решили вступить в лес и попробовать пробиться сквозь него, в надежде набрести на каких-нибудь жителей или хотя бы найти что-либо годное в пищу. И вот мы пошли, установив такой порядок: один человек идет впереди с топором, расчищая дорогу; за ним следуют двое других с ружьями, защищая остальных от диких зверей; затем идут все прочие, а последним – сам капитан, тоже вооруженный ружьем, прикрывая нас от нападения сзади – с тыла, так это как будто говорится у вас? Наш отряд, общим счетом четырнадцать человек, шел и шел, пока нас не застигла ночь, и ничего по пути мы не встретили, кроме немногих птиц да кое-каких мелких зверюшек. Переночевали мы под укрытием каких-то деревьев, – да, сказать по правде, в эту пору года мы почти и не нуждались в крове, потому что единственно, с чем приходилось бороться в этом климате, была нещадная дневная жара. Не могу не упомянуть, что мой старый друг не преминул улечься на земле подле меня, объявив, что будет моим защитником, если кто-нибудь из моряков позволит себе хоть малейшую вольность; но я не могу обвинить матросов в подобных попытках: никто из них ни разу не оскорбил меня серьезнее, чем каким-либо грубым словом, да и это они позволяли себе скорее по невежеству и невоспитанности, чем вследствие распущенности или недостаточной гуманности.
Наутро мы выступили в поход и прошли совсем немного, когда один из матросов, проворно взобравшись на гору, прокричал в рупор, что совсем неподалеку видит город. Это сообщение так меня успокоило и придало мне столько силы и мужества, что при содействии моего старого друга и одного матроса, позволивших мне опереться на них, я кое-как добралась до вершины; но я так устала от подъема, так окончательно выбилась из сил, что не могла держаться на ногах и вынуждена была лечь на землю; меня так и не уговорили отважиться на спуск сквозь очень густой лес в равнину, в глубине которой действительно виднелась кучка домов или, скорее, хижин, но гораздо дальше, чем уверял нас тот матрос; то, что он назвал «неподалеку», составляло, как мне показалось, добрых двадцать миль, – да так оно, пожалуй, и было.
Глава IX,
содержащая ряд неожиданных происшествий
Капитан решил двинуться безотлагательно вперед к лежавшему перед ним городу; его решение подхватила вся команда; но, когда уговоры оказались бессильны и я не согласилась, да и не могла пойти дальше, пока не отдохну, мой старый друг объявил, что не покинет меня и останется при мне телохранителем, а когда я освежусь коротким отдыхом, он поведет меня в город, откуда капитан обещал без нас не уходить.
Как только они пустились в путь, я (поблагодарив сперва своего покровителя за его заботу обо мне) легла соснуть; сон немедленно смежил мои веки и, вероятно, долго меня продержал бы в своих отрадных владениях, если бы мой телохранитель не разбудил меня пожатием руки, которое я сперва приняла за сигнал об опасности, грозящей мне от какого-нибудь хищного зверя; но я быстро убедилась, что оно вызвано более мирной причиной и что любезный пастушок – единственный хищник, угрожающий моей безопасности. Тут он начал объясняться мне в своих чувствах с невообразимой страстью, пламенней, пожалуй, нежели прежние мои почитатели, но все же без всяких попыток прямого насилья. Я дала ему отпор с более резкой и горькой укоризной, чем всем другим искателям, исключая подлеца Уайлда. Я сказала ему, что он самая низкая и лицемерная тварь на земле; что, обрядив свои недостойные намеренья в плащ добродетели и дружбы, он придал им невыразимую гнусность; что из всех мужчин на свете он самый для меня противный, и если бы я могла дойти до проституции, то ему последнему довелось бы насладиться крушением моей чести. Он не позволил себе обозлиться в ответ на эти слова, а только попробовал подластиться по-другому – перейдя от нежностей к подкупу. Он подпорол подкладку своего камзола и вытащил несколько драгоценностей; он умудрился, сказал он, пронести их сквозь бесконечные опасности, чтобы увенчать ими счастье, если они склонят меня сдаться. Я отвергала их в крайнем негодовании снова и снова, пока не остановила нечаянный взгляд на бриллиантовом ожерелье, – и тут меня точно молнией озарило: я мгновенно узнала в нем то самое ожерелье, которое вы продали проклятому графу, виновнику всех наших бедствий! Неожиданность так поразила меня, что я сразу не подумала о том, кто этот негодяй, стоящий предо мною; но, едва опомнившись, сообразила, что он несомненно не кто иной, как сам граф, подлое орудие безжалостного Уайлда. Милосердное небо! В какое же я попала положенье! Как описать бурю чувств, вскипевшую тогда в моей груди? Однако, так как, по счастью, он меня не знал, у него не могло возникнуть и тени подозрения. Поэтому, подметив, с каким волнением я гляжу на ожерелье, он приписал это совсем другой причине и постарался придать своему лицу еще больше умильности. Моя тревога несколько улеглась, и я решила, что буду щедра на обещания, надеясь так прочно убедить его в своей продажности, что он даст обманывать себя до возвращения капитана и команды, которые, как я была уверена, не только оградят меня от насилия, но и помогут вернуть мне то, что было злодейски отнято у вас грабителем. Но увы! Я ошиблась.

Миссис Хартфри, снова подметив на лице мужа признаки крайнего беспокойства, воскликнула:
– Мой дорогой, не бойтесь ничего худого… Чтобы успокоить поскорей вашу тревогу, я продолжаю. Видя, что я отклоняю его пламенное искательство, он посоветовал мне как следует подумать; голос его и лицо сразу изменились, и, откинув притворно-ласковый тон, он поклялся, что я не проведу его, как того капитана; что Фортуна благосклонно бросает ему под ноги счастливый шанс и не такой он дурак, чтобы его упустить; а в заключение он крепко побожился, что решил усладиться мною сей же час, и, значит, я понимаю, к чему поведет сопротивление. Тут он схватил меня в объятия, и началось такое грубое домогательство, что я закричала во всю мочь, как ни мало было у меня надежды на чью-либо помощь, – когда вдруг из чащи выскочил кто-то, кого я сначала, в овладевшем мною смятении чувств и мыслей, даже не приняла за человека, – но поистине будь то самый лютый из диких зверей, я бы рада была, чтоб он сожрал нас обоих. Я еще не разглядела в его руке мушкета, как он выстрелил из него в насильника, и тот упал замертво к моим ногам. Тогда незнакомец подошел ко мне с самым любезным видом и сказал по-французски, что чрезвычайно рад счастливому случаю, приведшему его сюда в час, когда я нуждалась в помощи. За исключением ступней и чресел, он был обнажен, если можно это слово применить к существу, чье тело покрыто волосами почти так же густо, как у любого животного. В самом деле, вид его показался мне таким отталкивающим, что ни его дружеская услуга, ни вежливое обхождение не могли вполне устранить ужаса, внушенного мне его обликом. Я думаю, он ясно это видел, так как он попросил меня не пугаться, потому что, какими бы судьбами ни попала я сюда, мне следует благодарить небо за встречу с ним, на чью учтивость я могу уверенно рассчитывать и чья рука всегда окажет мне защиту. Среди всей этой сумятицы у меня все же достало духа поднять ларчик с драгоценностями, оброненный негодяем при падении, и положить его в карман. Мой избавитель, сказав, что я выгляжу крайне слабой и усталой, предложил мне отдохнуть в его маленькой хижине, находившейся, по его словам, тут же рядом.
Даже не будь его обхождение так любезно и обязательно, безвыходное мое положение принудило бы меня согласиться. Как можно было колебаться в выборе: довериться ли этому человеку, который, несмотря на дикий свой вид, выказал столь большую готовность служить мне и чье лицемерие по меньшей мере не было доказано, – или же отдаться во власть другого, о котором я знала доподлинно, что он законченный негодяй. Итак, я отдала свою судьбу в его руки, умоляя о сострадании к моей чистоте, которая вся в его власти. Он ответил, что обида, которой он был свидетелем, – обида, исходившая, как видно, от человека, нарушившего доверие, – достаточно оправдывает мою подозрительность; однако он просит меня отереть слезы и постарается мне скоро доказать, что предо мною человек совсем другого склада. Любезный тон его несколько меня успокоил, равно как и возвращение наших драгоценностей – такое нежданное, что хотелось верить в благосклонность ко мне провидения.
Негодяй, когда мы двинулись в путь, по-прежнему лежал в луже собственной крови, но к нему уже возвращались признаки жизни, и мы быстрым шагом пошли к хижине или, скорее, к пещере, так как она была выкопана в земле на склоне холма; жилище это расположено было очень приятно, и с его порога открывался вид на широкую равнину и город, виденные мною раньше. Как только я вошла, хозяин предложил мне сесть на земляную скамью, заменявшую стулья, и разложил предо мною всевозможные плоды, дико растущие в той стране, из которых два или три оказались превосходными на вкус. Подал он еще какое-то печеное мясо, напоминавшее дичь. Потом достал бутылку коньяку, которая, сказал он, осталась у него с того времени, когда он впервые поселился здесь, – а тому уже тридцать с лишним лет, – но за все эти годы он ее так и не откупорил, потому что единственный его напиток – вода; бутылку же эту он сохранял как подкрепляющее средство на случай болезни, однако ему, слава богу, ни разу не представилось надобности в лекарстве. Затем он сообщил мне, что он отшельник, что его когда-то выбросило на этот берег вместе с женой, которую он горячо любил, но не сумел уберечь от гибели, – из-за этого-то он и решил не возвращаться больше во Францию, свою родную страну, и предаться молитвам и святой жизни, блаженно уповая на встречу с любимой в небесах, где, как он твердо верит, она теперь приобщилась к сонму святых и является его заступницей. Он рассказал, что обменял свои часы у короля этой страны, по его словам очень справедливого и хорошего человека, на ружье и запас пороха, дроби и пуль, которыми пользуется иногда, чтобы добыть себе пропитание, но больше для защиты от диких зверей; живет же он главным образом растительной пищей. Он поведал мне еще многое, о чем я расскажу вам после, а сейчас буду говорить как можно короче. Под конец он очень меня утешил, пообещав проводить в морской порт, где, возможно, мне удастся застать какой-нибудь невольничий корабль; и тогда я смогу отдаться на волю той стихии, которой, как ни много она уже принесла мне страданий, я должна буду ввериться, чтобы вновь обрести все, чем я дорожу на земле.
Жителей города, который видели мы внизу, и их короля он расписал такими приветливыми, что возбудил во мне желание отправиться туда, – тем более что мне не терпелось снова увидеться с капитаном и матросами, которые были ко мне так добры и среди которых, несмотря на всю учтивость отшельника, я все же чувствовала бы себя спокойней, чем наедине с этим человеком. Он, однако, очень отговаривал меня пускаться в поход, покуда я не восстановлю свои силы, и настаивал, чтобы я легла на его ложе, то есть на скамью, сказав, что сам он удалится из пещеры и останется у входа сторожем. Я приняла это любезное предложение, но долго сон не шел ко мне; наконец, однако, усталость взяла верх над моими тревогами, и я опять сладко проспала несколько часов. Пробудившись, я нашла своего верного часового на посту, готового явиться по первому моему зову. Такое поведение внушило мне некоторое доверие к нему, и я повторила свою просьбу проводить меня в тот город на равнине; но он в ответ посоветовал мне подкрепиться едой, прежде чем пускаться в путь, который будет длиннее, чем мне представляется. Я согласилась, и он выставил еще больше разнообразных плодов, чем в первый раз, и я поела их вволю. Покончив со своим полдником, я снова заговорила о том, что мне пора отправляться, но он опять принялся настойчиво меня отговаривать, уверяя, что я еще не набралась сил, что нигде я не смогу отдохнуть спокойней, чем у него в пещере; лично же для него не может быть большего счастья, чем всячески мне услужать, сказал он и со вздохом добавил, что в этом счастье он всякому другому больше позавидовал бы, чем во всех дарах судьбы. Вы легко представите себе, какие подозрения встревожили меня тогда, но он сразу устранил всякое сомнение, бросившись к моим ногам и объяснившись мне в самой пылкой любви. Я бы впала в отчаяние, не сопроводи он свое признание ревностными завереньями, что никогда не применит ко мне иной силы, кроме силы мольбы, и что согласен скорей умереть самой жестокой смертью от моей холодности, чем купить высшее блаженство, позволив слезам и печали затуманить эти ясные глаза, эти звезды, сказал он, под благотворным влиянием которых только и возможно для него радоваться жизни или даже просто влачить ее…
Она повторила еще немало комплиментов, выслушанных ею от отшельника, когда страшный переполох, взволновавший весь замок, внезапно прервал ее рассказ. Я не могу дать читателю лучшего представления об этом шуме, как предложив ему вообразить, что у меня появились те сто языков, которых некогда пожелал для себя поэт, и что я пустил их в ход все сразу, вопя, ругаясь, крича, кляня, ревя, – короче сказать, производя все разнообразие звуков, доступное органу речи.
Как только они пустились в путь, я (поблагодарив сперва своего покровителя за его заботу обо мне) легла соснуть; сон немедленно смежил мои веки и, вероятно, долго меня продержал бы в своих отрадных владениях, если бы мой телохранитель не разбудил меня пожатием руки, которое я сперва приняла за сигнал об опасности, грозящей мне от какого-нибудь хищного зверя; но я быстро убедилась, что оно вызвано более мирной причиной и что любезный пастушок – единственный хищник, угрожающий моей безопасности. Тут он начал объясняться мне в своих чувствах с невообразимой страстью, пламенней, пожалуй, нежели прежние мои почитатели, но все же без всяких попыток прямого насилья. Я дала ему отпор с более резкой и горькой укоризной, чем всем другим искателям, исключая подлеца Уайлда. Я сказала ему, что он самая низкая и лицемерная тварь на земле; что, обрядив свои недостойные намеренья в плащ добродетели и дружбы, он придал им невыразимую гнусность; что из всех мужчин на свете он самый для меня противный, и если бы я могла дойти до проституции, то ему последнему довелось бы насладиться крушением моей чести. Он не позволил себе обозлиться в ответ на эти слова, а только попробовал подластиться по-другому – перейдя от нежностей к подкупу. Он подпорол подкладку своего камзола и вытащил несколько драгоценностей; он умудрился, сказал он, пронести их сквозь бесконечные опасности, чтобы увенчать ими счастье, если они склонят меня сдаться. Я отвергала их в крайнем негодовании снова и снова, пока не остановила нечаянный взгляд на бриллиантовом ожерелье, – и тут меня точно молнией озарило: я мгновенно узнала в нем то самое ожерелье, которое вы продали проклятому графу, виновнику всех наших бедствий! Неожиданность так поразила меня, что я сразу не подумала о том, кто этот негодяй, стоящий предо мною; но, едва опомнившись, сообразила, что он несомненно не кто иной, как сам граф, подлое орудие безжалостного Уайлда. Милосердное небо! В какое же я попала положенье! Как описать бурю чувств, вскипевшую тогда в моей груди? Однако, так как, по счастью, он меня не знал, у него не могло возникнуть и тени подозрения. Поэтому, подметив, с каким волнением я гляжу на ожерелье, он приписал это совсем другой причине и постарался придать своему лицу еще больше умильности. Моя тревога несколько улеглась, и я решила, что буду щедра на обещания, надеясь так прочно убедить его в своей продажности, что он даст обманывать себя до возвращения капитана и команды, которые, как я была уверена, не только оградят меня от насилия, но и помогут вернуть мне то, что было злодейски отнято у вас грабителем. Но увы! Я ошиблась.

Миссис Хартфри, снова подметив на лице мужа признаки крайнего беспокойства, воскликнула:
– Мой дорогой, не бойтесь ничего худого… Чтобы успокоить поскорей вашу тревогу, я продолжаю. Видя, что я отклоняю его пламенное искательство, он посоветовал мне как следует подумать; голос его и лицо сразу изменились, и, откинув притворно-ласковый тон, он поклялся, что я не проведу его, как того капитана; что Фортуна благосклонно бросает ему под ноги счастливый шанс и не такой он дурак, чтобы его упустить; а в заключение он крепко побожился, что решил усладиться мною сей же час, и, значит, я понимаю, к чему поведет сопротивление. Тут он схватил меня в объятия, и началось такое грубое домогательство, что я закричала во всю мочь, как ни мало было у меня надежды на чью-либо помощь, – когда вдруг из чащи выскочил кто-то, кого я сначала, в овладевшем мною смятении чувств и мыслей, даже не приняла за человека, – но поистине будь то самый лютый из диких зверей, я бы рада была, чтоб он сожрал нас обоих. Я еще не разглядела в его руке мушкета, как он выстрелил из него в насильника, и тот упал замертво к моим ногам. Тогда незнакомец подошел ко мне с самым любезным видом и сказал по-французски, что чрезвычайно рад счастливому случаю, приведшему его сюда в час, когда я нуждалась в помощи. За исключением ступней и чресел, он был обнажен, если можно это слово применить к существу, чье тело покрыто волосами почти так же густо, как у любого животного. В самом деле, вид его показался мне таким отталкивающим, что ни его дружеская услуга, ни вежливое обхождение не могли вполне устранить ужаса, внушенного мне его обликом. Я думаю, он ясно это видел, так как он попросил меня не пугаться, потому что, какими бы судьбами ни попала я сюда, мне следует благодарить небо за встречу с ним, на чью учтивость я могу уверенно рассчитывать и чья рука всегда окажет мне защиту. Среди всей этой сумятицы у меня все же достало духа поднять ларчик с драгоценностями, оброненный негодяем при падении, и положить его в карман. Мой избавитель, сказав, что я выгляжу крайне слабой и усталой, предложил мне отдохнуть в его маленькой хижине, находившейся, по его словам, тут же рядом.
Даже не будь его обхождение так любезно и обязательно, безвыходное мое положение принудило бы меня согласиться. Как можно было колебаться в выборе: довериться ли этому человеку, который, несмотря на дикий свой вид, выказал столь большую готовность служить мне и чье лицемерие по меньшей мере не было доказано, – или же отдаться во власть другого, о котором я знала доподлинно, что он законченный негодяй. Итак, я отдала свою судьбу в его руки, умоляя о сострадании к моей чистоте, которая вся в его власти. Он ответил, что обида, которой он был свидетелем, – обида, исходившая, как видно, от человека, нарушившего доверие, – достаточно оправдывает мою подозрительность; однако он просит меня отереть слезы и постарается мне скоро доказать, что предо мною человек совсем другого склада. Любезный тон его несколько меня успокоил, равно как и возвращение наших драгоценностей – такое нежданное, что хотелось верить в благосклонность ко мне провидения.
Негодяй, когда мы двинулись в путь, по-прежнему лежал в луже собственной крови, но к нему уже возвращались признаки жизни, и мы быстрым шагом пошли к хижине или, скорее, к пещере, так как она была выкопана в земле на склоне холма; жилище это расположено было очень приятно, и с его порога открывался вид на широкую равнину и город, виденные мною раньше. Как только я вошла, хозяин предложил мне сесть на земляную скамью, заменявшую стулья, и разложил предо мною всевозможные плоды, дико растущие в той стране, из которых два или три оказались превосходными на вкус. Подал он еще какое-то печеное мясо, напоминавшее дичь. Потом достал бутылку коньяку, которая, сказал он, осталась у него с того времени, когда он впервые поселился здесь, – а тому уже тридцать с лишним лет, – но за все эти годы он ее так и не откупорил, потому что единственный его напиток – вода; бутылку же эту он сохранял как подкрепляющее средство на случай болезни, однако ему, слава богу, ни разу не представилось надобности в лекарстве. Затем он сообщил мне, что он отшельник, что его когда-то выбросило на этот берег вместе с женой, которую он горячо любил, но не сумел уберечь от гибели, – из-за этого-то он и решил не возвращаться больше во Францию, свою родную страну, и предаться молитвам и святой жизни, блаженно уповая на встречу с любимой в небесах, где, как он твердо верит, она теперь приобщилась к сонму святых и является его заступницей. Он рассказал, что обменял свои часы у короля этой страны, по его словам очень справедливого и хорошего человека, на ружье и запас пороха, дроби и пуль, которыми пользуется иногда, чтобы добыть себе пропитание, но больше для защиты от диких зверей; живет же он главным образом растительной пищей. Он поведал мне еще многое, о чем я расскажу вам после, а сейчас буду говорить как можно короче. Под конец он очень меня утешил, пообещав проводить в морской порт, где, возможно, мне удастся застать какой-нибудь невольничий корабль; и тогда я смогу отдаться на волю той стихии, которой, как ни много она уже принесла мне страданий, я должна буду ввериться, чтобы вновь обрести все, чем я дорожу на земле.
Жителей города, который видели мы внизу, и их короля он расписал такими приветливыми, что возбудил во мне желание отправиться туда, – тем более что мне не терпелось снова увидеться с капитаном и матросами, которые были ко мне так добры и среди которых, несмотря на всю учтивость отшельника, я все же чувствовала бы себя спокойней, чем наедине с этим человеком. Он, однако, очень отговаривал меня пускаться в поход, покуда я не восстановлю свои силы, и настаивал, чтобы я легла на его ложе, то есть на скамью, сказав, что сам он удалится из пещеры и останется у входа сторожем. Я приняла это любезное предложение, но долго сон не шел ко мне; наконец, однако, усталость взяла верх над моими тревогами, и я опять сладко проспала несколько часов. Пробудившись, я нашла своего верного часового на посту, готового явиться по первому моему зову. Такое поведение внушило мне некоторое доверие к нему, и я повторила свою просьбу проводить меня в тот город на равнине; но он в ответ посоветовал мне подкрепиться едой, прежде чем пускаться в путь, который будет длиннее, чем мне представляется. Я согласилась, и он выставил еще больше разнообразных плодов, чем в первый раз, и я поела их вволю. Покончив со своим полдником, я снова заговорила о том, что мне пора отправляться, но он опять принялся настойчиво меня отговаривать, уверяя, что я еще не набралась сил, что нигде я не смогу отдохнуть спокойней, чем у него в пещере; лично же для него не может быть большего счастья, чем всячески мне услужать, сказал он и со вздохом добавил, что в этом счастье он всякому другому больше позавидовал бы, чем во всех дарах судьбы. Вы легко представите себе, какие подозрения встревожили меня тогда, но он сразу устранил всякое сомнение, бросившись к моим ногам и объяснившись мне в самой пылкой любви. Я бы впала в отчаяние, не сопроводи он свое признание ревностными завереньями, что никогда не применит ко мне иной силы, кроме силы мольбы, и что согласен скорей умереть самой жестокой смертью от моей холодности, чем купить высшее блаженство, позволив слезам и печали затуманить эти ясные глаза, эти звезды, сказал он, под благотворным влиянием которых только и возможно для него радоваться жизни или даже просто влачить ее…
Она повторила еще немало комплиментов, выслушанных ею от отшельника, когда страшный переполох, взволновавший весь замок, внезапно прервал ее рассказ. Я не могу дать читателю лучшего представления об этом шуме, как предложив ему вообразить, что у меня появились те сто языков, которых некогда пожелал для себя поэт, и что я пустил их в ход все сразу, вопя, ругаясь, крича, кляня, ревя, – короче сказать, производя все разнообразие звуков, доступное органу речи.
Глава X
Страшный переполох в замке
Но как ни грандиозно выведенное отсюда читателями представление об этом шуме, его причина покажется более чем закономерной, когда станет им известна: наш герой (с краской стыда говорю об этом) открыл, что его чести нанесено оскорбление – и по самому чувствительному пункту. Словом, читатель (ты должен это узнать, хоть это и вызовет у тебя величайшее возмущение), он застиг Файрблада в объятиях прелестной Летиции.
Бывает, благородный бык, который долго пасся среди множества коров и потому привык считать всех этих коров своею собственностью, увидит вдруг, что в отведенных ему пределах другой бык охаживает корову, и тогда, громко взревев, он станет грозить обидчику мгновенной расправой при помощи рогов, пока не всполошит всю округу. Не менее грозно, не менее громогласно прорвалась ярость Уайлда и повергла в ужас весь замок.
Бешенство долго не давало ему говорить сколько-нибудь членораздельно так в приемный день пятнадцать, шестнадцать, а то и вдвое больше женщин нежными, но пронзительными флейтами зальются все сразу, каждая о своем, и мы услышим гул, гармонию, вполне, конечно, мелодическую, но эти звуковые сочетания не передадут нам через слух никаких понятий. Наконец, когда у нашего героя разум начал брать верх над страстью, а страсть, не получив своевременной помощи со стороны дыхания, начала отступать, – следующие выражения стали перескакивать через забор его зубов, или, скажем, через канаву его десен, откуда колья этого забора давно уже были выбиты в сражении с некоей амазонкой из Друри-Лейна.
Бывает, благородный бык, который долго пасся среди множества коров и потому привык считать всех этих коров своею собственностью, увидит вдруг, что в отведенных ему пределах другой бык охаживает корову, и тогда, громко взревев, он станет грозить обидчику мгновенной расправой при помощи рогов, пока не всполошит всю округу. Не менее грозно, не менее громогласно прорвалась ярость Уайлда и повергла в ужас весь замок.
Бешенство долго не давало ему говорить сколько-нибудь членораздельно так в приемный день пятнадцать, шестнадцать, а то и вдвое больше женщин нежными, но пронзительными флейтами зальются все сразу, каждая о своем, и мы услышим гул, гармонию, вполне, конечно, мелодическую, но эти звуковые сочетания не передадут нам через слух никаких понятий. Наконец, когда у нашего героя разум начал брать верх над страстью, а страсть, не получив своевременной помощи со стороны дыхания, начала отступать, – следующие выражения стали перескакивать через забор его зубов, или, скажем, через канаву его десен, откуда колья этого забора давно уже были выбиты в сражении с некоей амазонкой из Друри-Лейна.
