Страница:
— Кто тут его товарищи?
Самигулла назвал Зекерию, Аитбая, ещё нескольких парней. Жандарм тут же велел старосте вызвать их. Пока десятский ходил за парнями, Богомолов продолжал допрашивать Самигуллу.
— Кто ещё из его близких живёт в вашем ауле?
— В Ташбаткане больше никого нет. В Гумерове живут его мать и отчим, Гиляж.
— Мать он навещал?
— Попробовал бы не навестить, я б его!
— Хорошо, хорошо!.. А отчим, говоришь, Гиляж?.. Как его фамилия?
— Какую фамилию носит — этого я не знаю. А по имени — Гиляж.
— Шурин твой в последние дни в аул не заглядывал?
— Нет, не заглядывал.
Между тем привели Зекерию с Аитбаем. Богомолов допросил и их. Чего добивался жандарм — никто не мог понять. Но из того, как откровенно он досадовал и морщился, нетрудно было вывести: ничего важного выудить при допросе не сумел. Да и что могли сказать парни? Ну, росли вместе, на речку вместе бегали. Что было нынешним летом? Ничего не было. Ходили вечерами гурьбой по аулу, песни пели, пляски устраивали.
Когда Богомолов отпустил парней, староста почему-то шёпотом сообщил ему:
— Жена моя рассказывала: этого Сунагата не раз видели с дочерью Ахмади…
И тут же пожалел, что не придержал язык за зубами, впутал в неприятное дело Ахмади: жандарм велел вызвать и его вместе с дочерью.
Ахмади пришёл один. На вопрос Богомолова ответил, что Сунагата не знает и знать не желает.
— Только от ребятишек слышал, что приходил в аул, а видеть его не видел, — добавил он.
— Как так — не видел. Он же с твоей дочерью встречался, отношения у них были более чем дружеские…
Слова жандарма ошарашили Ахмади: для него это была новость. Он столбом стоял посреди горницы, то бледнея, то краснея. Пробормотал, сгорая со стыда:
— Может, и встречались. За молодыми не уследишь…
— Разве он не бывал у вас?
— Ни разу этот парень не ступал на мой порог.
— «Парень!» Бунтовщик он, вот кто! Сбежал из тюрьмы… Всё ж странно: чуть ли не будущий зять, а ничего о нём не знаешь!
Тут за Ахмади вступился хранивший молчание Стрельников. Объяснил следователю, что у башкир, тем более в таких вот глухих аулах, молодёжь очень скрытна. Если парень и девушка полюбят друг друга, они держат свой секрет за семью замками, особенно тщательно скрывают свои взаимоотношения от родителей. По обычаю даже после свадьбы молодой муж долгое время не показывается на глаза тестю. Так что неведение Ахмади, человека, по его, Стрельникова, сведениям, вполне благонадёжного, можно считать естественным.
Следователь опять недовольно поморщился.
— А где твоя дочь? — сердито спросил он у Ахмади.
Что мог ответить Ахмади? Теперь уже не было сомнений — дочь прошлой ночью сбежала из дому. Факиха довольно быстро установила это, заглянув в сундук: оттуда исчезли кое-какие вещи дочери, несколько кусков ткани, пачка чая… О бегстве Фатимы уже знали и в ауле; женщины, встречаясь на улице, горячо обсуждали случившееся, одни хвалили девушку за решительность, другие осуждали её. Конечно, шила в мешке не утаишь, новость эта в конце концов может дойти и до жандармов, но Ахмади пока что предпочёл не говорить о своём позоре.
— Ушла в гости в Гумерово, — коротко ответил он на вопрос следователя.
Потирая, чтобы отогнать сон, глаза, парнишка вышел за околицу села. Лошадей поблизости не было видно. Лишь пройдя версты две по большаку, ведущему в сторону завода, Зиннур отыскал их по звуку ботала в уреме.
Когда он верхом, со второй лошадью в поводу, ехал домой, вдалеке показалась торопливо идущая навстречу женщина. Зиннур, пожалуй, и не обратил бы на неё внимания, проехал мимо — мало ли людей ходит по большой дороге! — но женщина повела себя странно. Увидев верхового, она вдруг свернула с большака и побежала к уреме. Парнишкой овладело любопытство: кто такая, почему побежала? Он тоже свернул к уреме.
Место было заболоченное. Женщина на бегу споткнулась о кочку, упала; узелок, который она несла, развязался. Быстро поднявшись и собрав рассыпавшиеся вещи, женщина вновь устремилась к уреме, хотя ноги её уже по щиколотку уходили в болотную жижу. Вскоре она скрылась за кустами. Зиннур, успевший подъехать к ней довольно близко, гнать лошадей в трясину не решился.
«Наверно, воровка, а то не побежала бы», — подумал он.
На том месте, где женщина упала, Зиннур подобрал завёрнутую в бумагу пачку чая. «Тут одно из двух: или воровка, или сумасшедшая, сбежавшая из дому», — решил парнишка. В любом случае о происшествии следовало сообщить старосте.
Хлестнув лошадей путами, снятыми с их ног, Зиннур помчался к селу. Не заезжая домой, он прямиком направился к гумеровскому старосте Рахманголу, рассказал ему о странной встрече, показал найденную у болота пачку чая.
Староста тут же вызвал десятских, Аптуллу и Хамита, велел оседлать коней, настичь сбежавшую в урему подозрительную женщину — то ли воровку, то ли безумную — и доставить её в село.
Десятские поскакали к указанному Зиннуром месту, прошли, спешившись, через урему до самой речки, но никого не обнаружили.
Вернувшись к своим коням, поехали вдоль уремы, затем — по большаку, всё более отдаляясь от села. За поворотом увидели одинокую женскую фигуру.
Конным догнать пешую — долгое ли дело! Но женщина, должно быть, услышав топот, оглянулась и метнулась к лесу, с которым поравнялась.
— Наверно, та самая! — высказал предположение Аптулла, придерживая коня.
Надо заметить, он не горел желанием преследовать загадочную женщину, уже скрывшуюся в лесу. Более того, на него накатил страх: вдруг это в самом деле помешанная, да ещё буйная! Она же что угодно может выкинуть: вцепиться зубами в горло, ножом пырнуть…
Его товарищу такие мрачные мысли в голову не приходили.
— Она! — крикнул Хамит уверенно. В голосе его слышался азарт. — Быстрей!
— Никуда теперь не денется! — отозвался Аптулла. — Лес-то голый, насквозь просматривается.
Осторожно, отгибая ветви, десятские въехали в лес. Искали недолго — уже в сотне шагов от опушки разглядели притаившуюся за кучей валежника фигуру.
— Эй! Ты кто? Выходи! — крикнул Аптулла, натягивая поводья.
Молчание.
— Выходи, тебе говорят! Стрелять буду! — пригрозил Хамит, хотя стрелять им было не из чего.
Над кучей валежника показалось испуганное лицо. Десятские удивлённо переглянулись. Та, кого они считали женщиной, притом опасной, оказалась совсем молоденькой девушкой. Да ещё какой красавицей!
Пригибаясь там, где ветви низко нависали над землёй, то и дело оглядываясь, будто ожидая выстрела сзади, девушка выбралась в прогал между деревьями и встала, низко опустив голову. В руке у неё был узелок.
— Кто ты? Что молчишь? Иль ты немая? Отвечай! — заорал Хамит.
Ни слова в ответ.
— Ла-адно! Топай к селу, староста разберётся…
— Дяденьки! — заговорила дрожащим голосом девушка — Я… я…
— «Я… я…» — передразнил Хамит. — Тебе ясно сказано — чеши в сторону села!
— Дяденьки, я иду к сестре в Ситйылгу, от пустите меня!
— Ври больше! Поворот на Ситйылгу вон где остался. Ну, шагай!
Девушка не двигалась с места.
Разозлённый Хамит соскочил с коня, потянулся к вожжам, притороченным к седлу Аптуллы.
— Дай-ка вожжи!.. Вот мы тебе свяжем руки, заарканим за шею да так и поведём!
— Отпустите меня, пожалуйста, — заплакала девушка. — Я ж к сестре в гости иду…
— Как звать сестру?
Девушка растерялась, не смогла назвать имя. Хамит решительно двинулся к ней с вожжами в руке. Девушка, увидев это, пошла, всё ещё плача, в сторону дороги. Десятские, несколько отстав, последовали за ней.
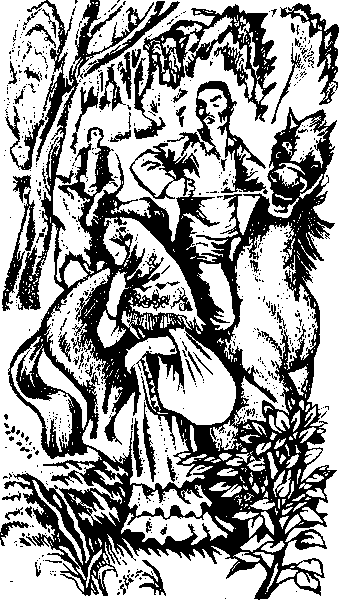
У поворота на Ситйылгу Аптулла предложил:
— Слушай, может, отпустим её, а? Может, и вправду идёт к сестре, а дорогу не знает? Ста росте скажем — не смогли отыскать…
Хамит в ответ лишь сердито блеснул глазами.
У околицы села он подторопил коня, обогнал девушку.
— Иди за мной!
Задержанную привели во двор Рахмангола. Хамит вошёл в дом, доложил старосте:
— Привели… Вот её узелок, — и положил на нары вещи, отобранные у девушки во дворе.
— Связывать не пришлось?
— Нет. Сама пошла. На помешанную не похожа, разговаривает нормально. В Ситйылгу, говорит, к сестре иду. Врёт. Шла в сторону завода, имя сестры назвать не смогла. Кто такая, откуда — не признаётся. Но не из нашего села, это точно…
— Так, так… — неопределённо произнёс Рахмангол и развязал лежавший на нарах узелок. Там оказались женское исподнее, несколько аршинов сатина, пять рублей денег — серебром и в бумажках, полкаравая хлеба. Да вдобавок — найденный Зиннуром чай.
— Хэ! Дела-а… — протянул староста. — Тут что-то нечисто. Где она всё это взяла? Требуется расследование. Придётся, наверно, посадить её в клеть.
Ещё раз перебрав вещи задержанной, староста приказал пялившемуся на женское исподнее Хамиту:
— Иди, приведи сюда, посмотрим-ка на неё!
Хамит с Аптуллой ввели девушку в дом. Веки у неё распухли от слёз. И, должно быть, инстинктивно стремясь скрыть это от чужих взглядов, она приспустила платок почти на самые глаза, а лицо прикрыла шалью, накинутой поверх платка. Войдя, остановилась у порога, прислонилась к дверному косяку.
— Откуда ты, сестричка? — спросил Рахмангол, решив, что ласковое обращение быстрее развяжет ей язык.
Девушка не ответила.
— Чья ты дочь? Девушка упорно молчала.
— Эй, жена! — крикнул Рахмангол. — Зайди-ка быстренько сюда!
Из другой половины прибежала старостиха.
— Что стряслось? Атак, не то лавку вы здесь открыли? Товары, деньги разложили…
— Ну, женщине только покажи товар — душу готова в обмен отдать. Не туда смотришь! Взгляни-ка вот на неё, — сказал Рахмангол, указывая взглядом на девушку.
— Аллах милостивый! Никак дочь ташбатканской Факихи? Верно, верно! Это ж Фатима!
— А Факиха — чья она жена?
— Жена Ахмади.
— Какого Ахмади?
— Да этого самого… Ну, который мочало скупает. Он ещё летом с Самигуллой, свояком Гиляж-бая, судился.
— Не-е, не с Самигуллой, а с его сватом, Вагапом, — вмешался Хамит. — Самигулла свидетелем ездил.
— Может, и так, — согласилась старостиха.
— Куда ж ты путь держала, сестрица? — спросил Рахмангол.
Фатима молча заплакала.
— Девушку никуда из дому не выпускайте, — сказал староста, обращаясь к жене. — Ты, Хамит, сейчас же скачи в Ташбаткан, скажи Ахмади, чтоб приехал за дочерью. Ты, Аптулла, постой у ворот, посторожи.
Конечно, надёжней было бы посадить задержанную в клеть, как намеревался Рахмангол поначалу, но это выглядело бы арестом и опозорило её отца, человека в округе известного и влиятельного. Поэтому намерения своего староста не осуществил.
Старостиха же, хорошо знавшая Факиху, отнеслась к девушке с сочувствием; уведя её в другую половину дома, предложила чаю. Но Фатима пить чай не стала — всё плакала и плакала.
«Всё… Пропала я, пропала! — мысленно повторяла она в отчаянии. — Теперь и шагу шагнуть из дома не дадут. Пропала… Будь проклят этот мир! Нет в нём для меня радости…»
Гариф проводил грозных гостей, выражая великое почтение к ним.
За околицей аула навстречу жандармам попался всадник, который тоже в знак почтения стянул с головы шапку. Это был гумеровский десятник Хамит, посланец старосты Рахмангола.
Хамит, несколько раз оглянувшись, погнал коня к Верхней улице. Он решил вначале навестить живущую в Ташбаткане сестру, у неё и справиться, как найти дом Ахмади. «Птичка в надёжной клетке, небось не улетит, — рассудил он. — Не где-нибудь — у самого старосты в доме сидит. Пускай посидит, спешить ей вроде и ни к чему…»
Хамит подъехал к знакомым воротам. Во дворе никого не было, и из дому на его голос никто не вышел. Всё ж он спешился, привязал коня под навесом, перекинул стремена через седло, чтоб не упала с него подушка, и, помахивая плёткой, вошёл в дом. В горнице сидела старуха с обмотанной полотенцем головой.
— Здорово, сватья! А где хозяева? — спросил Хамит. — Зятёк в отъезде или вышел куда?
— Ушёл на пруд мочало драть. А килен, должно, у соседей, только что на улице её видела.
Тут прибежала запыхавшаяся сестра Хамита.
— Единственный брат в гости приехал, а ты где-то гуляешь, — пошутил он.
— Ставь, килен, самовар! — подсказала старуха.
— Не утруждайтесь. Я заглянул ненадолго, только узнать, как живёте-можете. Тороплюсь.
— Бэй-бэй! Дела твои, наверно, никуда не денутся, пока чашку чая выпьешь, — возмутилась сестра.
— Правда тороплюсь. Где тут живёт Ахмади?
— Который?
— Тот, что мочало скупает.
— А, Ахмади-ловушка. На Нижней улице живёт. Что за нужда тебя к нему гонит? Не до тебя ему сегодня.
— Почему?
— Да дочка у него сбежала. С самого утра колготятся, ищут…
— Раз она такая резвая, надо было путы на ноги наложить, а на шею колокольчик повесить, — сострил Хамит и, делая вид, будто ничего не знает, спросил:
— Куда ж она могла подеваться?..
— Люди говорят — на завод ушла. Там здешний парень, Сунагат, работает. Будто бы любят друг друга, вот к нему якобы и ушла.
«Вот оно как!» — удивился Хамит, но продолжал прикидываться ничего не ведающим.
— Только ведь всякое могло случиться. Братья её в погоню в сторону завода отправились, а тут в омутах баграми шарили, все сараи обыскали: не повесилась ли? Очень уж вчера, говорят, она горевала, думала — отдадут замуж за Талху, сына Усман-бая. Раз нигде тут не нашли — решили: ушла на завод.
— Небось Ахмади места себе не находит и тому, кто придёт к нему с хорошей вестью, отвалит богатый подарок, а?
— Ну да, отвалит, подставляй мешок! Дождёшься от этого скряги!
— Жалко! А я ведь хойенсе ему привёз. Дочка его у нас в Гумерове в доме старосты сидит.
Хамит рассказал, как они с Аптуллой поймали Фатиму, как привели к старосте Рахманголу, какие вещи обнаружили у неё в узелке.
— Вот те и на! Выходит, не только сбежала, но ещё и отца с матерью обокрала? Ну и бестия, ну и девушки в наше время пошли, спаси нас аллах!
— Порченая ныне молодёжь, — вставила сватья.
— Стало быть, Усман-бай чуть не лишился невестки, — осклабился Хамит. — Придётся ему теперь пригласить на свадьбу и меня.
— Ой, всё ж кину-ка я угольков в самовар, — засуетилась молодая хозяйка. — Я сейчас…
Она выбежала из дому — будто бы в летнюю кухню, но первым делом кинулась к ограде, поманила соседку, сообщила ей новость.
Полетела новость по аулу, обогнав гонца из Гумерова, обрастая подробностями, — тут уж досужие кумушки красок не пожалели.
— Фатиму-то в гумеровском лесу поймали!
— Правда? Где ж она сейчас?
— В Гумерове, говорят, взаперти сидит.
— Бедняжка!
— Чтоб ещё раз не сбежала, раздели донага… При ней большие деньги были — отца начисто обокрала.
— Иди ты! Выходит, к этому самому Сунагату она и направлялась?
— Куда ж ещё! Всё лето с ним путалась, это и слепой мог увидеть.
— Шайтан их свёл, не иначе. Шайтановы это проделки.
— Ночёвки в чужих домах к добру не ведут — девушки от рук отбиваются.
— Уж я теперь своей дочери не дам отбиться. Из дому — ни на шаг!
— Это урок для всех.
— Коль девчонки начинают вольничать, жди беды. Тут уж их или пороть надо, или запирать…
Новость быстро дошла и до сверстниц Фатимы. Неудача, постигшая подружку, взволновала их; они и жалели Фатиму, и восхищались ею: «Всё ж среди нас тоже нашлась одна смелая!» Говоря так, они имели в виду ещё и гумеровскую девушку, которая незадолго до этого тайком ушла с любимым в Тиряклы.
Больше всех в ауле, пожалуй, была взволнована Салиха. До этого её терзала мысль о том, что напрасно согласилась отпустить Фатиму одну. Сердцем чуяла: подведёт бедняжку неопытность. Терзания её усилились, когда узнала, чем кончилось сватовство Усман-бая. Выходит, не стоило Фатиме самой срываться с места, разумней было ждать Сунагата. Но вот выяснилось, что Сунагат попал в тюрьму и бежал оттуда. Неожиданность за неожиданностью! Не столько из-за племянника загоревала Салиха, сколько из-за несчастной доли Фатимы. А теперь ещё новость, которую привёз гумеровский десятский…
Весь аул уже обсуждал эту новость, только в доме Ахмади не знали о ней, — скорее всего потому, что подрядчик в это время был сильно занят: чинил расправу над женой.
Хамит, подъехав к воротам Ахмади, резко натянул поводья. Из дому доносились душераздирающие вопли, слышались глухие удары — будто били топором по гнилому дереву. Прерывающийся мужской голос твердил: «Найди… найди дочь!.. Ты, ты… распустила… опозорили меня… Ищи теперь… проклятая!..»
«Ага! — сообразил Хамит. — Жену уму-разуму учит. Не вовремя я угодил, придётся подождать».
Вскоре вопли прекратились, сменились стенаниями и всхлипами. Ахмади, надо полагать, устал бить жену.
Выждав ещё немного, Хамит подъехал к окну, крикнул:
— Хозяева дома?
— Дома, дома! Кто там? — отозвался Ахмади.
Что бы ни случилось в доме, посторонним знать это ни к чему. Факиха торопливо принялась приводить себя в порядок: высморкалась в подол, затолкала растрёпанные космы под платок, уголком того же платка вытерла опухшие, покрасневшие веки.
Ахмади вышел на крыльцо. Хамит, не сходя к коня, отдал ему салям, уточнил:
— Ты будешь Ахмади-агай?
— Да, я…
Долговязый подрядчик вдруг как будто стал ниже ростом, побледнел. Он узнал гумеровского десятского и испугался: решил, что десятский прислан уехавшими в Гумерово жандармами, что они надумали вызвать его, Ахмади, и арестовать.
— Айда, заходи, — пригласил он, стараясь не выдать голосом свой испуг.
— Нет, заходить недосуг…
Хамит помолчал, размышляя, как после только случившегося здесь скандала поделикатнее выполнить поручение Рахмангола. Но не придумал ничего лучше, чем сказать напрямик:
— Ваша сбежавшая дочь — в Гумерове, сидит в доме старосты взаперти. Рахмангол велел передать, чтобы приехали за ней.
Хамит ожёг коня плетью и — с места в карьер ускакал, оставив Ахмади в полной растерянности.
С улицы, убедившись, что страсти в доме немного улеглись, вернулась Аклима, опасливо, на цыпочках, шмыгнула мимо отца.
Мать кормила грудью младшенького. Аклима шёпотом сообщила ей:
— Апай нашлась!
Тут вошёл Ахмади.
— Беги, выручай свою беспутную дочь — у гумеровского старосты взаперти сидит! Не успела осчастливить зятьком! К тому ж и зимогор ваш в тюрьму угодил…
Факиха съёжилась, не проронила ни слова в ответ: кулаки у мужа тяжёлые, скажешь что-нибудь не так — может опять волю им дать…
Ахмади не находил себе места от злости, сновал из одной половины дома в другую. Увидев в окно, что отправившиеся утром в погоню сыновья возвратились, выскочил на крыльцо. Парни понуро сидели на бревне у клети. Мрачно взглянув на них и ничего не сказав, Ахмади походил по двору, снова вошёл в дом. Чтобы отвести душу, опять покричал на жену:
— Погубили вы меня, погубили! Теперь успокоитесь. Заживёте счастливо с зятем-арестантом!
Обессилено сел на нары, подпёр голову кулаками, уставившись в пол невидящим взглядом.
— Что я могу о нём знать? Он же ещё мальчишкой по наущению своих ташбатканских родственников ушёл от нас, не хотел со мной жить. Вот и староста подтвердит.
Рахмангол, присутствовавший при допросе, покивал: так, так…
— Правда, нынешним — летом он навестил мать, но меня тогда дома не было, — добавил Гиляж.
А то, что он сам пригласил Сунагата с Самигуллой в гости и даже сделал попытку вернуть пасынка с завода, обещая подыскать ему невесту, помочь в обзаведении хозяйством, — Гиляж умолчал. И чуть позже, когда выяснилась причина допроса, порадовался, что не наговорил лишнего. Жандармы его долго не мытарили, отпустили, а вскоре и сами уехали.
Дома Гиляж сообщил Сафуре об аресте Сунагата. Та сразу — в слёзы:
— Сыночек мой, дитя моё в холоде и голоде терзается!..
— Да ни в каком холоде он не терзается. Сбежал из тюрьмы, — попытался утешить жену Гиляж.
— И где ж он, горемыка, скитается? Может, ходит поблизости, не решается зайти к нам…
— Экая ты глупая! Разве ж бежавший из тюрьмы останется поблизости от неё? Махнул, наверно, в другие края, поди — поймай его теперь!
Рахмангол между тем, проводив жандармов, заглянул в женскую половину. Жена его как раз подала Фатиме, сидевшей за занавеской, миску с супом. Девушка хлебнула две ложки и протянула миску обратно.
— Она ещё здесь? — удивился Рахмангол. — Не торопится Ахмади.
— Или ж Хамит ещё не доехал до него, — отозвалась старостиха. — Не иначе, как у зятя по пути застрял, к медовухе присосался.
— Ну и день выдался! — вздохнул Рахмангол. — Напасть за напастью. Жандармы-то зачем, думаешь, приезжали! Этот ташбатканский егет Сунагат, пасынок Гиляжа, попал в тюрьму да сбежал. Его ищут.
За занавеской раздался сдавленный стон, и Фатима вдруг вывалилась оттуда, упала на пол. Старостиха кинулась к ней, приподняла безвольное тело.
— Что с тобой?
Фатима не отвечала — она была в глубоком обмороке.
Вдвоём перенесли девушку на нары. Старостиха влила ей в рот ложку воды, положила на лоб мокрое полотенце.
— Ещё одна напасть… — отметил Рахмангол. — Иль уж впрямь она с ума сходит?
— Может, падучая у неё? — предположила старостиха.
Фатима медленно открыла глаза. Голоса старосты и его жены, показалось ей, доносятся откуда-то издалека, словно бы из-за стены. «О чём это они? Что случилось? Ах, да — Сунагат… Сунагат бежал… Может быть, вернулся в аул… За мной… Я не нашла бы его на заводе… А меня бы там — тоже в тюрьму… А если его опять поймают? Нет, нет!..»
Фатима неподвижно пролежала на нарах до самой ночи, безучастная ко всему, что происходило рядом. Она то уходила в забытьё, то предавалась безутешным думам. Лишь голос отца, раздавшийся в сенях, вывел её из этого состояния.
Ахмади нарочно припозднился, чтобы въехать в Гумерово в темноте: страшился любопытных взглядов. Его жёг стыд, он готов был провалиться сквозь землю — только бы не показываться людям на глаза.
Услышав голос отца, Фатима вздрогнула, приподнялась. Ахмади со старостой прошли в горницу и о чём-то заговорили, о чём — она расслышать не могла. Мысли её заметались. Она попыталась предугадать, что её ждёт. Наверно, отец всю дорогу будет бить. Но это не самое страшное. Страшнее предстать завтра перед аулом, предстать опозоренной, несчастной. «Ах, Сунагат, Сунагат! Не сбылись наши мечты!» — горько подумала девушка и перед её мысленным взором проступил словно бы сквозь туман улыбающийся Сунагат. Но он вдруг стал вытягиваться, расти, улыбка сменилась гневной гримасой, и теперь Фатима видела уже долговязую фигуру отца, грозно взмахивающего плёткой. Она усилием воли отогнала это видение, вернула — любимого, увидела его таким, каким он был в тот счастливый, самый счастливый день, у ягодника, — но опять наплыли на его лицо чужие черты, Сунагат превратился в ненавистного рыжего Талху…
Открылась дверь, показался Ахмади с узелком Фатимы в руках.
— Айда! — коротко приказал он.
Фатима, покачивалась от слабости, последовала за отцом во двор, взобралась на телегу. Ахмади вывел лошадь в поводу за ворота.
Поехали домой. Вопреки ожиданиям, отец не кинулся избивать её, даже не обругал. За всю дорогу не вымолвил ни слова.
Глава двенадцатая
Клуб принарядили. Главным украшением зала стал огромный, от пола до потолка, портрет государя-императора. Николай Второй был изображён в полный рост, с золотыми эполетами, при полном параде. Он смотрел в зал, будто ожидая, когда подданные запоют «Боже, царя храни». От всей его фигуры веяло величием, только залихватские усы несколько портили впечатление, придавая лицу самодержца легкомысленное выражение.
Вокруг портрета царя в мелких рамках развесили изображения членов его семьи — жены, дочерей, а также великих князей. Всё это в целом обрамляли иконы. Портреты и иконы были украшены бумажными цветами.
Над входом в клуб, на крышу, водрузили громадное изображение двуглавого орла. Некоторое представление о достоинствах этого творения местного живописца может дать выражение «топорная работа». Прохожим при взгляде на грозную птицу вспоминались пугала, выставляемые зимой на сараи для устрашения волков. Но как бы там ни было, начальство выполнило свой долг, позаботившись о символе несокрушимой мощи дома Романовых.
Самигулла назвал Зекерию, Аитбая, ещё нескольких парней. Жандарм тут же велел старосте вызвать их. Пока десятский ходил за парнями, Богомолов продолжал допрашивать Самигуллу.
— Кто ещё из его близких живёт в вашем ауле?
— В Ташбаткане больше никого нет. В Гумерове живут его мать и отчим, Гиляж.
— Мать он навещал?
— Попробовал бы не навестить, я б его!
— Хорошо, хорошо!.. А отчим, говоришь, Гиляж?.. Как его фамилия?
— Какую фамилию носит — этого я не знаю. А по имени — Гиляж.
— Шурин твой в последние дни в аул не заглядывал?
— Нет, не заглядывал.
Между тем привели Зекерию с Аитбаем. Богомолов допросил и их. Чего добивался жандарм — никто не мог понять. Но из того, как откровенно он досадовал и морщился, нетрудно было вывести: ничего важного выудить при допросе не сумел. Да и что могли сказать парни? Ну, росли вместе, на речку вместе бегали. Что было нынешним летом? Ничего не было. Ходили вечерами гурьбой по аулу, песни пели, пляски устраивали.
Когда Богомолов отпустил парней, староста почему-то шёпотом сообщил ему:
— Жена моя рассказывала: этого Сунагата не раз видели с дочерью Ахмади…
И тут же пожалел, что не придержал язык за зубами, впутал в неприятное дело Ахмади: жандарм велел вызвать и его вместе с дочерью.
Ахмади пришёл один. На вопрос Богомолова ответил, что Сунагата не знает и знать не желает.
— Только от ребятишек слышал, что приходил в аул, а видеть его не видел, — добавил он.
— Как так — не видел. Он же с твоей дочерью встречался, отношения у них были более чем дружеские…
Слова жандарма ошарашили Ахмади: для него это была новость. Он столбом стоял посреди горницы, то бледнея, то краснея. Пробормотал, сгорая со стыда:
— Может, и встречались. За молодыми не уследишь…
— Разве он не бывал у вас?
— Ни разу этот парень не ступал на мой порог.
— «Парень!» Бунтовщик он, вот кто! Сбежал из тюрьмы… Всё ж странно: чуть ли не будущий зять, а ничего о нём не знаешь!
Тут за Ахмади вступился хранивший молчание Стрельников. Объяснил следователю, что у башкир, тем более в таких вот глухих аулах, молодёжь очень скрытна. Если парень и девушка полюбят друг друга, они держат свой секрет за семью замками, особенно тщательно скрывают свои взаимоотношения от родителей. По обычаю даже после свадьбы молодой муж долгое время не показывается на глаза тестю. Так что неведение Ахмади, человека, по его, Стрельникова, сведениям, вполне благонадёжного, можно считать естественным.
Следователь опять недовольно поморщился.
— А где твоя дочь? — сердито спросил он у Ахмади.
Что мог ответить Ахмади? Теперь уже не было сомнений — дочь прошлой ночью сбежала из дому. Факиха довольно быстро установила это, заглянув в сундук: оттуда исчезли кое-какие вещи дочери, несколько кусков ткани, пачка чая… О бегстве Фатимы уже знали и в ауле; женщины, встречаясь на улице, горячо обсуждали случившееся, одни хвалили девушку за решительность, другие осуждали её. Конечно, шила в мешке не утаишь, новость эта в конце концов может дойти и до жандармов, но Ахмади пока что предпочёл не говорить о своём позоре.
— Ушла в гости в Гумерово, — коротко ответил он на вопрос следователя.
3
Гиляж разбудил на заре младшего сына, Зиннура, и послал его за лошадьми, выпущенными с вечера на сочную отаву.Потирая, чтобы отогнать сон, глаза, парнишка вышел за околицу села. Лошадей поблизости не было видно. Лишь пройдя версты две по большаку, ведущему в сторону завода, Зиннур отыскал их по звуку ботала в уреме.
Когда он верхом, со второй лошадью в поводу, ехал домой, вдалеке показалась торопливо идущая навстречу женщина. Зиннур, пожалуй, и не обратил бы на неё внимания, проехал мимо — мало ли людей ходит по большой дороге! — но женщина повела себя странно. Увидев верхового, она вдруг свернула с большака и побежала к уреме. Парнишкой овладело любопытство: кто такая, почему побежала? Он тоже свернул к уреме.
Место было заболоченное. Женщина на бегу споткнулась о кочку, упала; узелок, который она несла, развязался. Быстро поднявшись и собрав рассыпавшиеся вещи, женщина вновь устремилась к уреме, хотя ноги её уже по щиколотку уходили в болотную жижу. Вскоре она скрылась за кустами. Зиннур, успевший подъехать к ней довольно близко, гнать лошадей в трясину не решился.
«Наверно, воровка, а то не побежала бы», — подумал он.
На том месте, где женщина упала, Зиннур подобрал завёрнутую в бумагу пачку чая. «Тут одно из двух: или воровка, или сумасшедшая, сбежавшая из дому», — решил парнишка. В любом случае о происшествии следовало сообщить старосте.
Хлестнув лошадей путами, снятыми с их ног, Зиннур помчался к селу. Не заезжая домой, он прямиком направился к гумеровскому старосте Рахманголу, рассказал ему о странной встрече, показал найденную у болота пачку чая.
Староста тут же вызвал десятских, Аптуллу и Хамита, велел оседлать коней, настичь сбежавшую в урему подозрительную женщину — то ли воровку, то ли безумную — и доставить её в село.
Десятские поскакали к указанному Зиннуром месту, прошли, спешившись, через урему до самой речки, но никого не обнаружили.
Вернувшись к своим коням, поехали вдоль уремы, затем — по большаку, всё более отдаляясь от села. За поворотом увидели одинокую женскую фигуру.
Конным догнать пешую — долгое ли дело! Но женщина, должно быть, услышав топот, оглянулась и метнулась к лесу, с которым поравнялась.
— Наверно, та самая! — высказал предположение Аптулла, придерживая коня.
Надо заметить, он не горел желанием преследовать загадочную женщину, уже скрывшуюся в лесу. Более того, на него накатил страх: вдруг это в самом деле помешанная, да ещё буйная! Она же что угодно может выкинуть: вцепиться зубами в горло, ножом пырнуть…
Его товарищу такие мрачные мысли в голову не приходили.
— Она! — крикнул Хамит уверенно. В голосе его слышался азарт. — Быстрей!
— Никуда теперь не денется! — отозвался Аптулла. — Лес-то голый, насквозь просматривается.
Осторожно, отгибая ветви, десятские въехали в лес. Искали недолго — уже в сотне шагов от опушки разглядели притаившуюся за кучей валежника фигуру.
— Эй! Ты кто? Выходи! — крикнул Аптулла, натягивая поводья.
Молчание.
— Выходи, тебе говорят! Стрелять буду! — пригрозил Хамит, хотя стрелять им было не из чего.
Над кучей валежника показалось испуганное лицо. Десятские удивлённо переглянулись. Та, кого они считали женщиной, притом опасной, оказалась совсем молоденькой девушкой. Да ещё какой красавицей!
Пригибаясь там, где ветви низко нависали над землёй, то и дело оглядываясь, будто ожидая выстрела сзади, девушка выбралась в прогал между деревьями и встала, низко опустив голову. В руке у неё был узелок.
— Кто ты? Что молчишь? Иль ты немая? Отвечай! — заорал Хамит.
Ни слова в ответ.
— Ла-адно! Топай к селу, староста разберётся…
— Дяденьки! — заговорила дрожащим голосом девушка — Я… я…
— «Я… я…» — передразнил Хамит. — Тебе ясно сказано — чеши в сторону села!
— Дяденьки, я иду к сестре в Ситйылгу, от пустите меня!
— Ври больше! Поворот на Ситйылгу вон где остался. Ну, шагай!
Девушка не двигалась с места.
Разозлённый Хамит соскочил с коня, потянулся к вожжам, притороченным к седлу Аптуллы.
— Дай-ка вожжи!.. Вот мы тебе свяжем руки, заарканим за шею да так и поведём!
— Отпустите меня, пожалуйста, — заплакала девушка. — Я ж к сестре в гости иду…
— Как звать сестру?
Девушка растерялась, не смогла назвать имя. Хамит решительно двинулся к ней с вожжами в руке. Девушка, увидев это, пошла, всё ещё плача, в сторону дороги. Десятские, несколько отстав, последовали за ней.
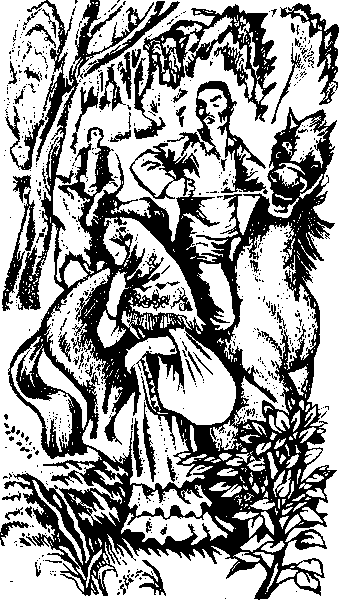
У поворота на Ситйылгу Аптулла предложил:
— Слушай, может, отпустим её, а? Может, и вправду идёт к сестре, а дорогу не знает? Ста росте скажем — не смогли отыскать…
Хамит в ответ лишь сердито блеснул глазами.
У околицы села он подторопил коня, обогнал девушку.
— Иди за мной!
Задержанную привели во двор Рахмангола. Хамит вошёл в дом, доложил старосте:
— Привели… Вот её узелок, — и положил на нары вещи, отобранные у девушки во дворе.
— Связывать не пришлось?
— Нет. Сама пошла. На помешанную не похожа, разговаривает нормально. В Ситйылгу, говорит, к сестре иду. Врёт. Шла в сторону завода, имя сестры назвать не смогла. Кто такая, откуда — не признаётся. Но не из нашего села, это точно…
— Так, так… — неопределённо произнёс Рахмангол и развязал лежавший на нарах узелок. Там оказались женское исподнее, несколько аршинов сатина, пять рублей денег — серебром и в бумажках, полкаравая хлеба. Да вдобавок — найденный Зиннуром чай.
— Хэ! Дела-а… — протянул староста. — Тут что-то нечисто. Где она всё это взяла? Требуется расследование. Придётся, наверно, посадить её в клеть.
Ещё раз перебрав вещи задержанной, староста приказал пялившемуся на женское исподнее Хамиту:
— Иди, приведи сюда, посмотрим-ка на неё!
Хамит с Аптуллой ввели девушку в дом. Веки у неё распухли от слёз. И, должно быть, инстинктивно стремясь скрыть это от чужих взглядов, она приспустила платок почти на самые глаза, а лицо прикрыла шалью, накинутой поверх платка. Войдя, остановилась у порога, прислонилась к дверному косяку.
— Откуда ты, сестричка? — спросил Рахмангол, решив, что ласковое обращение быстрее развяжет ей язык.
Девушка не ответила.
— Чья ты дочь? Девушка упорно молчала.
— Эй, жена! — крикнул Рахмангол. — Зайди-ка быстренько сюда!
Из другой половины прибежала старостиха.
— Что стряслось? Атак, не то лавку вы здесь открыли? Товары, деньги разложили…
— Ну, женщине только покажи товар — душу готова в обмен отдать. Не туда смотришь! Взгляни-ка вот на неё, — сказал Рахмангол, указывая взглядом на девушку.
— Аллах милостивый! Никак дочь ташбатканской Факихи? Верно, верно! Это ж Фатима!
— А Факиха — чья она жена?
— Жена Ахмади.
— Какого Ахмади?
— Да этого самого… Ну, который мочало скупает. Он ещё летом с Самигуллой, свояком Гиляж-бая, судился.
— Не-е, не с Самигуллой, а с его сватом, Вагапом, — вмешался Хамит. — Самигулла свидетелем ездил.
— Может, и так, — согласилась старостиха.
— Куда ж ты путь держала, сестрица? — спросил Рахмангол.
Фатима молча заплакала.
— Девушку никуда из дому не выпускайте, — сказал староста, обращаясь к жене. — Ты, Хамит, сейчас же скачи в Ташбаткан, скажи Ахмади, чтоб приехал за дочерью. Ты, Аптулла, постой у ворот, посторожи.
Конечно, надёжней было бы посадить задержанную в клеть, как намеревался Рахмангол поначалу, но это выглядело бы арестом и опозорило её отца, человека в округе известного и влиятельного. Поэтому намерения своего староста не осуществил.
Старостиха же, хорошо знавшая Факиху, отнеслась к девушке с сочувствием; уведя её в другую половину дома, предложила чаю. Но Фатима пить чай не стала — всё плакала и плакала.
«Всё… Пропала я, пропала! — мысленно повторяла она в отчаянии. — Теперь и шагу шагнуть из дома не дадут. Пропала… Будь проклят этот мир! Нет в нём для меня радости…»
4
Жандармы, закончив свои дела в Ташбаткане, собрались ехать в Гумерово. Старосте Гарифу строго-настрого наказали: буде беглый преступник Сунагат Аккулов появится в ауле — схватить и под конвоем доставить в заводской посёлок; если не появится, но станет известно, где он скрывается, кто его подкармливает, — без промедления сообщить уездной полиции; с Самигуллы, Вагапа, Адгама и — на всякий случай — с дома Ахмади глаз не спускать. С Гарифа даже взяли подписку, что всё это он в точности исполнит.Гариф проводил грозных гостей, выражая великое почтение к ним.
За околицей аула навстречу жандармам попался всадник, который тоже в знак почтения стянул с головы шапку. Это был гумеровский десятник Хамит, посланец старосты Рахмангола.
Хамит, несколько раз оглянувшись, погнал коня к Верхней улице. Он решил вначале навестить живущую в Ташбаткане сестру, у неё и справиться, как найти дом Ахмади. «Птичка в надёжной клетке, небось не улетит, — рассудил он. — Не где-нибудь — у самого старосты в доме сидит. Пускай посидит, спешить ей вроде и ни к чему…»
Хамит подъехал к знакомым воротам. Во дворе никого не было, и из дому на его голос никто не вышел. Всё ж он спешился, привязал коня под навесом, перекинул стремена через седло, чтоб не упала с него подушка, и, помахивая плёткой, вошёл в дом. В горнице сидела старуха с обмотанной полотенцем головой.
— Здорово, сватья! А где хозяева? — спросил Хамит. — Зятёк в отъезде или вышел куда?
— Ушёл на пруд мочало драть. А килен, должно, у соседей, только что на улице её видела.
Тут прибежала запыхавшаяся сестра Хамита.
— Единственный брат в гости приехал, а ты где-то гуляешь, — пошутил он.
— Ставь, килен, самовар! — подсказала старуха.
— Не утруждайтесь. Я заглянул ненадолго, только узнать, как живёте-можете. Тороплюсь.
— Бэй-бэй! Дела твои, наверно, никуда не денутся, пока чашку чая выпьешь, — возмутилась сестра.
— Правда тороплюсь. Где тут живёт Ахмади?
— Который?
— Тот, что мочало скупает.
— А, Ахмади-ловушка. На Нижней улице живёт. Что за нужда тебя к нему гонит? Не до тебя ему сегодня.
— Почему?
— Да дочка у него сбежала. С самого утра колготятся, ищут…
— Раз она такая резвая, надо было путы на ноги наложить, а на шею колокольчик повесить, — сострил Хамит и, делая вид, будто ничего не знает, спросил:
— Куда ж она могла подеваться?..
— Люди говорят — на завод ушла. Там здешний парень, Сунагат, работает. Будто бы любят друг друга, вот к нему якобы и ушла.
«Вот оно как!» — удивился Хамит, но продолжал прикидываться ничего не ведающим.
— Только ведь всякое могло случиться. Братья её в погоню в сторону завода отправились, а тут в омутах баграми шарили, все сараи обыскали: не повесилась ли? Очень уж вчера, говорят, она горевала, думала — отдадут замуж за Талху, сына Усман-бая. Раз нигде тут не нашли — решили: ушла на завод.
— Небось Ахмади места себе не находит и тому, кто придёт к нему с хорошей вестью, отвалит богатый подарок, а?
— Ну да, отвалит, подставляй мешок! Дождёшься от этого скряги!
— Жалко! А я ведь хойенсе ему привёз. Дочка его у нас в Гумерове в доме старосты сидит.
Хамит рассказал, как они с Аптуллой поймали Фатиму, как привели к старосте Рахманголу, какие вещи обнаружили у неё в узелке.
— Вот те и на! Выходит, не только сбежала, но ещё и отца с матерью обокрала? Ну и бестия, ну и девушки в наше время пошли, спаси нас аллах!
— Порченая ныне молодёжь, — вставила сватья.
— Стало быть, Усман-бай чуть не лишился невестки, — осклабился Хамит. — Придётся ему теперь пригласить на свадьбу и меня.
— Ой, всё ж кину-ка я угольков в самовар, — засуетилась молодая хозяйка. — Я сейчас…
Она выбежала из дому — будто бы в летнюю кухню, но первым делом кинулась к ограде, поманила соседку, сообщила ей новость.
Полетела новость по аулу, обогнав гонца из Гумерова, обрастая подробностями, — тут уж досужие кумушки красок не пожалели.
— Фатиму-то в гумеровском лесу поймали!
— Правда? Где ж она сейчас?
— В Гумерове, говорят, взаперти сидит.
— Бедняжка!
— Чтоб ещё раз не сбежала, раздели донага… При ней большие деньги были — отца начисто обокрала.
— Иди ты! Выходит, к этому самому Сунагату она и направлялась?
— Куда ж ещё! Всё лето с ним путалась, это и слепой мог увидеть.
— Шайтан их свёл, не иначе. Шайтановы это проделки.
— Ночёвки в чужих домах к добру не ведут — девушки от рук отбиваются.
— Уж я теперь своей дочери не дам отбиться. Из дому — ни на шаг!
— Это урок для всех.
— Коль девчонки начинают вольничать, жди беды. Тут уж их или пороть надо, или запирать…
Новость быстро дошла и до сверстниц Фатимы. Неудача, постигшая подружку, взволновала их; они и жалели Фатиму, и восхищались ею: «Всё ж среди нас тоже нашлась одна смелая!» Говоря так, они имели в виду ещё и гумеровскую девушку, которая незадолго до этого тайком ушла с любимым в Тиряклы.
Больше всех в ауле, пожалуй, была взволнована Салиха. До этого её терзала мысль о том, что напрасно согласилась отпустить Фатиму одну. Сердцем чуяла: подведёт бедняжку неопытность. Терзания её усилились, когда узнала, чем кончилось сватовство Усман-бая. Выходит, не стоило Фатиме самой срываться с места, разумней было ждать Сунагата. Но вот выяснилось, что Сунагат попал в тюрьму и бежал оттуда. Неожиданность за неожиданностью! Не столько из-за племянника загоревала Салиха, сколько из-за несчастной доли Фатимы. А теперь ещё новость, которую привёз гумеровский десятский…
Весь аул уже обсуждал эту новость, только в доме Ахмади не знали о ней, — скорее всего потому, что подрядчик в это время был сильно занят: чинил расправу над женой.
Хамит, подъехав к воротам Ахмади, резко натянул поводья. Из дому доносились душераздирающие вопли, слышались глухие удары — будто били топором по гнилому дереву. Прерывающийся мужской голос твердил: «Найди… найди дочь!.. Ты, ты… распустила… опозорили меня… Ищи теперь… проклятая!..»
«Ага! — сообразил Хамит. — Жену уму-разуму учит. Не вовремя я угодил, придётся подождать».
Вскоре вопли прекратились, сменились стенаниями и всхлипами. Ахмади, надо полагать, устал бить жену.
Выждав ещё немного, Хамит подъехал к окну, крикнул:
— Хозяева дома?
— Дома, дома! Кто там? — отозвался Ахмади.
Что бы ни случилось в доме, посторонним знать это ни к чему. Факиха торопливо принялась приводить себя в порядок: высморкалась в подол, затолкала растрёпанные космы под платок, уголком того же платка вытерла опухшие, покрасневшие веки.
Ахмади вышел на крыльцо. Хамит, не сходя к коня, отдал ему салям, уточнил:
— Ты будешь Ахмади-агай?
— Да, я…
Долговязый подрядчик вдруг как будто стал ниже ростом, побледнел. Он узнал гумеровского десятского и испугался: решил, что десятский прислан уехавшими в Гумерово жандармами, что они надумали вызвать его, Ахмади, и арестовать.
— Айда, заходи, — пригласил он, стараясь не выдать голосом свой испуг.
— Нет, заходить недосуг…
Хамит помолчал, размышляя, как после только случившегося здесь скандала поделикатнее выполнить поручение Рахмангола. Но не придумал ничего лучше, чем сказать напрямик:
— Ваша сбежавшая дочь — в Гумерове, сидит в доме старосты взаперти. Рахмангол велел передать, чтобы приехали за ней.
Хамит ожёг коня плетью и — с места в карьер ускакал, оставив Ахмади в полной растерянности.
С улицы, убедившись, что страсти в доме немного улеглись, вернулась Аклима, опасливо, на цыпочках, шмыгнула мимо отца.
Мать кормила грудью младшенького. Аклима шёпотом сообщила ей:
— Апай нашлась!
Тут вошёл Ахмади.
— Беги, выручай свою беспутную дочь — у гумеровского старосты взаперти сидит! Не успела осчастливить зятьком! К тому ж и зимогор ваш в тюрьму угодил…
Факиха съёжилась, не проронила ни слова в ответ: кулаки у мужа тяжёлые, скажешь что-нибудь не так — может опять волю им дать…
Ахмади не находил себе места от злости, сновал из одной половины дома в другую. Увидев в окно, что отправившиеся утром в погоню сыновья возвратились, выскочил на крыльцо. Парни понуро сидели на бревне у клети. Мрачно взглянув на них и ничего не сказав, Ахмади походил по двору, снова вошёл в дом. Чтобы отвести душу, опять покричал на жену:
— Погубили вы меня, погубили! Теперь успокоитесь. Заживёте счастливо с зятем-арестантом!
Обессилено сел на нары, подпёр голову кулаками, уставившись в пол невидящим взглядом.
5
Близился полдень, когда жандармы доскакали до Гумерова. Остановились они, как водится, у старосты. Не спеша пообедали. Потом вызвали Гиляжа, принялись выпытывать, что он знает о своём пасынке. Гиляж, ещё не слышавший об аресте и бегстве Сунагата из тюрьмы, в недоумении хлопал глазами.— Что я могу о нём знать? Он же ещё мальчишкой по наущению своих ташбатканских родственников ушёл от нас, не хотел со мной жить. Вот и староста подтвердит.
Рахмангол, присутствовавший при допросе, покивал: так, так…
— Правда, нынешним — летом он навестил мать, но меня тогда дома не было, — добавил Гиляж.
А то, что он сам пригласил Сунагата с Самигуллой в гости и даже сделал попытку вернуть пасынка с завода, обещая подыскать ему невесту, помочь в обзаведении хозяйством, — Гиляж умолчал. И чуть позже, когда выяснилась причина допроса, порадовался, что не наговорил лишнего. Жандармы его долго не мытарили, отпустили, а вскоре и сами уехали.
Дома Гиляж сообщил Сафуре об аресте Сунагата. Та сразу — в слёзы:
— Сыночек мой, дитя моё в холоде и голоде терзается!..
— Да ни в каком холоде он не терзается. Сбежал из тюрьмы, — попытался утешить жену Гиляж.
— И где ж он, горемыка, скитается? Может, ходит поблизости, не решается зайти к нам…
— Экая ты глупая! Разве ж бежавший из тюрьмы останется поблизости от неё? Махнул, наверно, в другие края, поди — поймай его теперь!
Рахмангол между тем, проводив жандармов, заглянул в женскую половину. Жена его как раз подала Фатиме, сидевшей за занавеской, миску с супом. Девушка хлебнула две ложки и протянула миску обратно.
— Она ещё здесь? — удивился Рахмангол. — Не торопится Ахмади.
— Или ж Хамит ещё не доехал до него, — отозвалась старостиха. — Не иначе, как у зятя по пути застрял, к медовухе присосался.
— Ну и день выдался! — вздохнул Рахмангол. — Напасть за напастью. Жандармы-то зачем, думаешь, приезжали! Этот ташбатканский егет Сунагат, пасынок Гиляжа, попал в тюрьму да сбежал. Его ищут.
За занавеской раздался сдавленный стон, и Фатима вдруг вывалилась оттуда, упала на пол. Старостиха кинулась к ней, приподняла безвольное тело.
— Что с тобой?
Фатима не отвечала — она была в глубоком обмороке.
Вдвоём перенесли девушку на нары. Старостиха влила ей в рот ложку воды, положила на лоб мокрое полотенце.
— Ещё одна напасть… — отметил Рахмангол. — Иль уж впрямь она с ума сходит?
— Может, падучая у неё? — предположила старостиха.
Фатима медленно открыла глаза. Голоса старосты и его жены, показалось ей, доносятся откуда-то издалека, словно бы из-за стены. «О чём это они? Что случилось? Ах, да — Сунагат… Сунагат бежал… Может быть, вернулся в аул… За мной… Я не нашла бы его на заводе… А меня бы там — тоже в тюрьму… А если его опять поймают? Нет, нет!..»
Фатима неподвижно пролежала на нарах до самой ночи, безучастная ко всему, что происходило рядом. Она то уходила в забытьё, то предавалась безутешным думам. Лишь голос отца, раздавшийся в сенях, вывел её из этого состояния.
Ахмади нарочно припозднился, чтобы въехать в Гумерово в темноте: страшился любопытных взглядов. Его жёг стыд, он готов был провалиться сквозь землю — только бы не показываться людям на глаза.
Услышав голос отца, Фатима вздрогнула, приподнялась. Ахмади со старостой прошли в горницу и о чём-то заговорили, о чём — она расслышать не могла. Мысли её заметались. Она попыталась предугадать, что её ждёт. Наверно, отец всю дорогу будет бить. Но это не самое страшное. Страшнее предстать завтра перед аулом, предстать опозоренной, несчастной. «Ах, Сунагат, Сунагат! Не сбылись наши мечты!» — горько подумала девушка и перед её мысленным взором проступил словно бы сквозь туман улыбающийся Сунагат. Но он вдруг стал вытягиваться, расти, улыбка сменилась гневной гримасой, и теперь Фатима видела уже долговязую фигуру отца, грозно взмахивающего плёткой. Она усилием воли отогнала это видение, вернула — любимого, увидела его таким, каким он был в тот счастливый, самый счастливый день, у ягодника, — но опять наплыли на его лицо чужие черты, Сунагат превратился в ненавистного рыжего Талху…
Открылась дверь, показался Ахмади с узелком Фатимы в руках.
— Айда! — коротко приказал он.
Фатима, покачивалась от слабости, последовала за отцом во двор, взобралась на телегу. Ахмади вывел лошадь в поводу за ворота.
Поехали домой. Вопреки ожиданиям, отец не кинулся избивать её, даже не обругал. За всю дорогу не вымолвил ни слова.
Глава двенадцатая
1
В заводском посёлке готовились к торжествам: как и во всей России, здесь ожидались празднества по случаю трехсотлетия царствования Романовых. Местные власти — старшина, земский начальник, пристав — заранее продумали меры пресечения возможных беспорядков. Было решено провести манифестацию населения посёлка, но не на улице, а в рабочем клубе, что у базарной площади.Клуб принарядили. Главным украшением зала стал огромный, от пола до потолка, портрет государя-императора. Николай Второй был изображён в полный рост, с золотыми эполетами, при полном параде. Он смотрел в зал, будто ожидая, когда подданные запоют «Боже, царя храни». От всей его фигуры веяло величием, только залихватские усы несколько портили впечатление, придавая лицу самодержца легкомысленное выражение.
Вокруг портрета царя в мелких рамках развесили изображения членов его семьи — жены, дочерей, а также великих князей. Всё это в целом обрамляли иконы. Портреты и иконы были украшены бумажными цветами.
Над входом в клуб, на крышу, водрузили громадное изображение двуглавого орла. Некоторое представление о достоинствах этого творения местного живописца может дать выражение «топорная работа». Прохожим при взгляде на грозную птицу вспоминались пугала, выставляемые зимой на сараи для устрашения волков. Но как бы там ни было, начальство выполнило свой долг, позаботившись о символе несокрушимой мощи дома Романовых.
