Страница:
Всегда-то бы так полюбовно кончались на Руси княжьи и всякие иные распри — с совестливой оглядкой на людей, на предание предков-миролюбцев, на судьбу страстотерпцев Бориса и Глеба. Но довольно, довольно бы и самих распрей.
Во встрече на Бережце отчетливо просматривалась современниками умная, доводящая начатое до конца мысль Москвы, олицетворяемая сейчас действиями ее посланца.
Известие об исходе ссоры в дому Константиновичей, а главное, о благополучной развязке московско-нижегородского противостояния, длившегося открыто без малого пять лет, облетело русские пределы. Несмотря на губительные моры, на ордынские и внутренние подстрекательства, были все-таки, с каждым годом умножались поводы для радования и надежд...
Историки справедливо отмечают: самые подробные и обстоятельные свидетельства о временах «великой замятни» в Орде сохранились не в письменности завоевателей (от нее почти ничего не уцелело), не в хрониках и путевых заметках арабских и персидских авторов, а в русских летописях. Это и понятно: кому, как не нашим летописцам, приходилось в те тревожные годы с особым пристрастным вниманием следить за всеми переменами на ордынском тропе?
Распадение Улуса Джучи на Заволжскую и Мамаеву орды способствовало появлению целой сетки трещин, в разных направлениях пересекших имперский монолит. Военные и торговые скрепы фантастического государства завоевателей и заимодавцев явно не выдерживали. В 1361 году один из саранских царевичей сбежал вверх по Волге в Булгары, захватив попутно все ордынские приречные города, — с целью создать неподвластное Орде Булгарское царство. В том же году перестали чеканить монету с именами золотоордынских ханов в далеком Хорезме. Это означало, что хорезмийская область также отделяется от джучидов. Вот-вот готова была отколоться от Сарая приволжская область, расположенная южней ордынской столицы.
В 1363 году великий князь литовский Ольгерд ходил с войском к реке Буг и там, у ее притока, в урочище, именуемом Синими Водами, а позже и в устье Днепра разгромил «три орды монгольские» — объединенное войско заднепровских кочевников, находившихся в относительном подчинении у Мамая. Ольгерд даже в Крым тогда проник, во «святая святых» Мамаевой орды. А через год в том же Крыму генуэзцы напали на Судак и захватили его, доставив очередные хлопоты Авдуле и его темнику.
Закончился полной неудачей набег на Рязанское княжество ордынского военачальника Тагая. Он напал было на Рязань и даже пожег ее, но при отходе настигла Тагая рать рязанского князя Олега; вместе с ним в погоне участвовали князья Владимир Пронский и Тит Козельский. Возле Шишовского леса русские дружины вонзились в порядки ордынцев. Бой был лютый, погибло много с той и с другой стороны, первыми не выдержали воины Тагая и обратились вспять, покидав обозы с награбленным добром. Победа была у рязанцев, полная и — первая современ полусказочного уже Евпатия Коловрата!
Конечно, времена зыбкие, десять раз на дню все еще может перемениться, но все-таки передышка от Орды, хоть и нечаянная, выходила явно. И недаром именно в те годы летописцы все чаще стали говорить о делах строительства, созидания.
В Новгороде Великом в те годы на серебро, скопленное в Софийском соборе, мастера нарастили каменные стены детинца и отрыли вкруг крепости ров. И в пригороде новгородском, в Корелах, на ладожском берегу «посадник Яков поставил костер камен», то есть стрельницу новую — боевую башню.
И псковичи старались не отставать: сговорились с каменщиками о новом Троицком соборе в Крому.
И в Новгороде тогда же поставили каменную Троицу — на Редятиной улице, где обитала Югорщина — купцы, промысловые и ратные люди, что осваивали дальнюю Югру. Накануне вернулся оттуда из удачливого похода вожак ватаги ушкуйников Алексей Обакунович, воин отчаянно-бесстрашный, непоседливый, с былинным замахом жизни. От югорских тундр даже за Урал забрели его ребята, поднялись вверх по Оби, воевали с разными сибирскими народцами, привезли мехов и «серебра закамского» — всяких блюд и тарелей с изображениями зверья и травными узорами.
На обратном пути не сдержал (или не хотел сдержать) Алексей Обакунович своих ретивцев, войско разделилось, полторы сотни ушкуев спустились по Волге до Нижнего Новгорода и там снова потрепали восточных купцов — хватит-де им совать нос в русские края!
Это очередное новгородское буйство пришлось разбирать уже Дмитрию Московскому и его думе. Он не был намерен поощрять самочинство, которое наверняка повлечет за собой новые погромы в русских невольничьих посадах ордынских городов. Никакое действие против чужеземцев затеваться без его воли на Руси не будет. Добычу новгородцы вернут в великокняжескую казну, он сам ею распорядится; на случай же, если заупрямятся, на Двине пойман и доставлен в Москву заложником знатный новгородский боярин с сыном. А то нескладно: ушкуйникам хмель, а всей Руси похмелье.
Великокняжеской казной — с тех пор, как разгорелась «великая замятия», — распоряжались на Москве совсем необычно. Даже страшновато было об этом и вслух-то говорить: уж который год дань в Орду не возили совсем, то есть ни единого рубля. Это как бы само нечаянно забылось. Да и к кому возить-то? К темнику Мамаю либо к городу Сараю? «Царев выход» по-прежнему собирался, но оседал он в Москве. Тут получалась, конечно, и хитрость по отношению к своим, так как многие еще и не ведали, что дань не платится. Но хитрость оправданная, наперед оправдываемая.
Несколько лет безотцовщины не прошли для Дмитрия даром. Он видел — по действиям своего совета, по последствиям этих действий, — какие ощутимые плоды приносит решительность, согласуемая с трезвой умеренностью, наконец, с милосердием к тем, кто от души повинился. Великому князю нельзя в своих действиях опираться только на закон, на правила, неукоснительно переходящие из рода в род. Одной рукой надо держать Право, другой же — Правду. Милосердную, потесняющую, когда надо, и закон.
У Дмитрия-Фомы, знали в Москве, подрастает дочь Евдокия. Да и великий князь московский и «всея Руси» близок был к возрасту, когда пора подумать о суженой, о продолжении рода. Того самого рода, который и в одной и в другой семье изводили от славного Большого Гнезда.

Глава четвертая
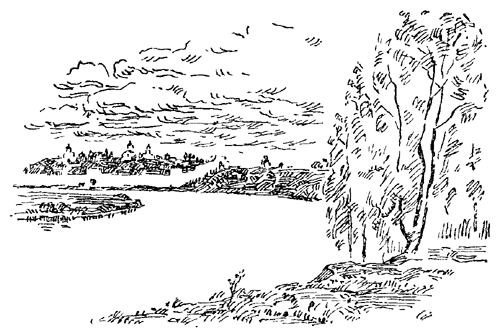
I
II
Во встрече на Бережце отчетливо просматривалась современниками умная, доводящая начатое до конца мысль Москвы, олицетворяемая сейчас действиями ее посланца.
Известие об исходе ссоры в дому Константиновичей, а главное, о благополучной развязке московско-нижегородского противостояния, длившегося открыто без малого пять лет, облетело русские пределы. Несмотря на губительные моры, на ордынские и внутренние подстрекательства, были все-таки, с каждым годом умножались поводы для радования и надежд...
Историки справедливо отмечают: самые подробные и обстоятельные свидетельства о временах «великой замятни» в Орде сохранились не в письменности завоевателей (от нее почти ничего не уцелело), не в хрониках и путевых заметках арабских и персидских авторов, а в русских летописях. Это и понятно: кому, как не нашим летописцам, приходилось в те тревожные годы с особым пристрастным вниманием следить за всеми переменами на ордынском тропе?
Распадение Улуса Джучи на Заволжскую и Мамаеву орды способствовало появлению целой сетки трещин, в разных направлениях пересекших имперский монолит. Военные и торговые скрепы фантастического государства завоевателей и заимодавцев явно не выдерживали. В 1361 году один из саранских царевичей сбежал вверх по Волге в Булгары, захватив попутно все ордынские приречные города, — с целью создать неподвластное Орде Булгарское царство. В том же году перестали чеканить монету с именами золотоордынских ханов в далеком Хорезме. Это означало, что хорезмийская область также отделяется от джучидов. Вот-вот готова была отколоться от Сарая приволжская область, расположенная южней ордынской столицы.
В 1363 году великий князь литовский Ольгерд ходил с войском к реке Буг и там, у ее притока, в урочище, именуемом Синими Водами, а позже и в устье Днепра разгромил «три орды монгольские» — объединенное войско заднепровских кочевников, находившихся в относительном подчинении у Мамая. Ольгерд даже в Крым тогда проник, во «святая святых» Мамаевой орды. А через год в том же Крыму генуэзцы напали на Судак и захватили его, доставив очередные хлопоты Авдуле и его темнику.
Закончился полной неудачей набег на Рязанское княжество ордынского военачальника Тагая. Он напал было на Рязань и даже пожег ее, но при отходе настигла Тагая рать рязанского князя Олега; вместе с ним в погоне участвовали князья Владимир Пронский и Тит Козельский. Возле Шишовского леса русские дружины вонзились в порядки ордынцев. Бой был лютый, погибло много с той и с другой стороны, первыми не выдержали воины Тагая и обратились вспять, покидав обозы с награбленным добром. Победа была у рязанцев, полная и — первая современ полусказочного уже Евпатия Коловрата!
Конечно, времена зыбкие, десять раз на дню все еще может перемениться, но все-таки передышка от Орды, хоть и нечаянная, выходила явно. И недаром именно в те годы летописцы все чаще стали говорить о делах строительства, созидания.
В Новгороде Великом в те годы на серебро, скопленное в Софийском соборе, мастера нарастили каменные стены детинца и отрыли вкруг крепости ров. И в пригороде новгородском, в Корелах, на ладожском берегу «посадник Яков поставил костер камен», то есть стрельницу новую — боевую башню.
И псковичи старались не отставать: сговорились с каменщиками о новом Троицком соборе в Крому.
И в Новгороде тогда же поставили каменную Троицу — на Редятиной улице, где обитала Югорщина — купцы, промысловые и ратные люди, что осваивали дальнюю Югру. Накануне вернулся оттуда из удачливого похода вожак ватаги ушкуйников Алексей Обакунович, воин отчаянно-бесстрашный, непоседливый, с былинным замахом жизни. От югорских тундр даже за Урал забрели его ребята, поднялись вверх по Оби, воевали с разными сибирскими народцами, привезли мехов и «серебра закамского» — всяких блюд и тарелей с изображениями зверья и травными узорами.
На обратном пути не сдержал (или не хотел сдержать) Алексей Обакунович своих ретивцев, войско разделилось, полторы сотни ушкуев спустились по Волге до Нижнего Новгорода и там снова потрепали восточных купцов — хватит-де им совать нос в русские края!
Это очередное новгородское буйство пришлось разбирать уже Дмитрию Московскому и его думе. Он не был намерен поощрять самочинство, которое наверняка повлечет за собой новые погромы в русских невольничьих посадах ордынских городов. Никакое действие против чужеземцев затеваться без его воли на Руси не будет. Добычу новгородцы вернут в великокняжескую казну, он сам ею распорядится; на случай же, если заупрямятся, на Двине пойман и доставлен в Москву заложником знатный новгородский боярин с сыном. А то нескладно: ушкуйникам хмель, а всей Руси похмелье.
Великокняжеской казной — с тех пор, как разгорелась «великая замятия», — распоряжались на Москве совсем необычно. Даже страшновато было об этом и вслух-то говорить: уж который год дань в Орду не возили совсем, то есть ни единого рубля. Это как бы само нечаянно забылось. Да и к кому возить-то? К темнику Мамаю либо к городу Сараю? «Царев выход» по-прежнему собирался, но оседал он в Москве. Тут получалась, конечно, и хитрость по отношению к своим, так как многие еще и не ведали, что дань не платится. Но хитрость оправданная, наперед оправдываемая.
Несколько лет безотцовщины не прошли для Дмитрия даром. Он видел — по действиям своего совета, по последствиям этих действий, — какие ощутимые плоды приносит решительность, согласуемая с трезвой умеренностью, наконец, с милосердием к тем, кто от души повинился. Великому князю нельзя в своих действиях опираться только на закон, на правила, неукоснительно переходящие из рода в род. Одной рукой надо держать Право, другой же — Правду. Милосердную, потесняющую, когда надо, и закон.
У Дмитрия-Фомы, знали в Москве, подрастает дочь Евдокия. Да и великий князь московский и «всея Руси» близок был к возрасту, когда пора подумать о суженой, о продолжении рода. Того самого рода, который и в одной и в другой семье изводили от славного Большого Гнезда.

Глава четвертая
ЮНОСТЬ МОСКВЫ
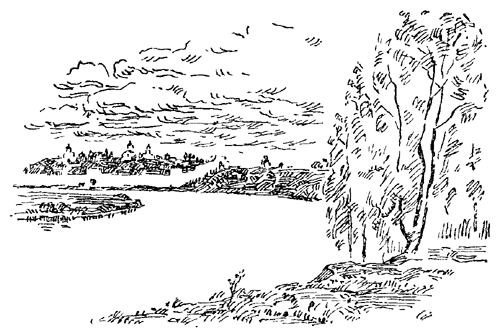
I
Не в укор, не в попрек будь сказано, но ни у кого из наших знаменитых старых историков — ни у Карамзина, ни у Соловьева с Ключевским — не найдем мы в главах, посвященных Дмитрию Донскому, объяснения, почему великий князь московский повенчался с нижегородской княжной Евдокией не у себя дома, на Москве, и не у нее дома, в Нижнем Новгороде, а в достаточно удаленной от Москвы и от Нижнего Коломне. Само это сведение — в пересказе или в выдержке из летописи — приводят, но ни один не указывает на причину странного, не в обычаях тех времен, поступка: устроить свадьбу далеко в стороне от собственного стола.
Итак, в разновременных летописях встречается одно и то же, предельно краткое, почти дословно повторяющееся упоминание: «Тое же зимы (1366 года), месяца Генваря в 18 день, женился князь велики Дмитрей Ивановичь у великого князя у Дмитреа Констянтиновича у Суздальского и у Новагорода Нижнего, поя дщерь его Евдокею, а свадьба бысть на Коломне».
Ясно, конечно, что союз этот, как и большинство тогдашних междукняжеских браков, заключался не без учета политических соображений. Обстоятельства переменчивы, сегодня между недавними противниками мир, а завтра, кто знает, какая еще кошка вздумает дорогу перебежать. Свадьба же миру не помеха, но, напротив, лишняя скрепа.
Установление лада в отношениях князей-соседей вовсе, однако, не было поводом для того, чтобы каждому из них тут же размякнуть душой, подобно воску на солнце, и позабыть о своем самодостоинстве. Не потому ли и не повез Дмитрий Константинович дочь свою прямехонько в Москву? Пусть тезка московский и отнял у него великий стол, но не по чину нынешнему, так по весу прожитых годов он куда тяжеле своего будущего зятя... И юный жених вполне мог сейчас думать сходную думу: ему ли, первому князю всей Руси, ехать на женитьбу в Нижний? Это ведь и впрямь будет выглядеть неким унижением... Вот и сговорились оба — предположим мы — выбрать местом свадьбы ни к чему не обязывающую Коломну. (Так и дальше будет у тестя с зятем: но случаю крестин третьего сына Дмитрия и Евдокии, Юрия, снова встретились в месте, условно говоря, пограничном; Дмитрий Константинович, как и московская сторона, прибыл в Переславль, к Плещееву озеру, тут гуляли...)
Но можно и иначе истолковать выбор Коломны. Она ведь по значимости своей числилась вторым после столицы городом во всем московском княжестве, а кроме того, это был первый его, Дмитрия, город, так как — напомним — именно Коломну московские князья обычно завещали в удел старшим сыновьям, и Дмитрий еще в малолетстве, при княжении родительском, знал твердо: Коломна — его добро, его особая забота на целую жизнь, сколько бы еще ни народилось у него братьев и как бы мелко ни пришлось делить им в будущем отчую землю. Когда-то, лет уже шестьдесят тому, прадед Данила Александрович отбил Коломну у рязанцев, столкнул их с московского берега Оки. Справить теперь свадьбу в Коломне — значило лишний раз подчеркнуть исключительную значимость для Москвы этого порубежного с рязанской землей города. Дмитрий тем самым как бы лишний раз доказывал Рязани свою силу, а то южная эта соседка опять стала задираться и дерзить при нынешнем ее князе Олеге. Побил Олег Тагая — и молодец; но свои-то старые раздоры что вспоминать? Прадед сжал ладонь, и правнук разжимать ее не собирается, блюдя родовое: «Что в руку взято, то навсегда». Пусть же и до рязанских ушей долетит с коломенского холма праздничный благовест и венчальная песнь.
И вот в разукрашенных санных поездах, укутавшись в жаркие, заиндевелые снаружи меха, в щекочущих струях ветра, под пение полозьев издалека поспешали навстречу друг другу молодые, неслись по твердо-пушистым ложам двух рек, уже прочно замерзших: она — вверх по Оке, он — вниз по Москве-реке, летели в отроческом волнующем предощущении любви — к тому месту, где реки эти обнимутся и сольются в таинственной тени зимнего покрова.
Но было еще одно обстоятельство, им-то, пожалуй, надежнее всего объяснить выбор Коломны.
Дело в том, что свадьба просто никак не могла состояться в Москве, потому что Москвы на ту пору вообще... не существовало. И не в каком-нибудь иносказательном смысле слова, но в самом прямом, неумолимом и суровом.
Это случилось еще летом 1365 года; в те дни было в Москве, по летописи, «варно», то есть жарко очень, стояли «засуха велика и зной». Небольшой, сплошь почти деревянный город, давно не кропленный дождями, оцепенело приумолк, только изредка, неслышно человечьему уху, пискнет новая щель вдоль усыхающего срубного бревна да сухо просыплются из лопнувшего стручка твердые горошины. Крыши, заборы, листва, ботва огородная и придорожная гусиная травка — все покрыто пыльным налетом, обесцветилось; душно и в тени изб, душно и в самих избах, лишь под утро чуть остывают крыши, но тут снова впиваются в них косые лучи; на дубовых, много раз латанных стенах старенького Кромника рассохлась и поотвалилась местами глиняная обмазка, а с нею и известковая побелка; река обмелела, еле течет, а по вечерам не клубится мягкими туманами; немногочисленные колодцы вычерпаны почти до дна; кое-где бока срубов слезятся проступившей наружу хвойной смолой, и она засахаривается вскоре на жару; псы во дворах примолкли, лежат в тени с вываленными языками; небо — и не смотреть бы на него — белесо-пустое, будто с него тоже давно не смывали налет пыли, и ветерок не налетит ниоткуда, а и налетел бы, так перенес с места на место ту же пыль московскую, хрустящую на зубах песком.
В ближних к городу борах ржавый хвойный настил сухо трещит под ногами, душно тут, как на чердаке.
Так и не вызнали, отчего беда пришла на этот раз: от детской шалости, от вражьего ли поджога? Многие потом свидетельствовали, что первой вспыхнула деревянная церковь на посаде. Будто дожидаясь условленного знака, невесть откуда прыгнула на город ветряная буря.
Все длилось не более каких-нибудь двух часов. Сначала огненная лава пронеслась по посаду: люди бросались к одному, другому двору, но сорванные вихрем с крыш головни и целые горящие бревна летели по воздуху через десять дворов. Нечего было и думать о спасении домашнего скарба. Огонь уже лизал крепостные бревна у подножия кремлевского холма. Кажется, мига не прошло, как весь холм поднялся на воздух сияющим столбом, — и где они, красные княжьи терема, льдистые грани четырех каменных церквей, святые надгробья в прохладной полумгле, слава и слезы, и пот, и труд, — где?.. Головни с шипом посыпались с неба на воды Неглинки, Москвы-реки. Черными охапками дыма всклубилось Занеглименье, и над недавно отстроенным Заречьем нависла темень. Люди валили толпами к воде, потом просачивались, жмясь к береговой кромке, кто — вверх, за Черторый, кто — вниз, к Яузе. Город у них за спиной выл и гудел огненным нутром, пожирая все подряд — сундуки с шубами и поневами, низки жемчуга и деревянную щербастую посуду, книги с алыми и черными буквами, обезумевших свиней в клетях, деревья и груды мусора на задворках, траву и паутину — все.
...На новой бумаге, сшитой в новую тетрадь, свидетель немного позже записал: «Весь город без остатка погоре. Такова же пожара пред того не бывало...»
В голосе летописца, как и обычно при освещении подобных событий, — ни скорби, ни отчаяния. Случившееся воспринято как неминуемая данность, которую ни обойти, ни объехать, а можно ее только сопоставить, сравнить по размеру с другими, сходными. Не бывало еще на Москве пожара подобного... И все.
Но это неравнодушие усталого созерцателя земных суетствий. За безжалостными словами угадывается твердая вера в то, что город поднимется из золы и чада. Потому что ему-то, летописцу, известно, что так или почти так уже бывало много раз — и с самой Москвой, и с иными русскими городами. И не только бывало, но, пожалуй, и наперед еще будет, и не раз, и в не менее страшном обличье придет беда, но это никак не причина для того, чтобы остолбенеть от предчувствий и перестать строить.
Ну а вчерашние погорельцы — черный посадский ремесленный люд, купцы, дружина, жещины, — была ли у них у всех сила духа такая, чтобы глянуть вперед с мрачно-торжественной прозорливостью летописца? Отчаявшимся, бездомным, не казалось ли им сейчас безобразное пепелище местом проклятым? То самое, что летописца обнадеживало: горели, мол, горели, но всякий раз отстраивались заново, — их, наоборот, могло еще более отвратить от желания возвращаться сюда, к остовам своих жилищ. Столько-то раз гореть! — да не знак ли это, что нужно, не оглядываясь, навсегда бежать отсюда, расточиться по укромным деревенькам, по лесным пустыням, или уж, на крайний случай, если князь и совет его повелят, то строиться где-либо еще, да подалей отсюда, на чистом, не знавшем злого сглазу месте.
А что сам отрок-киязь думал?.. Огонь, бесчинствующий, неукротимый, был одним из первых впечатлений его детства. Еще четырех лет не исполнилось Дмитрию, как на глазах его заполыхали дубовые срубы дедова Кромника. Дитя на пожаре. Как бы ни было ему страшно, оно смотрит на пожар зачарованно, во все глаза, почти с улыбкою любования, как на какую-то священную, только ребенку понятную, освобождающую игру природы, подобную языческому обряду жертвоприношения. Только по дрожи материнского тела, по алым слезам, стоящим в глазах отца, по женским диким воплям в толпе мог он отчасти догадываться об ужасном смысле происходящего... По крайней мере, горький и острый, несмываемый какой-то запах пожарища не мог не остаться в нем саднящим отпечатком на всю жизнь. Запахи детства по-особому запечатлеваются, чтобы потом преследовать, томить без спросу.
Так что же думал он теперь, после новой беды?.. И здесь вот, в порядке, так сказать, допущения, оглянемся еще раз на ту же Коломну. Да, Коломна — его, Дмитрия, первый город, Коломна — второй город в целом московском княжестве, и по назначению ключевому у слияния Москвы-реки и Оки, и по богатству, и по нагорной красоте местоположения. И даже храм каменный, пусть и единственный пока, стоит на москворецком склоне коломенского укрепленного города. Так почему бы, право, этому привольному месту, овеянному дыханием двух больших рек, с его красивым славянским именем (коло — круг, кольцо, солнце), не стать повой Дмитриевой столицей? Не бывало ли так на Руси? Ей, бывало! И Киев остарел. И слава Владимира померкла. И не вышел ли ныне срок Москвы? Не пришел ли ей черед отойти в тень нового града? Ко-ло-мна... Может быть, именно потому назначил он тут свою свадьбу?
Венчались — так местное предание гласит — в каменной Воскресенской церкви, дожившей, в сильно перестроенном, правда, виде до XX столетия.
Есть и еще предание, связанное с тою свадьбой. Академик С. Веселовский называет его «басней», но если и басня, то древняя, и уже потому ценная — в летописи вошла. Предание это бросает свет на взаимоотношения московского великокняжеского дома с семейством Вельяминовых. С его помощью «вельяминовский клубок» разматывается вдруг чуть не полностью. Уже потому только летописный сюжет следует пересказать здесь подробнее, тем более что речь также зайдет о свадьбе.
8 февраля 1433 года, через 67 лет после коломенской свадьбы в Москве, женится внук Дмитрия Ивановича Донского, великий князь Василий Васильевич, будущий Темный. Женится он при обстоятельствах, с которых начинается страшный, поистине трагический разлад в Русском государстве, приводящий к губительному для всей страны междоусобию, к плачевным последствиям и для самого великого князя, — он будет несколько раз изгоняем из Москвы, наконец, ослеплен в стенах Троицкого монастыря. Но по порядку.
На свадьбе Василия Васильевича в числе приглашенных находится его двоюродный брат Василий Юрьевич. В разгар празднества один нз именитых гостей объявляет вслух, что золотой пояс «на чепех с камением», который надел на себя Василий Юрьевич, ему не принадлежит, что этот пояс был когда-то подарен на свадьбе в Коломне князем Дмитрием Константиновичем своему зятю Дмитрию Ивановичу, но что тысяцкий Василий Вельяминов его во время той свадьбы мошеннически подменил.
Сообщение невероятное, такая давность, и вдруг обнаруживается, и в совершенно неподходящий момент! Можно вообразить предгрозовую тишину, оцепенившую свадебное застолье.
Но обвинитель продолжает: Дмитрий Константинович Суздальский и Нижегородский подарил зятю драгоценный пояс. Многие знают, а иные и помнят, как это было. Но никто почти не знает, что тогда же, на свадьбе, тысяцкий Вельяминов, пользуясь близостью к новобрачным и тем, что подарок не надевался, а почти тут же должен был попасть в великокняжескую скарбницу, совершил подлый обман, подыскав в своих ларях пояс подобный, но поплоше. Уворованную вещь Вельяминов дарит позднее своему сыну Микуле, женившемуся на другой дочери Дмитрия Константиновича. Через время Микула, зная или не зная про подлог, отдает пояс в приданое своему зятю, а тот, в свою очередь, также зятю, а по смерти его, выдавая дочь вторично, новому зятю, Василию Юрьевичу, который его сейчас на себя и нацепил. Вот но скольким свадьбам погуляла пропажа неузнанной, пока не обнаружилась!
Выслушав запутанное, но вполне правдоподобное объяснение, великая княгиня Софья, мать Василия Васильевича, вспылила и сорвала пояс с племянника (по праву он ведь должен принадлежать ее сыну!). Племянники — тут был еще и Дмитрий Юрьевич Шемяка — вспылили ответно, покинули свадьбу и тут же выехали из Москвы в Галич, к отцу. Разрыв был неминуем, не знал лишь никто ужасающих размеров его последствий.
Свадебное разоблачение давнишнего мошенничества С. Веселовский считает «басней» на том основании, что тут была чья-то явная интрига: поскандальней рассорить родственников, между которыми уже имелись некоторые трения. Но если «басня» была и полностью вымышленная, если никакой подмены поясов Василий Вельяминов в 1366 году не производил, то последствия злосчастного вымысла оказались разрушительными для русской действительности XV века. По крайней мере, Василий Васильевич Темный, злодейски ослепленный своими противниками, вряд ли мог поминать Вельяминова и весь род его добрым словом. Вряд ли приятно было помнить, что Вельяминов как-никак приходился родным дядей Дмитрию Ивановичу Донскому. Не здесь ли причина умышленной забывчивости летописцев относительно отчества матери Дмитрия, великой княгини Александры? Неприятно было помнить, что она — Васильевна, вельяминовского роду. Как-никак прабабушка.
Но не одна только «басня» о золотом поясе повредила Вельяминовым во мнении потомства. Десять лет спустя после свадьбы в Коломне «вельяминовский клубок» размотается до конца.
Итак, в разновременных летописях встречается одно и то же, предельно краткое, почти дословно повторяющееся упоминание: «Тое же зимы (1366 года), месяца Генваря в 18 день, женился князь велики Дмитрей Ивановичь у великого князя у Дмитреа Констянтиновича у Суздальского и у Новагорода Нижнего, поя дщерь его Евдокею, а свадьба бысть на Коломне».
Ясно, конечно, что союз этот, как и большинство тогдашних междукняжеских браков, заключался не без учета политических соображений. Обстоятельства переменчивы, сегодня между недавними противниками мир, а завтра, кто знает, какая еще кошка вздумает дорогу перебежать. Свадьба же миру не помеха, но, напротив, лишняя скрепа.
Установление лада в отношениях князей-соседей вовсе, однако, не было поводом для того, чтобы каждому из них тут же размякнуть душой, подобно воску на солнце, и позабыть о своем самодостоинстве. Не потому ли и не повез Дмитрий Константинович дочь свою прямехонько в Москву? Пусть тезка московский и отнял у него великий стол, но не по чину нынешнему, так по весу прожитых годов он куда тяжеле своего будущего зятя... И юный жених вполне мог сейчас думать сходную думу: ему ли, первому князю всей Руси, ехать на женитьбу в Нижний? Это ведь и впрямь будет выглядеть неким унижением... Вот и сговорились оба — предположим мы — выбрать местом свадьбы ни к чему не обязывающую Коломну. (Так и дальше будет у тестя с зятем: но случаю крестин третьего сына Дмитрия и Евдокии, Юрия, снова встретились в месте, условно говоря, пограничном; Дмитрий Константинович, как и московская сторона, прибыл в Переславль, к Плещееву озеру, тут гуляли...)
Но можно и иначе истолковать выбор Коломны. Она ведь по значимости своей числилась вторым после столицы городом во всем московском княжестве, а кроме того, это был первый его, Дмитрия, город, так как — напомним — именно Коломну московские князья обычно завещали в удел старшим сыновьям, и Дмитрий еще в малолетстве, при княжении родительском, знал твердо: Коломна — его добро, его особая забота на целую жизнь, сколько бы еще ни народилось у него братьев и как бы мелко ни пришлось делить им в будущем отчую землю. Когда-то, лет уже шестьдесят тому, прадед Данила Александрович отбил Коломну у рязанцев, столкнул их с московского берега Оки. Справить теперь свадьбу в Коломне — значило лишний раз подчеркнуть исключительную значимость для Москвы этого порубежного с рязанской землей города. Дмитрий тем самым как бы лишний раз доказывал Рязани свою силу, а то южная эта соседка опять стала задираться и дерзить при нынешнем ее князе Олеге. Побил Олег Тагая — и молодец; но свои-то старые раздоры что вспоминать? Прадед сжал ладонь, и правнук разжимать ее не собирается, блюдя родовое: «Что в руку взято, то навсегда». Пусть же и до рязанских ушей долетит с коломенского холма праздничный благовест и венчальная песнь.
И вот в разукрашенных санных поездах, укутавшись в жаркие, заиндевелые снаружи меха, в щекочущих струях ветра, под пение полозьев издалека поспешали навстречу друг другу молодые, неслись по твердо-пушистым ложам двух рек, уже прочно замерзших: она — вверх по Оке, он — вниз по Москве-реке, летели в отроческом волнующем предощущении любви — к тому месту, где реки эти обнимутся и сольются в таинственной тени зимнего покрова.
Но было еще одно обстоятельство, им-то, пожалуй, надежнее всего объяснить выбор Коломны.
Дело в том, что свадьба просто никак не могла состояться в Москве, потому что Москвы на ту пору вообще... не существовало. И не в каком-нибудь иносказательном смысле слова, но в самом прямом, неумолимом и суровом.
Это случилось еще летом 1365 года; в те дни было в Москве, по летописи, «варно», то есть жарко очень, стояли «засуха велика и зной». Небольшой, сплошь почти деревянный город, давно не кропленный дождями, оцепенело приумолк, только изредка, неслышно человечьему уху, пискнет новая щель вдоль усыхающего срубного бревна да сухо просыплются из лопнувшего стручка твердые горошины. Крыши, заборы, листва, ботва огородная и придорожная гусиная травка — все покрыто пыльным налетом, обесцветилось; душно и в тени изб, душно и в самих избах, лишь под утро чуть остывают крыши, но тут снова впиваются в них косые лучи; на дубовых, много раз латанных стенах старенького Кромника рассохлась и поотвалилась местами глиняная обмазка, а с нею и известковая побелка; река обмелела, еле течет, а по вечерам не клубится мягкими туманами; немногочисленные колодцы вычерпаны почти до дна; кое-где бока срубов слезятся проступившей наружу хвойной смолой, и она засахаривается вскоре на жару; псы во дворах примолкли, лежат в тени с вываленными языками; небо — и не смотреть бы на него — белесо-пустое, будто с него тоже давно не смывали налет пыли, и ветерок не налетит ниоткуда, а и налетел бы, так перенес с места на место ту же пыль московскую, хрустящую на зубах песком.
В ближних к городу борах ржавый хвойный настил сухо трещит под ногами, душно тут, как на чердаке.
Так и не вызнали, отчего беда пришла на этот раз: от детской шалости, от вражьего ли поджога? Многие потом свидетельствовали, что первой вспыхнула деревянная церковь на посаде. Будто дожидаясь условленного знака, невесть откуда прыгнула на город ветряная буря.
Все длилось не более каких-нибудь двух часов. Сначала огненная лава пронеслась по посаду: люди бросались к одному, другому двору, но сорванные вихрем с крыш головни и целые горящие бревна летели по воздуху через десять дворов. Нечего было и думать о спасении домашнего скарба. Огонь уже лизал крепостные бревна у подножия кремлевского холма. Кажется, мига не прошло, как весь холм поднялся на воздух сияющим столбом, — и где они, красные княжьи терема, льдистые грани четырех каменных церквей, святые надгробья в прохладной полумгле, слава и слезы, и пот, и труд, — где?.. Головни с шипом посыпались с неба на воды Неглинки, Москвы-реки. Черными охапками дыма всклубилось Занеглименье, и над недавно отстроенным Заречьем нависла темень. Люди валили толпами к воде, потом просачивались, жмясь к береговой кромке, кто — вверх, за Черторый, кто — вниз, к Яузе. Город у них за спиной выл и гудел огненным нутром, пожирая все подряд — сундуки с шубами и поневами, низки жемчуга и деревянную щербастую посуду, книги с алыми и черными буквами, обезумевших свиней в клетях, деревья и груды мусора на задворках, траву и паутину — все.
...На новой бумаге, сшитой в новую тетрадь, свидетель немного позже записал: «Весь город без остатка погоре. Такова же пожара пред того не бывало...»
В голосе летописца, как и обычно при освещении подобных событий, — ни скорби, ни отчаяния. Случившееся воспринято как неминуемая данность, которую ни обойти, ни объехать, а можно ее только сопоставить, сравнить по размеру с другими, сходными. Не бывало еще на Москве пожара подобного... И все.
Но это неравнодушие усталого созерцателя земных суетствий. За безжалостными словами угадывается твердая вера в то, что город поднимется из золы и чада. Потому что ему-то, летописцу, известно, что так или почти так уже бывало много раз — и с самой Москвой, и с иными русскими городами. И не только бывало, но, пожалуй, и наперед еще будет, и не раз, и в не менее страшном обличье придет беда, но это никак не причина для того, чтобы остолбенеть от предчувствий и перестать строить.
Ну а вчерашние погорельцы — черный посадский ремесленный люд, купцы, дружина, жещины, — была ли у них у всех сила духа такая, чтобы глянуть вперед с мрачно-торжественной прозорливостью летописца? Отчаявшимся, бездомным, не казалось ли им сейчас безобразное пепелище местом проклятым? То самое, что летописца обнадеживало: горели, мол, горели, но всякий раз отстраивались заново, — их, наоборот, могло еще более отвратить от желания возвращаться сюда, к остовам своих жилищ. Столько-то раз гореть! — да не знак ли это, что нужно, не оглядываясь, навсегда бежать отсюда, расточиться по укромным деревенькам, по лесным пустыням, или уж, на крайний случай, если князь и совет его повелят, то строиться где-либо еще, да подалей отсюда, на чистом, не знавшем злого сглазу месте.
А что сам отрок-киязь думал?.. Огонь, бесчинствующий, неукротимый, был одним из первых впечатлений его детства. Еще четырех лет не исполнилось Дмитрию, как на глазах его заполыхали дубовые срубы дедова Кромника. Дитя на пожаре. Как бы ни было ему страшно, оно смотрит на пожар зачарованно, во все глаза, почти с улыбкою любования, как на какую-то священную, только ребенку понятную, освобождающую игру природы, подобную языческому обряду жертвоприношения. Только по дрожи материнского тела, по алым слезам, стоящим в глазах отца, по женским диким воплям в толпе мог он отчасти догадываться об ужасном смысле происходящего... По крайней мере, горький и острый, несмываемый какой-то запах пожарища не мог не остаться в нем саднящим отпечатком на всю жизнь. Запахи детства по-особому запечатлеваются, чтобы потом преследовать, томить без спросу.
Так что же думал он теперь, после новой беды?.. И здесь вот, в порядке, так сказать, допущения, оглянемся еще раз на ту же Коломну. Да, Коломна — его, Дмитрия, первый город, Коломна — второй город в целом московском княжестве, и по назначению ключевому у слияния Москвы-реки и Оки, и по богатству, и по нагорной красоте местоположения. И даже храм каменный, пусть и единственный пока, стоит на москворецком склоне коломенского укрепленного города. Так почему бы, право, этому привольному месту, овеянному дыханием двух больших рек, с его красивым славянским именем (коло — круг, кольцо, солнце), не стать повой Дмитриевой столицей? Не бывало ли так на Руси? Ей, бывало! И Киев остарел. И слава Владимира померкла. И не вышел ли ныне срок Москвы? Не пришел ли ей черед отойти в тень нового града? Ко-ло-мна... Может быть, именно потому назначил он тут свою свадьбу?
Венчались — так местное предание гласит — в каменной Воскресенской церкви, дожившей, в сильно перестроенном, правда, виде до XX столетия.
Есть и еще предание, связанное с тою свадьбой. Академик С. Веселовский называет его «басней», но если и басня, то древняя, и уже потому ценная — в летописи вошла. Предание это бросает свет на взаимоотношения московского великокняжеского дома с семейством Вельяминовых. С его помощью «вельяминовский клубок» разматывается вдруг чуть не полностью. Уже потому только летописный сюжет следует пересказать здесь подробнее, тем более что речь также зайдет о свадьбе.
8 февраля 1433 года, через 67 лет после коломенской свадьбы в Москве, женится внук Дмитрия Ивановича Донского, великий князь Василий Васильевич, будущий Темный. Женится он при обстоятельствах, с которых начинается страшный, поистине трагический разлад в Русском государстве, приводящий к губительному для всей страны междоусобию, к плачевным последствиям и для самого великого князя, — он будет несколько раз изгоняем из Москвы, наконец, ослеплен в стенах Троицкого монастыря. Но по порядку.
На свадьбе Василия Васильевича в числе приглашенных находится его двоюродный брат Василий Юрьевич. В разгар празднества один нз именитых гостей объявляет вслух, что золотой пояс «на чепех с камением», который надел на себя Василий Юрьевич, ему не принадлежит, что этот пояс был когда-то подарен на свадьбе в Коломне князем Дмитрием Константиновичем своему зятю Дмитрию Ивановичу, но что тысяцкий Василий Вельяминов его во время той свадьбы мошеннически подменил.
Сообщение невероятное, такая давность, и вдруг обнаруживается, и в совершенно неподходящий момент! Можно вообразить предгрозовую тишину, оцепенившую свадебное застолье.
Но обвинитель продолжает: Дмитрий Константинович Суздальский и Нижегородский подарил зятю драгоценный пояс. Многие знают, а иные и помнят, как это было. Но никто почти не знает, что тогда же, на свадьбе, тысяцкий Вельяминов, пользуясь близостью к новобрачным и тем, что подарок не надевался, а почти тут же должен был попасть в великокняжескую скарбницу, совершил подлый обман, подыскав в своих ларях пояс подобный, но поплоше. Уворованную вещь Вельяминов дарит позднее своему сыну Микуле, женившемуся на другой дочери Дмитрия Константиновича. Через время Микула, зная или не зная про подлог, отдает пояс в приданое своему зятю, а тот, в свою очередь, также зятю, а по смерти его, выдавая дочь вторично, новому зятю, Василию Юрьевичу, который его сейчас на себя и нацепил. Вот но скольким свадьбам погуляла пропажа неузнанной, пока не обнаружилась!
Выслушав запутанное, но вполне правдоподобное объяснение, великая княгиня Софья, мать Василия Васильевича, вспылила и сорвала пояс с племянника (по праву он ведь должен принадлежать ее сыну!). Племянники — тут был еще и Дмитрий Юрьевич Шемяка — вспылили ответно, покинули свадьбу и тут же выехали из Москвы в Галич, к отцу. Разрыв был неминуем, не знал лишь никто ужасающих размеров его последствий.
Свадебное разоблачение давнишнего мошенничества С. Веселовский считает «басней» на том основании, что тут была чья-то явная интрига: поскандальней рассорить родственников, между которыми уже имелись некоторые трения. Но если «басня» была и полностью вымышленная, если никакой подмены поясов Василий Вельяминов в 1366 году не производил, то последствия злосчастного вымысла оказались разрушительными для русской действительности XV века. По крайней мере, Василий Васильевич Темный, злодейски ослепленный своими противниками, вряд ли мог поминать Вельяминова и весь род его добрым словом. Вряд ли приятно было помнить, что Вельяминов как-никак приходился родным дядей Дмитрию Ивановичу Донскому. Не здесь ли причина умышленной забывчивости летописцев относительно отчества матери Дмитрия, великой княгини Александры? Неприятно было помнить, что она — Васильевна, вельяминовского роду. Как-никак прабабушка.
Но не одна только «басня» о золотом поясе повредила Вельяминовым во мнении потомства. Десять лет спустя после свадьбы в Коломне «вельяминовский клубок» размотается до конца.
II
Было ли все же на уме у Дмитрия после пожара 1365 года перенести столицу своего московского княжества в Коломну? Предположение вполне допустимое, хотя, пожалуй, и чересчур мечтательное, даже с поправкой на юный возраст князя.
Ведь совершенно очевидно, что, если и пришла тогда в голову ему или кому-нибудь из наименее трезвенных мужей его совета мечта о Коломне-столице, большинство должно было тут же признать эту мысль никуда не годной. Никто не отнимает у Коломны ее значения, но она хороша именно как второй город, как крепкий щит московский на порубежной Оке. А сделай ее первой, тут же оскорбится Рязань, озлобится Орда. Это на юге. А как поведут себя соседи на севере, на западе? Пожалуй, и порадуются. Та же Литва, к примеру. Опустеет Москва, откуда же ждать скорой помощи Можайску, Рузе, Звенигороду, Волоколамску с Дмитровой? Княжество наше — как живое круглое тело. Москву из середины вынь — оборвутся все жилы животные, все бесчисленные связи и связочки, захиреют без привычной и близкой управы окружные города, старые людные села, слободы, деревни и погосты, починки и выселки, разомкнутся все трепетные узелочки, многими бережными руками в разные времена связанные. Но даже и не это, не это даже главное, а то, что Москва в стольких уже поколениях княжеская и великокняжеская. Пусть в ней ныне ни единого двора нету целого, пусть. Но она — не только лишь дерево и камень, не только богатые закрома. Она, перво-наперво, слово, и слово особое, давно уже у Руси на примете. Да обойдется ли теперь Русь, и не одна она, без этого слова? А слово цело, так подыщется для него и новая плоть. Не раз уже Москва от головешек зачиналась, замешивала жизнь свою на углищах и пепле. Она не из пугливых и слезам, как известно, не верит. Ей огонь — только для вящего закала. Она лишь молодеет, сквозь огонь пройдя... Словом, тут и доказывать нечего. Строиться надо, строиться!
Строиться Москва начала в том же пожарном году. И сразу повеселело на душе у москвичей — от праздничного вида бело-розовых, бело-голубых и воскового цвета плит известняка, от звона молотков и тесал, от тарарама многочисленных повозок. Город проклевывался там и сям золотыми всходами срубов, лез вверх из удобренной золою почвы, как крутобокий, не умещаемый в земле овощ.
Но тут встала перед горожанами, перед властью московской задача, решить которую было куда сложнее, чем понастроить жилья, амбаров, клетушек, лавок, банек и прочего, но которую решать надо было, ни на сколько не откладывая, если хотели, чтобы все это понастроенное имело хоть какой-то смысл.
Как быть с Кромником Калиты, вернее, с жалкими его нынешними остатками? После смерти Ивана Даниловича сооруженные при нем дубовые укрепления горели, включая и последний раз, трижды. В прежние разы стены кое-как возобновлялись: наращивали там и тут новую деревянную одежку, пространства между наружными и внутренними стенами срубов забутовывали булыжником и землей, поверхность бревен обмазывали, как и положено, глиной — охрана от скорого возгорания.
Ну а теперь что? Срубы почти все истлели, забутовка вывалилась наружу, как чрево из падшего коня. Вместо ладных и мощных когда-то укреплений — безобразные груды мусора. Можно, конечно, сделать видимость, кое-как пообровняв эти груды, залатав их деревом, а его покропив раствором известки, чтобы, когда обсохнет, отразилась в Москве-реке и Неглинке белая, якобы каменная крепость.
Нет, Дмитрию на месте нынешних осыпей упорно воображалась не поддельная, а настоящая белокаменная сила и краса. В эту-то Москву не стыдно ему будет и суженую привезти.
На Севере давно уже ставят каменные крепости, и новгородцы, и псковичи. И не только в больших, но и в малых городках — в Изборске построена, в Острове, в Ладоге. Но то Север, у них особая жизнь, иное представление о богатстве, у них всяк второй мужик — каменщик, а камень-валун на каждом шагу под ногой, только свози к месту и громозди.
А здесь, между Волгой и Окой, когда и кто строил из камня? Недавний случай с Борисом в Нижнем Новгороде не шел в счет, там и известь-то замесить не успели, как затейник отбыл восвояси. Один лишь действительный пример могли припомнить московские белобородые старцы, и то не на их веку было, а еще во времена доордынские, — это когда прапрапрадед Дмитрия великий князь Всеволод поставил каменный детинец вокруг Успенского собора в своем Владимире. Так и дни-то стояли совсем иные, благодатные для цветущего владимирского Ополья. И Всеволодов тот детинец — Дмитрий сам видел его остатки, когда ходил усмирять будущего тестя, — совсем малешенек. В Москве же, если строить каменный город, то никак нельзя, просто стыдно отступать от стен треугольного дедова Кромника. Границы же знатные: от угла до угла стрела не долетит.
Ведь совершенно очевидно, что, если и пришла тогда в голову ему или кому-нибудь из наименее трезвенных мужей его совета мечта о Коломне-столице, большинство должно было тут же признать эту мысль никуда не годной. Никто не отнимает у Коломны ее значения, но она хороша именно как второй город, как крепкий щит московский на порубежной Оке. А сделай ее первой, тут же оскорбится Рязань, озлобится Орда. Это на юге. А как поведут себя соседи на севере, на западе? Пожалуй, и порадуются. Та же Литва, к примеру. Опустеет Москва, откуда же ждать скорой помощи Можайску, Рузе, Звенигороду, Волоколамску с Дмитровой? Княжество наше — как живое круглое тело. Москву из середины вынь — оборвутся все жилы животные, все бесчисленные связи и связочки, захиреют без привычной и близкой управы окружные города, старые людные села, слободы, деревни и погосты, починки и выселки, разомкнутся все трепетные узелочки, многими бережными руками в разные времена связанные. Но даже и не это, не это даже главное, а то, что Москва в стольких уже поколениях княжеская и великокняжеская. Пусть в ней ныне ни единого двора нету целого, пусть. Но она — не только лишь дерево и камень, не только богатые закрома. Она, перво-наперво, слово, и слово особое, давно уже у Руси на примете. Да обойдется ли теперь Русь, и не одна она, без этого слова? А слово цело, так подыщется для него и новая плоть. Не раз уже Москва от головешек зачиналась, замешивала жизнь свою на углищах и пепле. Она не из пугливых и слезам, как известно, не верит. Ей огонь — только для вящего закала. Она лишь молодеет, сквозь огонь пройдя... Словом, тут и доказывать нечего. Строиться надо, строиться!
Строиться Москва начала в том же пожарном году. И сразу повеселело на душе у москвичей — от праздничного вида бело-розовых, бело-голубых и воскового цвета плит известняка, от звона молотков и тесал, от тарарама многочисленных повозок. Город проклевывался там и сям золотыми всходами срубов, лез вверх из удобренной золою почвы, как крутобокий, не умещаемый в земле овощ.
Но тут встала перед горожанами, перед властью московской задача, решить которую было куда сложнее, чем понастроить жилья, амбаров, клетушек, лавок, банек и прочего, но которую решать надо было, ни на сколько не откладывая, если хотели, чтобы все это понастроенное имело хоть какой-то смысл.
Как быть с Кромником Калиты, вернее, с жалкими его нынешними остатками? После смерти Ивана Даниловича сооруженные при нем дубовые укрепления горели, включая и последний раз, трижды. В прежние разы стены кое-как возобновлялись: наращивали там и тут новую деревянную одежку, пространства между наружными и внутренними стенами срубов забутовывали булыжником и землей, поверхность бревен обмазывали, как и положено, глиной — охрана от скорого возгорания.
Ну а теперь что? Срубы почти все истлели, забутовка вывалилась наружу, как чрево из падшего коня. Вместо ладных и мощных когда-то укреплений — безобразные груды мусора. Можно, конечно, сделать видимость, кое-как пообровняв эти груды, залатав их деревом, а его покропив раствором известки, чтобы, когда обсохнет, отразилась в Москве-реке и Неглинке белая, якобы каменная крепость.
Нет, Дмитрию на месте нынешних осыпей упорно воображалась не поддельная, а настоящая белокаменная сила и краса. В эту-то Москву не стыдно ему будет и суженую привезти.
На Севере давно уже ставят каменные крепости, и новгородцы, и псковичи. И не только в больших, но и в малых городках — в Изборске построена, в Острове, в Ладоге. Но то Север, у них особая жизнь, иное представление о богатстве, у них всяк второй мужик — каменщик, а камень-валун на каждом шагу под ногой, только свози к месту и громозди.
А здесь, между Волгой и Окой, когда и кто строил из камня? Недавний случай с Борисом в Нижнем Новгороде не шел в счет, там и известь-то замесить не успели, как затейник отбыл восвояси. Один лишь действительный пример могли припомнить московские белобородые старцы, и то не на их веку было, а еще во времена доордынские, — это когда прапрапрадед Дмитрия великий князь Всеволод поставил каменный детинец вокруг Успенского собора в своем Владимире. Так и дни-то стояли совсем иные, благодатные для цветущего владимирского Ополья. И Всеволодов тот детинец — Дмитрий сам видел его остатки, когда ходил усмирять будущего тестя, — совсем малешенек. В Москве же, если строить каменный город, то никак нельзя, просто стыдно отступать от стен треугольного дедова Кромника. Границы же знатные: от угла до угла стрела не долетит.
