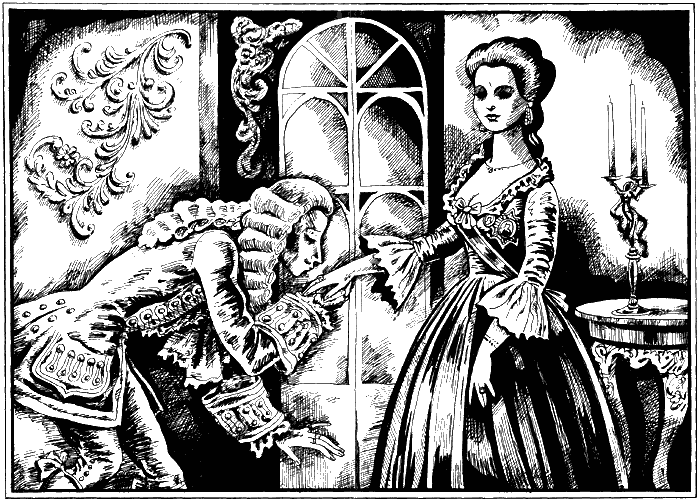Не помнил и не чувствовал, как князь Иван перетаскивал его в спальную комнату, а князь Алексей шептал Екатерине:
– Не убудет с тебя, ежели рядом полежишь. Он вовсе бесчувственный, эвон сколько выпил! Руку свою ему под голову просунь, а пуговки на себе расстегни. Учить все надо.
И дочь вынуждена была подчиниться воле отца. Брезгливо морщась и превозмогая свою неприязнь, представляла вместо этого мальчишки своего возлюбленного Миллезимо.
Спал Петр крепко и долго, а когда проснулся – за окном уже начинался новый день, – увидел спавшую рядом с собой княжну Катерину. А в дверях стояла княгиня Прасковья Юрьевна и укоризненно покачивала головой.
– Ах, батюшки!.. Да как же такое могло статься?..
Петр не помнил, как оказался с Екатериной, да ему и нечего было вспоминать, но зато все понял. Он сел на своей постели и сказал:
– Ладно. Не охай, Юрьевна. Женюсь на ней.
– Ой, батюшки родимые… – засуетилась Прасковья Юрьевна, как клушка, и побежала к мужу.
Следом за ней Петр тоже пошел к Алексею Григорьевичу. Тому что-то нездоровилось в то утро. Петр присел к нему на постель и сказал:
– Я имею до тебя просьоу и надеюсь, что ты мне в ней не откажешь. Я чувствую к твоей дочери любовь и желаю на ней жениться.
Князь Алексей, забыв про хворь, кинулся к нему с объятиями и со словами глубокой благодарности за столь милостивое расположение к его дочери. Сам пошел за нею, привел и объявил о намерении государя сочетаться с ней законным браком. Слова отца сначала повергли ее в некоторое замешательство, но, ободрившись, она поблагодарила государя за оказанную ей честь.
Уехав в тот же день в Москву, Петр остановился в Лефортовском дворце, созвал Верховный тайный совет, духовных иерархов, генералитет и объявил, что намерен вступить в брак с дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукого – Екатериной.
Никто не посмел ему возразить, все склонились перед его волей, но между собой роптали и осуждали Долгоруких.
– Молод еще государь, но скоро вырастет и тогда многое поймет, чего сейчас не понимает.
– Попадет Екатерина в монастырь, не избежать ей такой участи.
Но княжна Екатерина уже стала ее высочеством, государевой невестой. Наступил вожделенный день для Долгоруких. Они достигли предела величия и человеческого счастья.
30 ноября в 3 часа пополудни явились в Лефортовский дворец все члены царского дома, высшие придворные чины, духовные, военные и гражданские, а также иноземные посланники. И, когда все съехались, «поднялся его светлость обер-камергер князь Иван Алексеевич Долгорукий, принцессы-невесты брат, к сей церемонии учрежденный принципальный комиссар со свитой камергеров для поездки в Толовинский дворец и препровождения императорской невесты к сему торжеству».
Москва давно не видела такого пышного зрелища. Торжественную процессию открывали две императорские кареты цугом с камергерами, за ними в отдельной карете следовал обер-камергер, далее шли четыре императорских скорохода, ехали два придворных фурьера верхом, императорский шталмейстер тоже верхом, сопровождаемый восемью верховыми ее высочества гренадерами, сиречь кавалергардами, затем следовала великолепная карета цугом в восемь лошадей, «определенная для привезения ее императорского высочества принцессы-невесты» и в которой кроме нее сидели ее мать и сестры» «напереди экипажа стояли четыре императорские пажа, назади ехал камер-паж верхом, по бокам шли гайдуки и лакеи, все в уборной ливрее». Процессия замыкалась длинным рядом карет «с Долгоруковской фамилией так, что ближайшие сродники перед взяли, и с дамами свиты высоконареченной невесты, а напоследок, для особой пышности, шли порожние кареты». В Лефортовском дворце сколько для почета, столько же и для охраны, на всякий случай, был расставлен батальон гренадер с заряженными ружьями.
Когда карета невесты въезжала в дворцовые ворота, то украшавшая ее раззолоченная корона задела за перекладину ворот, сорвалась, упала наземь и разбилась вдребезги.
– Худая примета: свадьбе не бывать – заговорили в народе.
– Попомните: близок час падения Долгоруких.
На невесту это событие не произвело никакого впечатления. Подав руку брату, она, спокойная и величественная, вступила в императорское жилище, которое готовилось принадлежать и ей.
Екатерина была в платье из серебряной ткани, волосы расчесаны в четыре косы, убранные множеством алмазов, маленькая корона венчала голову. Княжна была задумчива, и лицо ее было бледно. Она села в уготовленные для нее кресла, а подле нее по правую руку сидела несколько пополневшая царица-бабка. (Мирские помыслы не были ею оставлены, а Новодевичий монастырь, где она обреталась, превращен был в царский дворец. Выходит, прав был ростовский епископ Досифей, напророчивший, что она выйдет из заточения в монастыре и снова будет царицей.) А по левую сторону от княжны Екатерины сидела цесаревна Елисавета. Мать и сестры невесты – позади.
«И как скоро она изволила войти в залу, то учинен был концерт в оркестре, в которое время гоф-маршал, обер-камергер и обер-церемониймейстер с другими чинами двора прошли за государем в его покои. Он вошел в церемониальную залу в сопровождении князя Алексея Долгорукого, остальных верховников, первых чинов двора и генералитета. Музыка перестала играть, и Петр остановился у своего кресла, окруженный блистательной свитой своих царедворцев. Наступала самая торжественная минута».
Посреди залы на персидском ковре у аналоя стояло духовенство в новых блистающих ризах во главе с архиепископом Феофаном Прокоповичем, невольно вспомнившим, как проводилось такое же торжество в Петербурге во дворце князя Меншикова, но старавшимся отвлечь себя от этих воспоминаний. Около него на покрытом золотой парчой столе лежал крест и два золотых блюда с кольцами. Жених и невеста встали под балдахин. Преосвященный Феофан прочел молитву, благословил обручальные кольца и вручил их жениху и невесте. Загремели выстрелы, возвестившие о том, что обручение совершено. Начались поздравления и целование руки невесты, причем одной из первых надлежало сделать это цесаревне Елисавете. Таково было тщеславное желание Екатерины.
Обращаясь к обрученной, ее дядя князь Василий Владимирович произнес приветственную речь:
– Вчера еще вы были моей племянницей, сегодня стали уже моею всемилостивейшей государыней, но да не ослепит вас блеск нового величия и да сохраните вы прежнюю кротость и смирение. Дом наш наделен всеми благами мира; не забывая, что вы из него происходите, помните, однако же, более всего то, что власть высочайшая, даруемая вам провидением, должна счастливить добрых и отмечать достойных отличия и наград, не разбирая ни племени ни рода.
По заключению многих, Петр был как-то равнодушен ко всему, не смотрел на свою невесту, не держал ее руку в своей руке и не проявлял никакого признака влюбленности. А у невесты был вид высокомерного презрения ко всему, что здесь происходит. Торжество обручения не уменьшило неловкости в отношениях жениха и невесты, не любивших друг друга. Екатерина все время сидела, потупив глаза, и вдруг, словно что подтолкнуло ее быстро подняться и устремить глаза на дальнюю дверь, в которую входил Миллезимо. Она нетерпеливо протянула ему руку для поцелуя. Петр обратил на это внимание и покраснел. Подоспевший князь Иван и еще кто-то из царедворцев поспешно вывели графа из залы и, как потом стало известно, Миллезимо в тот же день вынужден был покинуть Москву.
Несколько смущало князя Алексея, что его будущий зять пробыл несколько минут на открывшемся после обручения балу и куда-то исчез вместе с князем Иваном.
За торжеством обручения последовали постоянные пиры и празднества. Долгорукие ликовали – скоро свадьба. Только невесела была Екатерина. Ее теперь все чаще преследовала пугающая мысль: быть женой императора, а потом оказаться заключенной в келье монастыря, как было с первой женой деда этого второго Петра. Да и каким супругом может стать такой мальчишка? Видя его холодность, Екатерина готова была негодовать – зачем решилась принести себя в жертву. Не окажется ли она «разрушенной невестой»? Миллезимо теперь нет, но она, Екатерина, постарается найти себе утешение. И нашла его. В дни ожидания свадьбы с Петром II, она уже носила в себе плод любви конногвардейца Миктерова. Пусть будет так. Можно будет сказать, что это плод императорский.
Она ссорилась с братом Иваном, требуя бриллианты великой княжны Натальи, и поклялась возненавидеть брата. Долгорукие готовы были разграбить всю казну и спорили из-за своих долей. В семье все явственнее шли раздоры, словно собиралась гроза, и это каждый чувствовал. Петр не только не проявлял сердечности к невесте, но был холоднее и отчужденнее прежнего. Тяготился быть с нею вместе и чувствовал себя в более тяжелом положении, чем при Меншикове. Согласился на брак, не имея силы порвать с людьми, к которым привык. Легко было поворачиваться спиной к Меншикову, но тяжело это по отношению к Долгоруким, и особенно к Ивану, но тяжело сохранять с ними и прежние отношения. Невеста не по душе и даже совсем не нравится, а будто бы и обабил ее. Неужели он тогда, будучи пьяным, позволил завести себя дальше, чем следовало? Обабил девку. Где была сила воли, где характер? Согласился жениться, а невеста много старше его, и раздражение становилось тем сильнее, чем труднее мог он найти выход из создавшегося положения.
Слово царское изменчиво. Петр становился все угрюмее с невестой и в кругу ее семьи, а потому Долгорукие хотели ускорить свадьбу. Но мешал рождественский пост, а потом наступили святки, – венчаться в эти дни нельзя. Раньше как после крещения нельзя совершить бракосочетание. Порешили на том, чтобы свадьба была назначена на следующий после крещения день, а пока вести к ней приготовления. Верховный тайный совет ассигновал на расходы пятьдесят тысяч рублей. Знатные придворные люди старались превзойти друг друга в великолепии свадебных подарков.
Некоторое развлечение, отвлекавшее Петра от унылых раздумий, было связано с наметившейся женитьбой князя Ивана. Сначала он хотел жениться на дочери графа Павла Ивановича Ягужинского, но потом передумал и остановил свое внимание на дочери покойного фельдмаршала Шереметева, Наталье. Петр присутствовал при их обручении, и ему запомнилось, что кольцо жениха стоило двенадцать тысяч рублей, а невесты – шесть тысяч. Было решено между друзьями, что они повенчаются в один и тот же день, и Петру казалось, что он не будет чувствовать себя особенно одиноким: Иван по-дружески как-то поддержит его общностью их свадеб.
Балы и пиршества следовали один за другим в ожидании двойной брачной церемонии. Москва наполнялась приехавшими на это торжество многими дворянами. Было общее оживление.
V
VI
– Не убудет с тебя, ежели рядом полежишь. Он вовсе бесчувственный, эвон сколько выпил! Руку свою ему под голову просунь, а пуговки на себе расстегни. Учить все надо.
И дочь вынуждена была подчиниться воле отца. Брезгливо морщась и превозмогая свою неприязнь, представляла вместо этого мальчишки своего возлюбленного Миллезимо.
Спал Петр крепко и долго, а когда проснулся – за окном уже начинался новый день, – увидел спавшую рядом с собой княжну Катерину. А в дверях стояла княгиня Прасковья Юрьевна и укоризненно покачивала головой.
– Ах, батюшки!.. Да как же такое могло статься?..
Петр не помнил, как оказался с Екатериной, да ему и нечего было вспоминать, но зато все понял. Он сел на своей постели и сказал:
– Ладно. Не охай, Юрьевна. Женюсь на ней.
– Ой, батюшки родимые… – засуетилась Прасковья Юрьевна, как клушка, и побежала к мужу.
Следом за ней Петр тоже пошел к Алексею Григорьевичу. Тому что-то нездоровилось в то утро. Петр присел к нему на постель и сказал:
– Я имею до тебя просьоу и надеюсь, что ты мне в ней не откажешь. Я чувствую к твоей дочери любовь и желаю на ней жениться.
Князь Алексей, забыв про хворь, кинулся к нему с объятиями и со словами глубокой благодарности за столь милостивое расположение к его дочери. Сам пошел за нею, привел и объявил о намерении государя сочетаться с ней законным браком. Слова отца сначала повергли ее в некоторое замешательство, но, ободрившись, она поблагодарила государя за оказанную ей честь.
Уехав в тот же день в Москву, Петр остановился в Лефортовском дворце, созвал Верховный тайный совет, духовных иерархов, генералитет и объявил, что намерен вступить в брак с дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукого – Екатериной.
Никто не посмел ему возразить, все склонились перед его волей, но между собой роптали и осуждали Долгоруких.
– Молод еще государь, но скоро вырастет и тогда многое поймет, чего сейчас не понимает.
– Попадет Екатерина в монастырь, не избежать ей такой участи.
Но княжна Екатерина уже стала ее высочеством, государевой невестой. Наступил вожделенный день для Долгоруких. Они достигли предела величия и человеческого счастья.
30 ноября в 3 часа пополудни явились в Лефортовский дворец все члены царского дома, высшие придворные чины, духовные, военные и гражданские, а также иноземные посланники. И, когда все съехались, «поднялся его светлость обер-камергер князь Иван Алексеевич Долгорукий, принцессы-невесты брат, к сей церемонии учрежденный принципальный комиссар со свитой камергеров для поездки в Толовинский дворец и препровождения императорской невесты к сему торжеству».
Москва давно не видела такого пышного зрелища. Торжественную процессию открывали две императорские кареты цугом с камергерами, за ними в отдельной карете следовал обер-камергер, далее шли четыре императорских скорохода, ехали два придворных фурьера верхом, императорский шталмейстер тоже верхом, сопровождаемый восемью верховыми ее высочества гренадерами, сиречь кавалергардами, затем следовала великолепная карета цугом в восемь лошадей, «определенная для привезения ее императорского высочества принцессы-невесты» и в которой кроме нее сидели ее мать и сестры» «напереди экипажа стояли четыре императорские пажа, назади ехал камер-паж верхом, по бокам шли гайдуки и лакеи, все в уборной ливрее». Процессия замыкалась длинным рядом карет «с Долгоруковской фамилией так, что ближайшие сродники перед взяли, и с дамами свиты высоконареченной невесты, а напоследок, для особой пышности, шли порожние кареты». В Лефортовском дворце сколько для почета, столько же и для охраны, на всякий случай, был расставлен батальон гренадер с заряженными ружьями.
Когда карета невесты въезжала в дворцовые ворота, то украшавшая ее раззолоченная корона задела за перекладину ворот, сорвалась, упала наземь и разбилась вдребезги.
– Худая примета: свадьбе не бывать – заговорили в народе.
– Попомните: близок час падения Долгоруких.
На невесту это событие не произвело никакого впечатления. Подав руку брату, она, спокойная и величественная, вступила в императорское жилище, которое готовилось принадлежать и ей.
Екатерина была в платье из серебряной ткани, волосы расчесаны в четыре косы, убранные множеством алмазов, маленькая корона венчала голову. Княжна была задумчива, и лицо ее было бледно. Она села в уготовленные для нее кресла, а подле нее по правую руку сидела несколько пополневшая царица-бабка. (Мирские помыслы не были ею оставлены, а Новодевичий монастырь, где она обреталась, превращен был в царский дворец. Выходит, прав был ростовский епископ Досифей, напророчивший, что она выйдет из заточения в монастыре и снова будет царицей.) А по левую сторону от княжны Екатерины сидела цесаревна Елисавета. Мать и сестры невесты – позади.
«И как скоро она изволила войти в залу, то учинен был концерт в оркестре, в которое время гоф-маршал, обер-камергер и обер-церемониймейстер с другими чинами двора прошли за государем в его покои. Он вошел в церемониальную залу в сопровождении князя Алексея Долгорукого, остальных верховников, первых чинов двора и генералитета. Музыка перестала играть, и Петр остановился у своего кресла, окруженный блистательной свитой своих царедворцев. Наступала самая торжественная минута».
Посреди залы на персидском ковре у аналоя стояло духовенство в новых блистающих ризах во главе с архиепископом Феофаном Прокоповичем, невольно вспомнившим, как проводилось такое же торжество в Петербурге во дворце князя Меншикова, но старавшимся отвлечь себя от этих воспоминаний. Около него на покрытом золотой парчой столе лежал крест и два золотых блюда с кольцами. Жених и невеста встали под балдахин. Преосвященный Феофан прочел молитву, благословил обручальные кольца и вручил их жениху и невесте. Загремели выстрелы, возвестившие о том, что обручение совершено. Начались поздравления и целование руки невесты, причем одной из первых надлежало сделать это цесаревне Елисавете. Таково было тщеславное желание Екатерины.
Обращаясь к обрученной, ее дядя князь Василий Владимирович произнес приветственную речь:
– Вчера еще вы были моей племянницей, сегодня стали уже моею всемилостивейшей государыней, но да не ослепит вас блеск нового величия и да сохраните вы прежнюю кротость и смирение. Дом наш наделен всеми благами мира; не забывая, что вы из него происходите, помните, однако же, более всего то, что власть высочайшая, даруемая вам провидением, должна счастливить добрых и отмечать достойных отличия и наград, не разбирая ни племени ни рода.
По заключению многих, Петр был как-то равнодушен ко всему, не смотрел на свою невесту, не держал ее руку в своей руке и не проявлял никакого признака влюбленности. А у невесты был вид высокомерного презрения ко всему, что здесь происходит. Торжество обручения не уменьшило неловкости в отношениях жениха и невесты, не любивших друг друга. Екатерина все время сидела, потупив глаза, и вдруг, словно что подтолкнуло ее быстро подняться и устремить глаза на дальнюю дверь, в которую входил Миллезимо. Она нетерпеливо протянула ему руку для поцелуя. Петр обратил на это внимание и покраснел. Подоспевший князь Иван и еще кто-то из царедворцев поспешно вывели графа из залы и, как потом стало известно, Миллезимо в тот же день вынужден был покинуть Москву.
Несколько смущало князя Алексея, что его будущий зять пробыл несколько минут на открывшемся после обручения балу и куда-то исчез вместе с князем Иваном.
За торжеством обручения последовали постоянные пиры и празднества. Долгорукие ликовали – скоро свадьба. Только невесела была Екатерина. Ее теперь все чаще преследовала пугающая мысль: быть женой императора, а потом оказаться заключенной в келье монастыря, как было с первой женой деда этого второго Петра. Да и каким супругом может стать такой мальчишка? Видя его холодность, Екатерина готова была негодовать – зачем решилась принести себя в жертву. Не окажется ли она «разрушенной невестой»? Миллезимо теперь нет, но она, Екатерина, постарается найти себе утешение. И нашла его. В дни ожидания свадьбы с Петром II, она уже носила в себе плод любви конногвардейца Миктерова. Пусть будет так. Можно будет сказать, что это плод императорский.
Она ссорилась с братом Иваном, требуя бриллианты великой княжны Натальи, и поклялась возненавидеть брата. Долгорукие готовы были разграбить всю казну и спорили из-за своих долей. В семье все явственнее шли раздоры, словно собиралась гроза, и это каждый чувствовал. Петр не только не проявлял сердечности к невесте, но был холоднее и отчужденнее прежнего. Тяготился быть с нею вместе и чувствовал себя в более тяжелом положении, чем при Меншикове. Согласился на брак, не имея силы порвать с людьми, к которым привык. Легко было поворачиваться спиной к Меншикову, но тяжело это по отношению к Долгоруким, и особенно к Ивану, но тяжело сохранять с ними и прежние отношения. Невеста не по душе и даже совсем не нравится, а будто бы и обабил ее. Неужели он тогда, будучи пьяным, позволил завести себя дальше, чем следовало? Обабил девку. Где была сила воли, где характер? Согласился жениться, а невеста много старше его, и раздражение становилось тем сильнее, чем труднее мог он найти выход из создавшегося положения.
Слово царское изменчиво. Петр становился все угрюмее с невестой и в кругу ее семьи, а потому Долгорукие хотели ускорить свадьбу. Но мешал рождественский пост, а потом наступили святки, – венчаться в эти дни нельзя. Раньше как после крещения нельзя совершить бракосочетание. Порешили на том, чтобы свадьба была назначена на следующий после крещения день, а пока вести к ней приготовления. Верховный тайный совет ассигновал на расходы пятьдесят тысяч рублей. Знатные придворные люди старались превзойти друг друга в великолепии свадебных подарков.
Некоторое развлечение, отвлекавшее Петра от унылых раздумий, было связано с наметившейся женитьбой князя Ивана. Сначала он хотел жениться на дочери графа Павла Ивановича Ягужинского, но потом передумал и остановил свое внимание на дочери покойного фельдмаршала Шереметева, Наталье. Петр присутствовал при их обручении, и ему запомнилось, что кольцо жениха стоило двенадцать тысяч рублей, а невесты – шесть тысяч. Было решено между друзьями, что они повенчаются в один и тот же день, и Петру казалось, что он не будет чувствовать себя особенно одиноким: Иван по-дружески как-то поддержит его общностью их свадеб.
Балы и пиршества следовали один за другим в ожидании двойной брачной церемонии. Москва наполнялась приехавшими на это торжество многими дворянами. Было общее оживление.
V
Укутало снеговой шубой землю, изукрасило морозным инеем лесные чащобы, – самому бывалому человеку не узнать преображенных тех мест, где и в теплую летнюю пору была задичавшая глушь.
А сбочь проложенного нуги или пересекая его, то здесь, то там на снегу цепочки звериных следов. Словно узнали зайцы, что у заезжего верхом на лошади охотника ни ружья при себе, ни рыскающих по сторонам собак и в помине нет, – безбоязненно показывались и не торопились прятаться. Да ну их, этих зайцев, сколько перебито да собаками затравлено, – надоело. Гораздо приятнее вот так, бесцельно и неторопливо, ехать, пользуясь остатными днями своего холостого молодечества. Через два дня крещение, а потом – свадьба. А зачем? Кому она нужна?..
На лесной плешинке, оставшейся от вырубки, чернел большой крест из неошкуренной сосны. Издавна велось на Руси – тайно поставить большой крест на каком-нибудь видном месте. Кто из проходящих или проезжающих людей перед таким крестом помолится, молитва пойдет за человека, срубившего и поставившего крест. Иной догадливый мужик много крестов в лесу понаставит и может потом молитвой себя особо не утруждать, зная, что за него другие молятся. Вот и Петр перекрестился, порадел перед богом за неизвестного и тронул коня ехать дальше.
Весь рождественский пост и святки у Долгоруких постились, ели соленую рыбу. Нынче – тоже, и перед этой прогулочной поездкой Петр хлебнул малость еще не настоявшегося кваса, и теперь начинала одолевать жажда. Хорошо, что на пути показалась какая-то деревушка. Из крайней избы над дверью в волоковом окошке крутился дым, – избу топили по-черному. Вышла на порог закутанная в овчинную шубейку старуха, и Петр попросил у нее воды. Целый корец вынесла она ему, спросила:
– Сам-то чей?
– Долгоруковский, – ответил Петр.
– Наших новых господ, – пояснила для себя старуха. – Сказал бы ты им, может, к нам лекаря пошлют. Воспа, слышь. Чуть не во всей деревне влежку лежат. И у меня в избе двое.
– Ладно, скажу, – пообещал Петр. – Спасибо, что напоила.
– Не за что, милый, не за что, – принимая от него корец, говорила старуха. – Сделай милость, скажи.
Не хотелось Петру возвращаться в Горенки, и он уехал в Москву. Там, в Лефортовском дворце, была жарко натоплена печка, выставившая горячий свой бок в спальную комнату, где обосновался Петр, и так хорошо было ему уснуть после поездки верхом по заснеженному подмосковному лесу.
Утром он отправился на водосвятие, устроенное на Москве-реке. Погода выдалась холодная, с морозным ветром. Находясь перед фрунтом собранных со всей Москвы солдат, Петр во время богослужения долго стоял неподвижно с непокрытой головой и сильно продрог. В ночь его охватила лихорадка и разболелась голова. Лекарь принял это за горячку и применил охлаждающее – лед.
Наутро по Москве разнесся слух о болезни государя, а еще через день стало известно, что у него злокачественная и весьма опасная оспа.
Ужас охватил Долгоруких. Быть так близко к осуществлению своих заветнейших желаний, уже чувствовать под ногами ступени трона и вдруг после высоты, на какую они забрались, видеть перед собой пропасть, готовую их поглотить, – князя Алексея трясла нервная лихорадка не слабее оспенной. Но можно было трепетать от страха, однако не бездействовать, и князь Алексей срочно созывал всех родичей на семейный совет.
Фельдмаршал князь Василий Владимирович был у княжны Вяземской в ее подмосковной деревне, но разыскали и его. Прибывший срочный гонец сообщил об опасной болезни государя и просил князя без промедления ехать в Москву. Вместе с братом Михаилом князь Василий прибыл в Головинский дворец.
На дворе крещенский мороз, а в спальне князя Алексея Григорьевича потрескивал горящий камин; стекла окон покрылись густыми морозными узорами, и в комнате от этого был полумрак. На огромной кровати под балдахином, закутанный в телогрейку, сидел князь Алексей, не в силах унимать одолевавшую все тело дрожь. Все большое семейство Долгоруких – и Григорьевичи, и Владимировичи и князь Василий Лукич были в сборе. Последние сообщения лекаря не давали надежд на благополучный исход болезни. Князь Алексей с сыном Иваном и остальные Григорьевичи согласно решили в случае кончины государя провозгласить наследницею его высочайших прав и самодержавной государыней-императрицей его невесту Екатерину Долгорукую.
Прямодушный князь Василий Владимирович напомнил, что, хотя он вначале и высказывался против замысла женить Петра II на Екатерине, но, когда это уже наладилось, не стал препятствовать, а услышав теперь о таком намерении родичей, негодующе сказал:
– Неслыханное дело вы затеяли, чтобы невесте стать наследницей российского престола! Кто захочет быть ее подданным? Не только чужие люди, но и я и прочие из нашей фамилии, никто в подданстве у нее быть не захотят. И ко всему тому невеста с государем не обвенчана.
– Хоть и не венчана, но обручалась, – возразил князь Алексей.
– Обручение – иное, а венчание – совсем иное, – говорил Василий Владимирович.
– Можно тайно обвенчать их, – настаивал князь Алексей, но ему заметили, что совершенный не в положенное церковью время тайный брак не будет иметь законной силы.
– Да ежели б она с его величеством в супружестве была, то и тогда бы в учинении ее наследницей сомненье было бы, – внушал своим двоюродным братьям князь Василий.
Князья Григорьевичи, недовольные возражениями фельдмаршала, еще надеялись склонить его на свою сторону.
– Мы уговорим к тому графа Головкина и князя Димитрия Голицына, а ежели они заспорят о том, то станем бить их. Как так не сделаться по-нашему? Ты – в Преображенском полку главное начальство, и князь Иван там майором, а в Семеновском полку спорить о том будет некому.
– Что вы врете, ребята? – зашумел на них князь Василий. – Как же мне в полку такое объявить? Да меня не только забранят, но и убьют.
Ужасаясь дерзновению своих сородичей и предугадывая гибельные последствия задуманного ими, князь Василий заявил, что сколь безумны, столь и преступны такие замыслы. Он заклинал их отстать от замышленного дела и предвещал в противном случае неизбежную гибель всему их роду.
– Лучше правду вам сказать об этом, а не манить несбыточными мыслями. Вы зашли слишком далеко, начав выказывать себя господами положения.
Но, видя все же непреклонность князя Алексея, его родных братьев и сына Ивана, князь Василий Владимирович покинул Головинский дворец, и с того часа ни он, ни его брат Михаил никогда более не участвовали в совещаниях и действиях других Долгоруких.
Князь Алексей Григорьевич, его сын и братья, не убежденные, а только раздосадованные словами князя Василия, решились действовать, уже не полагаясь на помощь гвардии, поскольку там начальствовал несговорчивый фельдмаршал, и придумывали другое средство, подсказанное датским посланником Вестфаленом. Дипломат прислал князю Василию Лукичу Долгорукому такое письмо: «Слух носится, что его величество весьма болен и ежели наследство Российской империи будет передано цесаревне Елисавете, то Датскому королевскому двору с Россиею дружбы иметь не можно, а понеже его величества обрученная невеста фамилии Вашей, то и можно удержать престол за нею, так как после кончины Петра Великого две знатные персоны, а именно – Меншиков и Толстой, государыню императрицу Екатерину удержали, что и вам по вашей знатной фамилии учинить можно и что вы больше силы и славы имеете».
Это письмо, сообщенное князем Василием Лукичом князьям Григорьевичам, окончательно убедило их действовать своими опасными путями.
Они сочинили будто бы от имени самого государя духовную, по которой наследство престола завещалось в пользу обрученной невесты. Князья – Алексей Григорьевич и Василий Лукич диктовали слова духовной, причем Василий Лукич выказал во всей наготе свое легкомысленное малодушие и человекоугодничество. Он способствовал честолюбивым замыслам Алексея Григорьевича не по своему убеждению, а частью из страха. «В сердце своем горячности о том не имел, – сознавался потом он сам, – а каковым образом в духовной писать указывал, прислуживаясь князю Алексею и опасаясь, чтоб его не раздражить и чтобы в случае, ежели его величество выздоровеет, князь Алексей не учинил бы мне какой беды. К тому же видел, ежели его величество скончается, тогда духовная и все их замыслы не оправдаются».
Князь Сергей писал со слов их сперва начерно, а потом переписал эту «духовную» добрым письмом в двух экземплярах. Один – по приказу отца и дяди подписал князь Иван Алексеевич таким почерком, как его величество сам имя свое подписывал, а другой экземпляр взял с собою, чтобы при удобном случае поднести государю для собственноручного его подписания. И тогда же они решили, что, ежели государь за тяжкою его болезнею, духовной подписать будет не в состоянии, то предъявить народу завещание, подписанное рукой князя Ивана, и сказать, что якобы сам государь такое подписал.
Все было оговорено, и князь Иван помчался в Лефортовский дворец, вбежал к больному, а там сидел Остерман. Иван ходил взад и вперед по комнате, выжидая удобной минуты, но Остерман неотлучно находился тут же и словно сторожил Петра, а тот, в бреду, все звал его к себе.
В ночь началась агония. Петр вдруг приподнялся на постели и громко крикнул:
– Запрягайте сани, поеду к сестре.
И замертво упал на подушки.
Через несколько минут после смерти Петра князь Иван Долгорукий побежал по Лефортовскому дворцу с саблей в руке, крича:
– Да здравствует императрица Екатерина!
Но, не встретив ничьей поддержки, вернулся домой и сжег «духовную».
Все замыслы Долгоруких разлетелись прахом, «яко сосуд скудельный», как говорил Феофан Прокопович.
В наступивший день должна была состояться свадьба Петра II и его обрученной невесты Екатерины, и в тот же день от Долгоруких все отшатнулись, как от зачумленных. Только невеста князя Ивана – Наталья Шереметева сказала о своем суженом:
– Была его невестой, когда он был на высоте, останусь с ним, и когда он низвержен.
А сбочь проложенного нуги или пересекая его, то здесь, то там на снегу цепочки звериных следов. Словно узнали зайцы, что у заезжего верхом на лошади охотника ни ружья при себе, ни рыскающих по сторонам собак и в помине нет, – безбоязненно показывались и не торопились прятаться. Да ну их, этих зайцев, сколько перебито да собаками затравлено, – надоело. Гораздо приятнее вот так, бесцельно и неторопливо, ехать, пользуясь остатными днями своего холостого молодечества. Через два дня крещение, а потом – свадьба. А зачем? Кому она нужна?..
На лесной плешинке, оставшейся от вырубки, чернел большой крест из неошкуренной сосны. Издавна велось на Руси – тайно поставить большой крест на каком-нибудь видном месте. Кто из проходящих или проезжающих людей перед таким крестом помолится, молитва пойдет за человека, срубившего и поставившего крест. Иной догадливый мужик много крестов в лесу понаставит и может потом молитвой себя особо не утруждать, зная, что за него другие молятся. Вот и Петр перекрестился, порадел перед богом за неизвестного и тронул коня ехать дальше.
Весь рождественский пост и святки у Долгоруких постились, ели соленую рыбу. Нынче – тоже, и перед этой прогулочной поездкой Петр хлебнул малость еще не настоявшегося кваса, и теперь начинала одолевать жажда. Хорошо, что на пути показалась какая-то деревушка. Из крайней избы над дверью в волоковом окошке крутился дым, – избу топили по-черному. Вышла на порог закутанная в овчинную шубейку старуха, и Петр попросил у нее воды. Целый корец вынесла она ему, спросила:
– Сам-то чей?
– Долгоруковский, – ответил Петр.
– Наших новых господ, – пояснила для себя старуха. – Сказал бы ты им, может, к нам лекаря пошлют. Воспа, слышь. Чуть не во всей деревне влежку лежат. И у меня в избе двое.
– Ладно, скажу, – пообещал Петр. – Спасибо, что напоила.
– Не за что, милый, не за что, – принимая от него корец, говорила старуха. – Сделай милость, скажи.
Не хотелось Петру возвращаться в Горенки, и он уехал в Москву. Там, в Лефортовском дворце, была жарко натоплена печка, выставившая горячий свой бок в спальную комнату, где обосновался Петр, и так хорошо было ему уснуть после поездки верхом по заснеженному подмосковному лесу.
Утром он отправился на водосвятие, устроенное на Москве-реке. Погода выдалась холодная, с морозным ветром. Находясь перед фрунтом собранных со всей Москвы солдат, Петр во время богослужения долго стоял неподвижно с непокрытой головой и сильно продрог. В ночь его охватила лихорадка и разболелась голова. Лекарь принял это за горячку и применил охлаждающее – лед.
Наутро по Москве разнесся слух о болезни государя, а еще через день стало известно, что у него злокачественная и весьма опасная оспа.
Ужас охватил Долгоруких. Быть так близко к осуществлению своих заветнейших желаний, уже чувствовать под ногами ступени трона и вдруг после высоты, на какую они забрались, видеть перед собой пропасть, готовую их поглотить, – князя Алексея трясла нервная лихорадка не слабее оспенной. Но можно было трепетать от страха, однако не бездействовать, и князь Алексей срочно созывал всех родичей на семейный совет.
Фельдмаршал князь Василий Владимирович был у княжны Вяземской в ее подмосковной деревне, но разыскали и его. Прибывший срочный гонец сообщил об опасной болезни государя и просил князя без промедления ехать в Москву. Вместе с братом Михаилом князь Василий прибыл в Головинский дворец.
На дворе крещенский мороз, а в спальне князя Алексея Григорьевича потрескивал горящий камин; стекла окон покрылись густыми морозными узорами, и в комнате от этого был полумрак. На огромной кровати под балдахином, закутанный в телогрейку, сидел князь Алексей, не в силах унимать одолевавшую все тело дрожь. Все большое семейство Долгоруких – и Григорьевичи, и Владимировичи и князь Василий Лукич были в сборе. Последние сообщения лекаря не давали надежд на благополучный исход болезни. Князь Алексей с сыном Иваном и остальные Григорьевичи согласно решили в случае кончины государя провозгласить наследницею его высочайших прав и самодержавной государыней-императрицей его невесту Екатерину Долгорукую.
Прямодушный князь Василий Владимирович напомнил, что, хотя он вначале и высказывался против замысла женить Петра II на Екатерине, но, когда это уже наладилось, не стал препятствовать, а услышав теперь о таком намерении родичей, негодующе сказал:
– Неслыханное дело вы затеяли, чтобы невесте стать наследницей российского престола! Кто захочет быть ее подданным? Не только чужие люди, но и я и прочие из нашей фамилии, никто в подданстве у нее быть не захотят. И ко всему тому невеста с государем не обвенчана.
– Хоть и не венчана, но обручалась, – возразил князь Алексей.
– Обручение – иное, а венчание – совсем иное, – говорил Василий Владимирович.
– Можно тайно обвенчать их, – настаивал князь Алексей, но ему заметили, что совершенный не в положенное церковью время тайный брак не будет иметь законной силы.
– Да ежели б она с его величеством в супружестве была, то и тогда бы в учинении ее наследницей сомненье было бы, – внушал своим двоюродным братьям князь Василий.
Князья Григорьевичи, недовольные возражениями фельдмаршала, еще надеялись склонить его на свою сторону.
– Мы уговорим к тому графа Головкина и князя Димитрия Голицына, а ежели они заспорят о том, то станем бить их. Как так не сделаться по-нашему? Ты – в Преображенском полку главное начальство, и князь Иван там майором, а в Семеновском полку спорить о том будет некому.
– Что вы врете, ребята? – зашумел на них князь Василий. – Как же мне в полку такое объявить? Да меня не только забранят, но и убьют.
Ужасаясь дерзновению своих сородичей и предугадывая гибельные последствия задуманного ими, князь Василий заявил, что сколь безумны, столь и преступны такие замыслы. Он заклинал их отстать от замышленного дела и предвещал в противном случае неизбежную гибель всему их роду.
– Лучше правду вам сказать об этом, а не манить несбыточными мыслями. Вы зашли слишком далеко, начав выказывать себя господами положения.
Но, видя все же непреклонность князя Алексея, его родных братьев и сына Ивана, князь Василий Владимирович покинул Головинский дворец, и с того часа ни он, ни его брат Михаил никогда более не участвовали в совещаниях и действиях других Долгоруких.
Князь Алексей Григорьевич, его сын и братья, не убежденные, а только раздосадованные словами князя Василия, решились действовать, уже не полагаясь на помощь гвардии, поскольку там начальствовал несговорчивый фельдмаршал, и придумывали другое средство, подсказанное датским посланником Вестфаленом. Дипломат прислал князю Василию Лукичу Долгорукому такое письмо: «Слух носится, что его величество весьма болен и ежели наследство Российской империи будет передано цесаревне Елисавете, то Датскому королевскому двору с Россиею дружбы иметь не можно, а понеже его величества обрученная невеста фамилии Вашей, то и можно удержать престол за нею, так как после кончины Петра Великого две знатные персоны, а именно – Меншиков и Толстой, государыню императрицу Екатерину удержали, что и вам по вашей знатной фамилии учинить можно и что вы больше силы и славы имеете».
Это письмо, сообщенное князем Василием Лукичом князьям Григорьевичам, окончательно убедило их действовать своими опасными путями.
Они сочинили будто бы от имени самого государя духовную, по которой наследство престола завещалось в пользу обрученной невесты. Князья – Алексей Григорьевич и Василий Лукич диктовали слова духовной, причем Василий Лукич выказал во всей наготе свое легкомысленное малодушие и человекоугодничество. Он способствовал честолюбивым замыслам Алексея Григорьевича не по своему убеждению, а частью из страха. «В сердце своем горячности о том не имел, – сознавался потом он сам, – а каковым образом в духовной писать указывал, прислуживаясь князю Алексею и опасаясь, чтоб его не раздражить и чтобы в случае, ежели его величество выздоровеет, князь Алексей не учинил бы мне какой беды. К тому же видел, ежели его величество скончается, тогда духовная и все их замыслы не оправдаются».
Князь Сергей писал со слов их сперва начерно, а потом переписал эту «духовную» добрым письмом в двух экземплярах. Один – по приказу отца и дяди подписал князь Иван Алексеевич таким почерком, как его величество сам имя свое подписывал, а другой экземпляр взял с собою, чтобы при удобном случае поднести государю для собственноручного его подписания. И тогда же они решили, что, ежели государь за тяжкою его болезнею, духовной подписать будет не в состоянии, то предъявить народу завещание, подписанное рукой князя Ивана, и сказать, что якобы сам государь такое подписал.
Все было оговорено, и князь Иван помчался в Лефортовский дворец, вбежал к больному, а там сидел Остерман. Иван ходил взад и вперед по комнате, выжидая удобной минуты, но Остерман неотлучно находился тут же и словно сторожил Петра, а тот, в бреду, все звал его к себе.
В ночь началась агония. Петр вдруг приподнялся на постели и громко крикнул:
– Запрягайте сани, поеду к сестре.
И замертво упал на подушки.
Через несколько минут после смерти Петра князь Иван Долгорукий побежал по Лефортовскому дворцу с саблей в руке, крича:
– Да здравствует императрица Екатерина!
Но, не встретив ничьей поддержки, вернулся домой и сжег «духовную».
Все замыслы Долгоруких разлетелись прахом, «яко сосуд скудельный», как говорил Феофан Прокопович.
В наступивший день должна была состояться свадьба Петра II и его обрученной невесты Екатерины, и в тот же день от Долгоруких все отшатнулись, как от зачумленных. Только невеста князя Ивана – Наталья Шереметева сказала о своем суженом:
– Была его невестой, когда он был на высоте, останусь с ним, и когда он низвержен.
VI
Только и остается, что руки на себя наложить, до того противно все стало в Митаве, – глаза завяжи да бежи. Но – куда?..
Вспоминалось Измайлово, проведенная там девичья пора. Вот где привольно все было! Теперь там Парашка хозяйствует, и у нее, должно быть, всего полно. Она запасливая, в мать-покойницу. А тут, в злосчастной этой Курляндии, как была она, Анна, для всех чужой – чужой и осталась.
О, господи! как все было приглядно там. К жилому дому примыкали кладовые, поварни, медоварни, винные погреба. Стоило, бывало, только выйти на крыльцо, и – тут как тут – пестрой шумливой гурьбой все любезные сердцу придворные приживальщики: кто – в овчине навыворот, кто – под стать настоящему ефиопу сажей мазаный-перемазаный; лысый ветхий старик – в цветастом девичьем сарафане, а баба – в бороде и в усах. Одни через голову кувыркаются, другие – тузят друг дружку; кто козой либо овцой заблеял, а кто по-петушиному закукарекал, – и не хочешь, а развеселишься. Вынесут дворские девки под балдахин подушки, чтобы мягко было сидеть, а солнце чтобы подрумяненный лик не напекало, – отдыхай, Аннушка, царевна милая. А ежели наскучит так сидеть, можно вместе с маменькой суд-расправу чинить. Ежели в какой день не окажется подлинно провинившегося, то любого придворного как бы в назидание на предбудущие времена можно было плетью постегать. Иной так смешно по-заячьи заверещит, что и сам палач рассмеется. И обучалась с сестрами там в давнюю девичью пору всем тонкостям заграничного обхождения, чтобы было все на иноземный манер, чужой грамоте и разговорам учились, танцам и другим политесам. Не вернуть теперь этого ничего.
Если и приедешь туда, день-другой погостишь, а потом Парашка скажет – хватит, поезжай назад в свою Курляндию, а какая она своя? Век бы ее не видала.
Слух дошел, что в Измайлове Катеринка, мекленбургская герцогиня, живет, с ней Парашка дружбу водит и, должно, не гонит. Молодой царь Петр обеим денежный пенсион назначил, а тут живи в постылом мизерном положении, а ведь такая же царская кровь… (И слезы огорчения сами собой катятся по насурмленным щекам.)
Что это? Никак кто-то вошел?.. Батюшки-светы, князь Василий Лукич Долгорукий… Откуда? Каким ветром занесло?
А Василий Лукич, едва переступив порог, сразу же опустился на колени. Молвил:
– Ваше императорское величество, государыня-царица…
– Да ты что, Василий Лукич, пьяный, что ли? – изумилась Анна.
– Дозвольте слово вымолвить…
– Ну, вымолви.
– Первым припадаю к вашим милостивым стопам в великой радости сообщить благую весть об утверждении вас на российском престоле.
– Ты… ты, вот что, Василий Лукич, говори да не заговаривайся. Явился шутки шутить надо мной. Грех такое…
– Да нет же. Сущую правду вам говорю, клянусь богом, – перекрестился князь Долгорукий.
Смутилась и растерялась Анна, все еще не веря услышанному.
– Как так?..
– Молодой государь Петр Алексеевич скончался. Вы – наследница престола.
– Скончался?
– От оспы.
– Погоди, Василий Лукич, погоди… – старалась Анна собраться с мыслями. – А цесаревна Елисавета?
– В Верховном тайном совете рассудили, что она ведь рождена до того, как ее родители сочетались законным браком.
– Вот оно что, – протянула Анна. – Ну, говори, говори, Василий Лукич… Да нет, – отпрянула она в сторону. – Ты, Лукич, вьяви тут или во сне мне кажешься?
– Да нет же, государыня, в точности так, как есть.
– Ну, Василий Лукич, за эту новость я тебя… – и словно поперхнулась словом.
«Озолочу», – мысленно добавил князь недосказанное ею, но она такого слова не произнесла.
– Так, значит, я…
– Государыня-императрица, – досказал Василий Лукич. – И все дело еще в том, ваше величество, что от имени всего русского народа на ваше милостивое утверждение мне поручено огласить некоторые кондиции, – достал Василий Лукич бумагу и зачитал ее: «Премилостивейшая государыня! С горьким соболезнованием нашим вашему императорскому величеству Верховный тайный совет доносит, что сего настоящего года января 18, пополуночи в первом часу, вашего любезнейшего племянника, а нашего всемилостивейшего государя, его императорского величества Петра II не стало, и как мы, так и духовного и всякого чина свецкие люди того ж времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству, а каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Василием Лукичом Долгоруким и всепокорно просим оные собственною своею рукою пожаловать подписать и не умедля сюды, в Москву, ехать и российский престол и правительство воспринять. 19 января 1730».
А в кондициях говорилось: 1) ни с кем войны не всчинять; 2) миру не заключать; 3) верных наших подданных никакими податями не отягощать; 4) в знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять, и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской».
И, ни минуты не задумываясь, Анна написала: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать» и подписала эти кондиции.
– Стало быть, в Москву мне ехать надобно?
– На коронацию, – добавил Василий Лукич.
– Но ведь для этого на подъем потребуются деньги. Дадут мне их?
– Всенепременно, – ответил Долгорукий.
– Я полагаю тысяч… тысяч десять надобно, – прикинула Анна в уме.
– Будет исполнено, – заверил князь.
Ну, вот и все. Задерживаться князь не может, надо срочно в обратный путь.
– До счастливой встречи в Москве, ваше императорское величество, государыня Анна Иоанновна.
Хотя и стояли на московских заставах караульщики, чтобы задерживать почту и никого больше не пропускать в Митаву, поскольку туда уже направлена депутация во главе с князем Василием Лукичом Долгоруким, но Ягужинский ухитрился отправить своего доверенного человека, чтобы тот передал Анне, «чтоб не всему верила, что станет представлять князь Василий Лукич Долгорукий, пока сама не прибудет в Москву».
Визит нового посланца вроде бы и уверил Анну, что ее прочат стать императрицей, но и навеял какие-то сомнения. Что-то должно проясниться во время ее приезда в Москву. А что?..
По пути в первопрестольную Анну опять и опять одолевали сомнения – да взаправду ли все? Дремала, а потом быстро открывала глаза, думая, что увидит стены своих митавских комнат, но возок с каждым часом, с каждой минутой все дальше увозил ее по снежной ухабистой дороге от ненавистной Курляндии и все ближе – к Москве. Нет, не сон, а неопровержимая явь, что она действительно едет в Москву.
Ее приезд совпал с печальной церемонией погребения Петра II, для гроба которого в Архангельском соборе было освобождено место, занимаемое другими царственными мертвецами, – вынули два гроба сибирских царевичей.
С одним делом было покончено, и с другим все клонилось к успешному завершению. После того, как в Москве было объявлено о милостивом согласии Анны Иоанновны принять российский престол и согласия соблюдать все кондиции, в Успенском соборе был отслужен благодарственный молебен, во время которого горластый протодьякон провозгласил Анну по прежней форме – самодержицею, – верховники спохватились, что протодьякон ошибочно так возгласил, но было уже поздно. Самодержавной Анна и вышла из Успенского собора. И тогда в ее голове прояснилось, что кондиции, ограничивающие ее власть, были составлены всего лишь малой кучкой верховников.
– Как? – притворилась она удивленной. – Разве пункты, что мне зачитывали в Митаве, были составлены не по желанию всего народа?
– Нет, – ответили ей.
– Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул?! – сказала она.
О том, что за этим последовало, записано было в протоколе Верховного тайного совета: «Пополудни в четвертом часу к ее императорскому величеству призван статский советник Маслов и приказано ему пункты и письмо принесть к ее величеству, и те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разорвать».
– Это все выдумки Долгоруких, – сказала Анна, – но я им долгие их руки укорочу.
Начиналось новое, кровавое, царствование императрицы Анны Иоанновны.
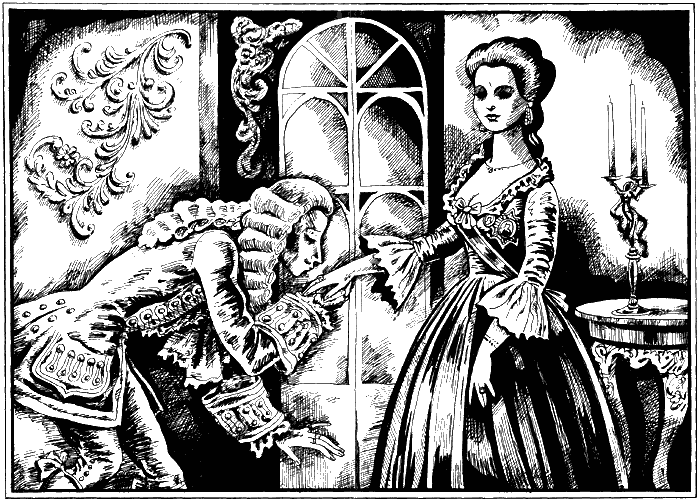
Вспоминалось Измайлово, проведенная там девичья пора. Вот где привольно все было! Теперь там Парашка хозяйствует, и у нее, должно быть, всего полно. Она запасливая, в мать-покойницу. А тут, в злосчастной этой Курляндии, как была она, Анна, для всех чужой – чужой и осталась.
О, господи! как все было приглядно там. К жилому дому примыкали кладовые, поварни, медоварни, винные погреба. Стоило, бывало, только выйти на крыльцо, и – тут как тут – пестрой шумливой гурьбой все любезные сердцу придворные приживальщики: кто – в овчине навыворот, кто – под стать настоящему ефиопу сажей мазаный-перемазаный; лысый ветхий старик – в цветастом девичьем сарафане, а баба – в бороде и в усах. Одни через голову кувыркаются, другие – тузят друг дружку; кто козой либо овцой заблеял, а кто по-петушиному закукарекал, – и не хочешь, а развеселишься. Вынесут дворские девки под балдахин подушки, чтобы мягко было сидеть, а солнце чтобы подрумяненный лик не напекало, – отдыхай, Аннушка, царевна милая. А ежели наскучит так сидеть, можно вместе с маменькой суд-расправу чинить. Ежели в какой день не окажется подлинно провинившегося, то любого придворного как бы в назидание на предбудущие времена можно было плетью постегать. Иной так смешно по-заячьи заверещит, что и сам палач рассмеется. И обучалась с сестрами там в давнюю девичью пору всем тонкостям заграничного обхождения, чтобы было все на иноземный манер, чужой грамоте и разговорам учились, танцам и другим политесам. Не вернуть теперь этого ничего.
Если и приедешь туда, день-другой погостишь, а потом Парашка скажет – хватит, поезжай назад в свою Курляндию, а какая она своя? Век бы ее не видала.
Слух дошел, что в Измайлове Катеринка, мекленбургская герцогиня, живет, с ней Парашка дружбу водит и, должно, не гонит. Молодой царь Петр обеим денежный пенсион назначил, а тут живи в постылом мизерном положении, а ведь такая же царская кровь… (И слезы огорчения сами собой катятся по насурмленным щекам.)
Что это? Никак кто-то вошел?.. Батюшки-светы, князь Василий Лукич Долгорукий… Откуда? Каким ветром занесло?
А Василий Лукич, едва переступив порог, сразу же опустился на колени. Молвил:
– Ваше императорское величество, государыня-царица…
– Да ты что, Василий Лукич, пьяный, что ли? – изумилась Анна.
– Дозвольте слово вымолвить…
– Ну, вымолви.
– Первым припадаю к вашим милостивым стопам в великой радости сообщить благую весть об утверждении вас на российском престоле.
– Ты… ты, вот что, Василий Лукич, говори да не заговаривайся. Явился шутки шутить надо мной. Грех такое…
– Да нет же. Сущую правду вам говорю, клянусь богом, – перекрестился князь Долгорукий.
Смутилась и растерялась Анна, все еще не веря услышанному.
– Как так?..
– Молодой государь Петр Алексеевич скончался. Вы – наследница престола.
– Скончался?
– От оспы.
– Погоди, Василий Лукич, погоди… – старалась Анна собраться с мыслями. – А цесаревна Елисавета?
– В Верховном тайном совете рассудили, что она ведь рождена до того, как ее родители сочетались законным браком.
– Вот оно что, – протянула Анна. – Ну, говори, говори, Василий Лукич… Да нет, – отпрянула она в сторону. – Ты, Лукич, вьяви тут или во сне мне кажешься?
– Да нет же, государыня, в точности так, как есть.
– Ну, Василий Лукич, за эту новость я тебя… – и словно поперхнулась словом.
«Озолочу», – мысленно добавил князь недосказанное ею, но она такого слова не произнесла.
– Так, значит, я…
– Государыня-императрица, – досказал Василий Лукич. – И все дело еще в том, ваше величество, что от имени всего русского народа на ваше милостивое утверждение мне поручено огласить некоторые кондиции, – достал Василий Лукич бумагу и зачитал ее: «Премилостивейшая государыня! С горьким соболезнованием нашим вашему императорскому величеству Верховный тайный совет доносит, что сего настоящего года января 18, пополуночи в первом часу, вашего любезнейшего племянника, а нашего всемилостивейшего государя, его императорского величества Петра II не стало, и как мы, так и духовного и всякого чина свецкие люди того ж времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству, а каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Василием Лукичом Долгоруким и всепокорно просим оные собственною своею рукою пожаловать подписать и не умедля сюды, в Москву, ехать и российский престол и правительство воспринять. 19 января 1730».
А в кондициях говорилось: 1) ни с кем войны не всчинять; 2) миру не заключать; 3) верных наших подданных никакими податями не отягощать; 4) в знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять, и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской».
И, ни минуты не задумываясь, Анна написала: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать» и подписала эти кондиции.
– Стало быть, в Москву мне ехать надобно?
– На коронацию, – добавил Василий Лукич.
– Но ведь для этого на подъем потребуются деньги. Дадут мне их?
– Всенепременно, – ответил Долгорукий.
– Я полагаю тысяч… тысяч десять надобно, – прикинула Анна в уме.
– Будет исполнено, – заверил князь.
Ну, вот и все. Задерживаться князь не может, надо срочно в обратный путь.
– До счастливой встречи в Москве, ваше императорское величество, государыня Анна Иоанновна.
Хотя и стояли на московских заставах караульщики, чтобы задерживать почту и никого больше не пропускать в Митаву, поскольку туда уже направлена депутация во главе с князем Василием Лукичом Долгоруким, но Ягужинский ухитрился отправить своего доверенного человека, чтобы тот передал Анне, «чтоб не всему верила, что станет представлять князь Василий Лукич Долгорукий, пока сама не прибудет в Москву».
Визит нового посланца вроде бы и уверил Анну, что ее прочат стать императрицей, но и навеял какие-то сомнения. Что-то должно проясниться во время ее приезда в Москву. А что?..
По пути в первопрестольную Анну опять и опять одолевали сомнения – да взаправду ли все? Дремала, а потом быстро открывала глаза, думая, что увидит стены своих митавских комнат, но возок с каждым часом, с каждой минутой все дальше увозил ее по снежной ухабистой дороге от ненавистной Курляндии и все ближе – к Москве. Нет, не сон, а неопровержимая явь, что она действительно едет в Москву.
Ее приезд совпал с печальной церемонией погребения Петра II, для гроба которого в Архангельском соборе было освобождено место, занимаемое другими царственными мертвецами, – вынули два гроба сибирских царевичей.
С одним делом было покончено, и с другим все клонилось к успешному завершению. После того, как в Москве было объявлено о милостивом согласии Анны Иоанновны принять российский престол и согласия соблюдать все кондиции, в Успенском соборе был отслужен благодарственный молебен, во время которого горластый протодьякон провозгласил Анну по прежней форме – самодержицею, – верховники спохватились, что протодьякон ошибочно так возгласил, но было уже поздно. Самодержавной Анна и вышла из Успенского собора. И тогда в ее голове прояснилось, что кондиции, ограничивающие ее власть, были составлены всего лишь малой кучкой верховников.
– Как? – притворилась она удивленной. – Разве пункты, что мне зачитывали в Митаве, были составлены не по желанию всего народа?
– Нет, – ответили ей.
– Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул?! – сказала она.
О том, что за этим последовало, записано было в протоколе Верховного тайного совета: «Пополудни в четвертом часу к ее императорскому величеству призван статский советник Маслов и приказано ему пункты и письмо принесть к ее величеству, и те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разорвать».
– Это все выдумки Долгоруких, – сказала Анна, – но я им долгие их руки укорочу.
Начиналось новое, кровавое, царствование императрицы Анны Иоанновны.