Страница:
– Ну, тогда её могила должна стать и моей,– воскликнул Фридберт.– Моя жизнь в моих руках! Кто может помешать мне умереть вместе с прекрасной Каллистой? Я только прошу вас, окажите мне единственную милость и похороните меня рядом с ней, – пусть моя тень оберегает её могилу. Но прежде позвольте мне сделать Каллисте признание в том, что я избрал её дамой сердца, и исполнить данную мною клятву, – передать ей как залог моей верности это кольцо, которое вы сможете тогда получить из её рук.
Мать Зоя была так тронута душераздирающим любовным объяснением Фридберта, что не удержалась от слёз. К тому же ей очень дорого было любимое кольцо, поэтому она не могла отказать молодому рыцарю в его просьбе. Княгиня опасалась только, что девушка, находясь в таком угнетённом состоянии, не захочет принять столь рискованный подарок. Но Фридберт убедил её, что по самым строгим понятиям такая скромная рыцарская галантность ни к чему не обязывает даму и нисколько не повредит её первому увлечению. Итак, она согласилась выполнить эту просьбу и написала настоятелю монастыря записку, в которой предписывалось предоставить её предъявителю аудиенцию у тоскующей Каллисты.
На другой день, рано утром, Фридберт, одолеваемый надеждой и сомнением, пришпоривал коня, торопясь поскорее узнать, какой приём ему окажет любимая. А пока, по всем признакам, можно было предположить, что она простила ему похищение покрывала. С бьющимся сердцем, он вошёл в девичью келью. Девушка сидела на скамье в стороне от двери. Её вьющиеся волосы спадали на плечи и были небрежно перехвачены голубой лентой. Отрешённый взгляд и выражение лица, казалось, выдавали глубокое горе. Белоснежной рукой она подпирала голову.
Мать Зоя была так тронута душераздирающим любовным объяснением Фридберта, что не удержалась от слёз. К тому же ей очень дорого было любимое кольцо, поэтому она не могла отказать молодому рыцарю в его просьбе. Княгиня опасалась только, что девушка, находясь в таком угнетённом состоянии, не захочет принять столь рискованный подарок. Но Фридберт убедил её, что по самым строгим понятиям такая скромная рыцарская галантность ни к чему не обязывает даму и нисколько не повредит её первому увлечению. Итак, она согласилась выполнить эту просьбу и написала настоятелю монастыря записку, в которой предписывалось предоставить её предъявителю аудиенцию у тоскующей Каллисты.
На другой день, рано утром, Фридберт, одолеваемый надеждой и сомнением, пришпоривал коня, торопясь поскорее узнать, какой приём ему окажет любимая. А пока, по всем признакам, можно было предположить, что она простила ему похищение покрывала. С бьющимся сердцем, он вошёл в девичью келью. Девушка сидела на скамье в стороне от двери. Её вьющиеся волосы спадали на плечи и были небрежно перехвачены голубой лентой. Отрешённый взгляд и выражение лица, казалось, выдавали глубокое горе. Белоснежной рукой она подпирала голову.
Сначала Каллиста не обратила внимания на вошедшего, но, услышав, как тот опустился на колени, подумала, что приехал посланец от матери с каким-то более важным делом, чем утреннее приветствие и не просто для того, чтобы справиться о её здоровье.
Она подняла прелестные глаза и узнала лежащего у её ног чужестранца. От изумления и неожиданности Каллиста вздрогнула, словно почувствовавшая опасность пугливая серна.
Фридберт с жаром схватил её нежную руку, но она с гневом оттолкнула его.
– Уходи прочь, обманщик! – воскликнула девушка.– Довольно того, что ты один раз обманул меня, второй раз тебе это не удастся!
Фридберт знал, что при встрече предстоит нелёгкий поединок, и всё же надеялся найти путь к сердцу прекрасной Каллисты. С обычным для влюблённых даром убеждения, он принялся оправдывать своё плутовство любовью к ней, а поскольку ничто не прощается легче, чем обида, нанесённая от беспредельной любви, то с каждым новым кругом защиты гнев девушки постепенно смягчался. Как только Фридберт заметил, что его доводы и красноречивые объяснения нашли доступ к сердцу любимой, то перестал опасаться, что она ускользнёт от него в дверь или в окно. Он уже доказал свою верность, последовав за ней из далёкой Швабии сюда, на Цикладские острова, а та решимость, с какой он, по его словам, готов был отыскать свою возлюбленную даже на краю света, завоевали ему наконец полное прощение. Каллиста призналась Фридберту во взаимной любви и дала торжественное обещание разделить с ним жребий его жизни.
Победа, достигнутая после стольких трудностей, привела влюблённого рыцаря в неописуемый восторг. Счастье его было безграничным. Упиваясь блаженством, в сопровождении любимой, он поспешил в замок матери Зои.
Княгиня чрезвычайно удивилась, когда в её комнату с весёлым лицом, на котором не было и следа прежней грусти, вошла Каллиста, навсегда покинувшая мрачные стены монастыря. Немного не доставало, чтобы на Фридберта опять пало подозрение в колдовстве, особенно после того, как мать услышала из уст влюблённых об их желании заключить нерушимый союз на всю жизнь. Ей и в голову не могло прийти, что странствующему рыцарю удастся завоевать сердце Каллисты, ибо, по её твёрдому убеждению, более ранний претендент уже вступил во владение им и, пользуясь правом первого завоевателя, разжёг в нём огонь, как в собственном очаге.
Хотя Фридберт и пользовался особым расположением княгини, этого было недостаточно, чтобы преодолеть её предубеждение, касающееся родословной будущего зятя. Прежде чем дать согласие на брак, она потребовала от счастливого рыцаря доказательств его дворянского происхождения.
Как и повсюду, в Наксосе имелись генеалогические кузницы, где можно было без труда отковать себе бронзовую генеалогическую таблицу такой длины и ширины, какие требовались для соблюдения необходимых формальностей. Поэтому Фридберт, после недолгих размышлений, приписал себя к знатному роду. Ведь любовь, считал он, соединяет равного с равным, а не галку с орлом или сову со страусом. К тому же шпага была достойным свидетельством его благородного происхождения, что он готов был доказать кому угодно.
Она подняла прелестные глаза и узнала лежащего у её ног чужестранца. От изумления и неожиданности Каллиста вздрогнула, словно почувствовавшая опасность пугливая серна.
Фридберт с жаром схватил её нежную руку, но она с гневом оттолкнула его.
– Уходи прочь, обманщик! – воскликнула девушка.– Довольно того, что ты один раз обманул меня, второй раз тебе это не удастся!
Фридберт знал, что при встрече предстоит нелёгкий поединок, и всё же надеялся найти путь к сердцу прекрасной Каллисты. С обычным для влюблённых даром убеждения, он принялся оправдывать своё плутовство любовью к ней, а поскольку ничто не прощается легче, чем обида, нанесённая от беспредельной любви, то с каждым новым кругом защиты гнев девушки постепенно смягчался. Как только Фридберт заметил, что его доводы и красноречивые объяснения нашли доступ к сердцу любимой, то перестал опасаться, что она ускользнёт от него в дверь или в окно. Он уже доказал свою верность, последовав за ней из далёкой Швабии сюда, на Цикладские острова, а та решимость, с какой он, по его словам, готов был отыскать свою возлюбленную даже на краю света, завоевали ему наконец полное прощение. Каллиста призналась Фридберту во взаимной любви и дала торжественное обещание разделить с ним жребий его жизни.
Победа, достигнутая после стольких трудностей, привела влюблённого рыцаря в неописуемый восторг. Счастье его было безграничным. Упиваясь блаженством, в сопровождении любимой, он поспешил в замок матери Зои.
Княгиня чрезвычайно удивилась, когда в её комнату с весёлым лицом, на котором не было и следа прежней грусти, вошла Каллиста, навсегда покинувшая мрачные стены монастыря. Немного не доставало, чтобы на Фридберта опять пало подозрение в колдовстве, особенно после того, как мать услышала из уст влюблённых об их желании заключить нерушимый союз на всю жизнь. Ей и в голову не могло прийти, что странствующему рыцарю удастся завоевать сердце Каллисты, ибо, по её твёрдому убеждению, более ранний претендент уже вступил во владение им и, пользуясь правом первого завоевателя, разжёг в нём огонь, как в собственном очаге.
Хотя Фридберт и пользовался особым расположением княгини, этого было недостаточно, чтобы преодолеть её предубеждение, касающееся родословной будущего зятя. Прежде чем дать согласие на брак, она потребовала от счастливого рыцаря доказательств его дворянского происхождения.
Как и повсюду, в Наксосе имелись генеалогические кузницы, где можно было без труда отковать себе бронзовую генеалогическую таблицу такой длины и ширины, какие требовались для соблюдения необходимых формальностей. Поэтому Фридберт, после недолгих размышлений, приписал себя к знатному роду. Ведь любовь, считал он, соединяет равного с равным, а не галку с орлом или сову со страусом. К тому же шпага была достойным свидетельством его благородного происхождения, что он готов был доказать кому угодно.
Зоя не нашла возражений против законности предъявленных доказательств, особенно когда убедилась, как благотворно повлияла любовь чужестранца на прекрасную Каллисту. Обычно в таких случаях умная мать, если она не хочет нарушить золотой семейный мир, отказывается от своего материнского права вмешиваться в сердечные дела любимой дочери и не прекословит её выбору.
Каллиста «произвела» честного Фридберта в одного из тетрархов Швабии с таким же правом, с каким святой престол епископа предоставляют неверному, и под этим блестящим титулом повела счастливого принца к алтарю, где получила от него заветное кольцо, каковое на следующий день после свадьбы передала матери.
Вновь испечённый тетрарх не видел больше причин скрывать от тёщи-княгини историю кольца, полученного им в наследство от отца Бено, и чистосердечно рассказал всё о достойном отшельнике. Зоя ответила откровенностью за откровенность и призналась, что намеренно оставила кольцо в перчатке у Лебединого озера. Отец Бено, добавила она, правильно понял тайный смысл этого знака, и не от неё зависело дальнейшее посещение озера. Супруг-тиран, узнав от болтливой кузины, сопровождавшей её тогда, о случившемся, так рассвирепел, что тотчас же овладел покрывалом и в порыве ярости разорвал этот чудесный дар природы на мелкие кусочки. По этой причине возвращение к источнику фей стало для неё невозможным. Рассказ о трогательном постоянстве верного отшельника доставил ей большое удовольствие и вызвал нежное воспоминание о добром человеке. То, что сам Бено дал повод к похищению покрывала дочери, и что это в конце концов принесло влюблённым счастье, ускорило полное прощение Фридберта добросердечной дамой, а его швабская преданность человеку, память о котором она пронесла через всю свою жизнь, снискала у неё глубокую признательность и дружеское расположение.
Фридберт жил с супругой в счастливом браке, обычно встречающемся в наше время только в мечтах идеалистов, которым тернии супружеской жизни представляются не иначе, как кустом розы в саду. Каллиста сожалела только, что не может поделиться с супругом привилегией, какую давали ей чудесные купания. Через двадцать пять лет, когда они праздновали серебряную свадьбу, каштановые кудри Фридберта побелели, как возвещающий о наступлении зимы снег на вершине холма, зато Каллиста, над которой годы были не властны, всё ещё напоминала расцветающую розу в прекрасном весеннем саду.
Предание ничего не говорит, было ли счастье этой нежной пары таким же неизменным, как в природе неизменна встреча зимы с весной, когда сталкиваются два противоположных времени года, и ласковый солнечный свет сменяет вихрь и стужу. Что до чудесных купаний, то, если верить слухам, лионские дамы охотно делали пожертвования на опыты одного известного воздухоплавателя только для того, чтобы заставить служить себе такое замечательное изобретение, как воздушный шар. Ведь на таком воздухоплавательном аппарате быстро и удобно можно совершать путешествия к отдалённым источникам красоты и, в надежде на благоприятную генеалогию, испытать на себе их действие, если только господин Пилатр де Розье согласился бы управлять им.
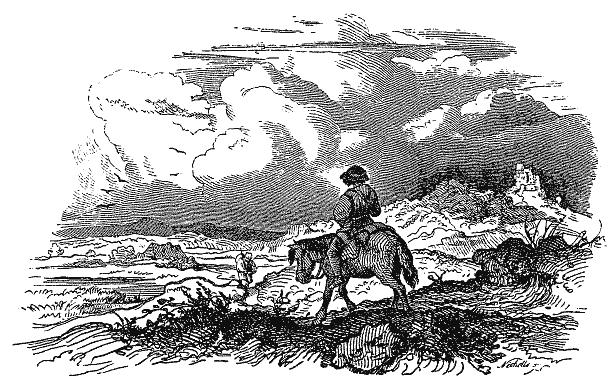 БЕЗМОЛВНАЯ ЛЮБОВЬ
БЕЗМОЛВНАЯ ЛЮБОВЬ
Жил когда-то в Бремене купец, по прозвищу Мельхиор, настолько богатый, что если при нём читали проповедь о евангельском богаче, то он только усмехался, поглаживая бороду, – по сравнению с собой бременец считал его мелким лавочником. У него было столько денег, что полы в своей столовой он велел выложить настоящими талерами.
В те далёкие, отличающиеся простыми нравами времена роскошь царила так же, как и теперь, с той лишь разницей, что у дедов она была основательнее, чем у внуков. Может быть, сограждане, а также другие торговцы, и упрекали купца в чванстве и хвастовстве, на самом же деле в его поведении был свой расчёт. Хитрый бременец прекрасно понимал, что завистники и хулители, задетые его тщеславием, далеко разнесут слухи о его чудачестве и тем самым вознесут его авторитет в торговом мире. И купец вполне достиг своей цели. Мёртвый капитал, заключённый в старых талерах и благоразумно выставленный в столовой для всеобщего обозрения, приносил стопроцентную прибыль, являя собой как бы молчаливое ручательство платёжеспособности владельца во всех его торговых сделках. Но он же в конце концов стал и подводным камнем, о который разбилось благосостояние дома.
Мельхиор умер внезапно, во время пирушки, не успев распорядиться своим имуществом. Всё его состояние досталось единственному сыну, достигшему как раз того цветущего возраста, когда, по закону, он мог вступить во владение отцовским наследством.
Франц Мельхиор был красивым юношей, от природы наделённым прекрасной фигурой. Плотно сбитый крепыш, весёлый и жизнерадостный, он словно вырос там, где всегда в избытке копчёное бычье мясо и старое французское вино. Щёки его цвели здоровьем, а карие глаза смотрели на мир весело, с юношеской беззаботностью. Он был как сильное растение, которому нужна только вода да тощая почва, тогда как на слишком жирной земле оно чрезмерно идёт в рост, не принося плодов.
Отцовское наследство оказалось, как это часто бывает, пагубным для сына. Едва почувствовав себя владельцем большого состояния, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению, Франц тотчас же ощутил обременительную его тяжесть и непреодолимую потребность избавиться от него. Он жил, как евангельский богач, проводя все дни в радости и веселье. Ни один званый обед в епископском дворце по изобилию и великолепию не мог сравниться с его обедами. С тех пор как стоит город Бремен, горожане не видели таких праздников, какие он устраивал ежегодно на Пасху. Каждому горожанину посылал он кусок жаркого и кувшинчик испанского вина, а потому весь город пил «За здоровье сына старика!» [180], а сам Франц был настоящим героем дня. В этом постоянном и невоздержанном мотовстве он не заботился о том, чтобы сохранить баланс в финансовых делах, который в прежние времена всегда был показателем успешной торговли, а теперь, зачастую, не соблюдается, отчего стрелка торговых весов с магнетической силой склоняется к банкротству.
Прошло несколько лет, прежде чем расточительный повеса почувствовал убыль в некогда полных сундуках и ларях, оставшихся после кончины отца. Прожорливая толпа собутыльников и беспечных весельчаков, игроков и бездельников и всех тех, кто стремился извлечь из блудного сына выгоду, крепко уцепившись своими хищными когтями за добычу, влекла его от одного удовольствия к другому, ни на миг не давая перевести дух, отрезветь и пробудиться его разуму. Но источник благополучия вдруг иссяк. Бочки золота из отцовского наследства были опустошены до самого дна.
Однажды Франц послал своему кассиру большой счёт, и тот, оказавшись не в состоянии выполнить приказ господина, вернул его с протестом назад. Это ошеломило молодого кутилу, но он почувствовал только досаду и недовольство строптивым слугой и ничуть не приписал происшедшее собственному дурному ведению хозяйства и беспорядку в финансах. Не затруднив себя изучением истинного состояния дел, он как мог излил досаду, извергнув несколько десятков проклятий, и дал пожимавшему плечами управляющему лаконичный приказ: «Найти выход!»
Пользуясь случаем, развили бурную деятельность маклеры, ростовщики и заимодавцы. Вскоре в пустую кассу кратчайшим путём под высокие проценты опять потекли большие суммы денег. Зал, выложенный настоящими талерами, был в то время в глазах кредиторов более надёжным ручательством, чем сегодня открытый аккредитив американского конгресса всех тринадцати соединённых штатов, и ещё какое-то время оказывал услугу Францу, однако вскоре по городу разнёсся слух, что серебряные плитки в столовой были, под шумок, сняты и заменены каменными. Тогда, по требованию заимодавцев, дело тотчас же было рассмотрено в судебном порядке. Слух подтвердился и, хотя нельзя было отрицать, что плитки из разноцветного мрамора a la mosaique [181]в столовой выглядят несравненно лучше, чем старые потускневшие талеры, кредиторы не оказали должного уважения тонкому вкусу владельца дома и немедленно потребовали оплаты по векселям. Когда же долги остались невыплаченными, отцовский дом со всей домашней утварью, сады и поля, а также вся движимость были проданы на аукционе с молотка при зажжённых свечах, а хозяин, пытавшийся ещё цепляться за некоторые юридические крючки, по приговору суда выселен из дома.
Каллиста «произвела» честного Фридберта в одного из тетрархов Швабии с таким же правом, с каким святой престол епископа предоставляют неверному, и под этим блестящим титулом повела счастливого принца к алтарю, где получила от него заветное кольцо, каковое на следующий день после свадьбы передала матери.
Вновь испечённый тетрарх не видел больше причин скрывать от тёщи-княгини историю кольца, полученного им в наследство от отца Бено, и чистосердечно рассказал всё о достойном отшельнике. Зоя ответила откровенностью за откровенность и призналась, что намеренно оставила кольцо в перчатке у Лебединого озера. Отец Бено, добавила она, правильно понял тайный смысл этого знака, и не от неё зависело дальнейшее посещение озера. Супруг-тиран, узнав от болтливой кузины, сопровождавшей её тогда, о случившемся, так рассвирепел, что тотчас же овладел покрывалом и в порыве ярости разорвал этот чудесный дар природы на мелкие кусочки. По этой причине возвращение к источнику фей стало для неё невозможным. Рассказ о трогательном постоянстве верного отшельника доставил ей большое удовольствие и вызвал нежное воспоминание о добром человеке. То, что сам Бено дал повод к похищению покрывала дочери, и что это в конце концов принесло влюблённым счастье, ускорило полное прощение Фридберта добросердечной дамой, а его швабская преданность человеку, память о котором она пронесла через всю свою жизнь, снискала у неё глубокую признательность и дружеское расположение.
Фридберт жил с супругой в счастливом браке, обычно встречающемся в наше время только в мечтах идеалистов, которым тернии супружеской жизни представляются не иначе, как кустом розы в саду. Каллиста сожалела только, что не может поделиться с супругом привилегией, какую давали ей чудесные купания. Через двадцать пять лет, когда они праздновали серебряную свадьбу, каштановые кудри Фридберта побелели, как возвещающий о наступлении зимы снег на вершине холма, зато Каллиста, над которой годы были не властны, всё ещё напоминала расцветающую розу в прекрасном весеннем саду.
Предание ничего не говорит, было ли счастье этой нежной пары таким же неизменным, как в природе неизменна встреча зимы с весной, когда сталкиваются два противоположных времени года, и ласковый солнечный свет сменяет вихрь и стужу. Что до чудесных купаний, то, если верить слухам, лионские дамы охотно делали пожертвования на опыты одного известного воздухоплавателя только для того, чтобы заставить служить себе такое замечательное изобретение, как воздушный шар. Ведь на таком воздухоплавательном аппарате быстро и удобно можно совершать путешествия к отдалённым источникам красоты и, в надежде на благоприятную генеалогию, испытать на себе их действие, если только господин Пилатр де Розье согласился бы управлять им.
Жил когда-то в Бремене купец, по прозвищу Мельхиор, настолько богатый, что если при нём читали проповедь о евангельском богаче, то он только усмехался, поглаживая бороду, – по сравнению с собой бременец считал его мелким лавочником. У него было столько денег, что полы в своей столовой он велел выложить настоящими талерами.
В те далёкие, отличающиеся простыми нравами времена роскошь царила так же, как и теперь, с той лишь разницей, что у дедов она была основательнее, чем у внуков. Может быть, сограждане, а также другие торговцы, и упрекали купца в чванстве и хвастовстве, на самом же деле в его поведении был свой расчёт. Хитрый бременец прекрасно понимал, что завистники и хулители, задетые его тщеславием, далеко разнесут слухи о его чудачестве и тем самым вознесут его авторитет в торговом мире. И купец вполне достиг своей цели. Мёртвый капитал, заключённый в старых талерах и благоразумно выставленный в столовой для всеобщего обозрения, приносил стопроцентную прибыль, являя собой как бы молчаливое ручательство платёжеспособности владельца во всех его торговых сделках. Но он же в конце концов стал и подводным камнем, о который разбилось благосостояние дома.
Мельхиор умер внезапно, во время пирушки, не успев распорядиться своим имуществом. Всё его состояние досталось единственному сыну, достигшему как раз того цветущего возраста, когда, по закону, он мог вступить во владение отцовским наследством.
Франц Мельхиор был красивым юношей, от природы наделённым прекрасной фигурой. Плотно сбитый крепыш, весёлый и жизнерадостный, он словно вырос там, где всегда в избытке копчёное бычье мясо и старое французское вино. Щёки его цвели здоровьем, а карие глаза смотрели на мир весело, с юношеской беззаботностью. Он был как сильное растение, которому нужна только вода да тощая почва, тогда как на слишком жирной земле оно чрезмерно идёт в рост, не принося плодов.
Отцовское наследство оказалось, как это часто бывает, пагубным для сына. Едва почувствовав себя владельцем большого состояния, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению, Франц тотчас же ощутил обременительную его тяжесть и непреодолимую потребность избавиться от него. Он жил, как евангельский богач, проводя все дни в радости и веселье. Ни один званый обед в епископском дворце по изобилию и великолепию не мог сравниться с его обедами. С тех пор как стоит город Бремен, горожане не видели таких праздников, какие он устраивал ежегодно на Пасху. Каждому горожанину посылал он кусок жаркого и кувшинчик испанского вина, а потому весь город пил «За здоровье сына старика!» [180], а сам Франц был настоящим героем дня. В этом постоянном и невоздержанном мотовстве он не заботился о том, чтобы сохранить баланс в финансовых делах, который в прежние времена всегда был показателем успешной торговли, а теперь, зачастую, не соблюдается, отчего стрелка торговых весов с магнетической силой склоняется к банкротству.
Прошло несколько лет, прежде чем расточительный повеса почувствовал убыль в некогда полных сундуках и ларях, оставшихся после кончины отца. Прожорливая толпа собутыльников и беспечных весельчаков, игроков и бездельников и всех тех, кто стремился извлечь из блудного сына выгоду, крепко уцепившись своими хищными когтями за добычу, влекла его от одного удовольствия к другому, ни на миг не давая перевести дух, отрезветь и пробудиться его разуму. Но источник благополучия вдруг иссяк. Бочки золота из отцовского наследства были опустошены до самого дна.
Однажды Франц послал своему кассиру большой счёт, и тот, оказавшись не в состоянии выполнить приказ господина, вернул его с протестом назад. Это ошеломило молодого кутилу, но он почувствовал только досаду и недовольство строптивым слугой и ничуть не приписал происшедшее собственному дурному ведению хозяйства и беспорядку в финансах. Не затруднив себя изучением истинного состояния дел, он как мог излил досаду, извергнув несколько десятков проклятий, и дал пожимавшему плечами управляющему лаконичный приказ: «Найти выход!»
Пользуясь случаем, развили бурную деятельность маклеры, ростовщики и заимодавцы. Вскоре в пустую кассу кратчайшим путём под высокие проценты опять потекли большие суммы денег. Зал, выложенный настоящими талерами, был в то время в глазах кредиторов более надёжным ручательством, чем сегодня открытый аккредитив американского конгресса всех тринадцати соединённых штатов, и ещё какое-то время оказывал услугу Францу, однако вскоре по городу разнёсся слух, что серебряные плитки в столовой были, под шумок, сняты и заменены каменными. Тогда, по требованию заимодавцев, дело тотчас же было рассмотрено в судебном порядке. Слух подтвердился и, хотя нельзя было отрицать, что плитки из разноцветного мрамора a la mosaique [181]в столовой выглядят несравненно лучше, чем старые потускневшие талеры, кредиторы не оказали должного уважения тонкому вкусу владельца дома и немедленно потребовали оплаты по векселям. Когда же долги остались невыплаченными, отцовский дом со всей домашней утварью, сады и поля, а также вся движимость были проданы на аукционе с молотка при зажжённых свечах, а хозяин, пытавшийся ещё цепляться за некоторые юридические крючки, по приговору суда выселен из дома.
Теперь было слишком поздно раздумывать о своём безрассудстве, – никакие разумные соображения и спасительные меры уже не могли помочь. В наш утончённый век сочли бы, что герою, после всего что с ним произошло, следовало бы с достоинством сойти со сцены и как-нибудь исчезнуть: или предпринять далёкое путешествие, или повеситься, ибо в своём родном городе он уже не мог жить, слывя, как прежде, порядочным человеком.
Франц не сделал ни того, ни другого. Выражение «Что скажет свет?», придуманное французской моралью и как узда удерживающее от безумных и сумасбродных поступков, не приходило в голову беспутному парню, когда он был ещё богат, а его чувства не были настолько утончены, чтобы он мог ощутить позор легкомысленного разорения.
Ему, как только что протрезвевшему от пьяного угара кутиле, было непонятно, что с ним произошло. Он жил, как обанкротившийся расточитель, не унывая и не испытывая никакого стыда. К счастью, у него ещё оставалось несколько уцелевших при «кораблекрушении» фамильных драгоценностей, которые на какое-то время могли уберечь его от тяжёлой нужды.
Франц переехал на квартиру в глухом, отдалённом переулке, где солнце бывало редким гостем: лишь в самые долгие летние дни оно выглядывало из-за высоких остроконечных крыш, да и то ненадолго. Здесь для своих, теперь очень ограниченных, потребностей он нашёл всё что нужно: скудная кухня хозяйки спасала его от голода, печка – от холода, крыша – от дождя и четыре стены – от ветра; только от мучительной скуки не было ни средства, ни убежища. Беспутная толпа паразитов исчезла вместе с состоянием, и уже никто из прежних друзей больше не узнавал его.
Чтение тогда не было в духе времени: считалось неразумным убивать время бесполезной игрой фантазии, забивающей обычно легкомысленные головы нации.
Ещё не было ни сентиментальных, ни педагогических или психологических романов, ни народных комедий или рассказов о колдовстве, ни робинзонад, ни семейных или монастырских историй, ни Плимплампласкосов [182], ни Каккерлаков [183], и вся пошлая розентальская клика не занималась ещё мелкой торговлей галиматьёй, своей убогостью утомляющей терпение почтенной публики. Однако храбрые рыцари уже совершали многочисленные подвиги: Дитрих Бернский, Гильдебранд, рогатый Зигфрид, могучий Ронневарт гонялись за драконами и змеями и побеждали великанов и карликов, в двенадцать раз превосходящих силой человека. Достойный уважения Тейерданк [184]считался тогда высшим идеалом среди героев немецкой прозы; к тому же он был наделён блестящим остроумием, доступным, правда, только самым возвышенным душам – поэтам и мыслителям. Франц не принадлежал ни к одной из этих категорий и поэтому, не зная чем себя занять, либо настраивал лютню и иногда бренчал на ней, либо высовывался из окна и наблюдал за погодой, что, конечно, было таким же пустым занятием, как и труд наших метеорологов. Но в скором времени его склонность к созерцанию получила иную пищу, заполнившую пустое пространство в голове и сердце.
Франц не сделал ни того, ни другого. Выражение «Что скажет свет?», придуманное французской моралью и как узда удерживающее от безумных и сумасбродных поступков, не приходило в голову беспутному парню, когда он был ещё богат, а его чувства не были настолько утончены, чтобы он мог ощутить позор легкомысленного разорения.
Ему, как только что протрезвевшему от пьяного угара кутиле, было непонятно, что с ним произошло. Он жил, как обанкротившийся расточитель, не унывая и не испытывая никакого стыда. К счастью, у него ещё оставалось несколько уцелевших при «кораблекрушении» фамильных драгоценностей, которые на какое-то время могли уберечь его от тяжёлой нужды.
Франц переехал на квартиру в глухом, отдалённом переулке, где солнце бывало редким гостем: лишь в самые долгие летние дни оно выглядывало из-за высоких остроконечных крыш, да и то ненадолго. Здесь для своих, теперь очень ограниченных, потребностей он нашёл всё что нужно: скудная кухня хозяйки спасала его от голода, печка – от холода, крыша – от дождя и четыре стены – от ветра; только от мучительной скуки не было ни средства, ни убежища. Беспутная толпа паразитов исчезла вместе с состоянием, и уже никто из прежних друзей больше не узнавал его.
Чтение тогда не было в духе времени: считалось неразумным убивать время бесполезной игрой фантазии, забивающей обычно легкомысленные головы нации.
Ещё не было ни сентиментальных, ни педагогических или психологических романов, ни народных комедий или рассказов о колдовстве, ни робинзонад, ни семейных или монастырских историй, ни Плимплампласкосов [182], ни Каккерлаков [183], и вся пошлая розентальская клика не занималась ещё мелкой торговлей галиматьёй, своей убогостью утомляющей терпение почтенной публики. Однако храбрые рыцари уже совершали многочисленные подвиги: Дитрих Бернский, Гильдебранд, рогатый Зигфрид, могучий Ронневарт гонялись за драконами и змеями и побеждали великанов и карликов, в двенадцать раз превосходящих силой человека. Достойный уважения Тейерданк [184]считался тогда высшим идеалом среди героев немецкой прозы; к тому же он был наделён блестящим остроумием, доступным, правда, только самым возвышенным душам – поэтам и мыслителям. Франц не принадлежал ни к одной из этих категорий и поэтому, не зная чем себя занять, либо настраивал лютню и иногда бренчал на ней, либо высовывался из окна и наблюдал за погодой, что, конечно, было таким же пустым занятием, как и труд наших метеорологов. Но в скором времени его склонность к созерцанию получила иную пищу, заполнившую пустое пространство в голове и сердце.
В узком переулке, как раз против его окна, проживала одна почтенная матрона вместе со своей изумительно красивой дочерью. В надежде на лучшие времена, они скромно довольствовались тем, что давала им прялка. Работая день за днём, неутомимые труженицы напряли столько ниток, что ими легко можно было обмотать город Бремен со всеми его валами, рвами и предместьями. Обе, собственно говоря, не были пряхами от рождения. Когда-то они знали лучшие времена и жили в достатке. Отец прелестной Меты имел собственный корабль, который сам грузил и ежегодно водил в Антверпен. Но сильный шторм похоронил в морской пучине и судно, и людей, и ценный груз. Мета в ту пору была ещё ребёнком.
Мать, рассудительная степенная женщина, стойко перенесла потерю мужа и всего состояния и, несмотря на бедность, из благородной гордости, словно позорную милостыню, отвергла сострадательную помощь друзей и родственников. Она ещё была в состоянии своими руками прокормить себя и дочь. Предоставив дом и всё, что в нём было ценного, бессердечным кредиторам погибшего мужа и переехав с дочерью в маленькую квартирку в узком переулке, женщина принялась за работу, каждый день с раннего утра и до поздней ночи проводя за прялкой, – так что не легко доставался ей кусок хлеба, и не раз смачивала она нитку горючими слезами. Зато, благодаря трудолюбию и настойчивости, она ни от кого не зависела и никому не была обязана.
Впоследствии научилась этому ремеслу и подрастающая дочь. Жили они так экономно, что мать Бригитта ухитрялась ещё откладывать от заработка сбережения и, по временам, пускать их в оборот, в небольшую торговлю льном. Но она вовсе не думала навсегда заключать свою жизнь в такие тесные рамки. Напротив, храбрая женщина надеялась на благоприятную перспективу в будущем и рассчитывала, что когда-нибудь снова придут счастливые времена и на склоне лет она ещё насладится бабьим летом. Нет, не пустые мечты и не бесплодная фантазия, а логика и трезвый расчёт питали её надежды. Бригитта видела, как словно весенняя роза расцветает её дочь. Скромная и добрая, наделённая столькими талантами души и сердца, она была радостью и утешением матери, готовой отказывать себе во всём, лишь бы дать ей приличное воспитание. Мать Бригитта верила, что если девушка близка к идеалу красоты, каким его представлял мудрый ценитель женщин – Соломон [185], то не может быть, чтобы не нашёлся честный человек, который не пожелал бы иметь такую драгоценную жемчужину украшением своего дома, ибо красота в соединении с добродетелью в те времена ценилась так высоко в глазах женихов, как в наши дни родословная и состояние. К тому же женщине в семье тогда отводилась более важная роль и, по утончённой экономической теории, на неё не смотрели как на ненужную домашнюю вещь.
Правда, прелестная Мета была словно прекрасный редкий цветок, который цветёт только в оранжерее, а не под открытым божьим небом. Она жила под строгим надзором матери в высшей степени скромно и тихо, и ей не позволялись никакие прогулки и никакие знакомства. Едва ли не раз в году она выходила за ворота родного города, да и то матери это казалось не совместимым с основными правилами её системы воспитания. К слову сказать, старая фрау Е… [186]из Мемеля думала когда-то иначе и, посылая прелестную Софи в Саксонию, конечно же на поиски жениха, вполне достигла поставленной цели: как много сердец зажгла странствующая нимфа, как много поклонников увивалось около неё! Но, если бы она оставалась дома как скромная домашняя девушка, то наверное отцвела бы в своей девичьей келье, не завоевав любви даже магистра Кубица. Другие времена, другие нравы! Дочери для нас – капитал, который должен быть пущен в дело и приносить доход. Когда-то их, как денежные сбережения, хранили под замками и засовами, но менялы всегда знали, где спрятано сокровище и как до него добраться.
Мать Бригитта метила на зажиточного зятя, надеясь, что он выведет их с Метой из вавилонского плена в тесном переулке в страну изобилия, где в медовых берегах текут молочные реки. Она твёрдо верила в счастливый жребий дочери.
Мать, рассудительная степенная женщина, стойко перенесла потерю мужа и всего состояния и, несмотря на бедность, из благородной гордости, словно позорную милостыню, отвергла сострадательную помощь друзей и родственников. Она ещё была в состоянии своими руками прокормить себя и дочь. Предоставив дом и всё, что в нём было ценного, бессердечным кредиторам погибшего мужа и переехав с дочерью в маленькую квартирку в узком переулке, женщина принялась за работу, каждый день с раннего утра и до поздней ночи проводя за прялкой, – так что не легко доставался ей кусок хлеба, и не раз смачивала она нитку горючими слезами. Зато, благодаря трудолюбию и настойчивости, она ни от кого не зависела и никому не была обязана.
Впоследствии научилась этому ремеслу и подрастающая дочь. Жили они так экономно, что мать Бригитта ухитрялась ещё откладывать от заработка сбережения и, по временам, пускать их в оборот, в небольшую торговлю льном. Но она вовсе не думала навсегда заключать свою жизнь в такие тесные рамки. Напротив, храбрая женщина надеялась на благоприятную перспективу в будущем и рассчитывала, что когда-нибудь снова придут счастливые времена и на склоне лет она ещё насладится бабьим летом. Нет, не пустые мечты и не бесплодная фантазия, а логика и трезвый расчёт питали её надежды. Бригитта видела, как словно весенняя роза расцветает её дочь. Скромная и добрая, наделённая столькими талантами души и сердца, она была радостью и утешением матери, готовой отказывать себе во всём, лишь бы дать ей приличное воспитание. Мать Бригитта верила, что если девушка близка к идеалу красоты, каким его представлял мудрый ценитель женщин – Соломон [185], то не может быть, чтобы не нашёлся честный человек, который не пожелал бы иметь такую драгоценную жемчужину украшением своего дома, ибо красота в соединении с добродетелью в те времена ценилась так высоко в глазах женихов, как в наши дни родословная и состояние. К тому же женщине в семье тогда отводилась более важная роль и, по утончённой экономической теории, на неё не смотрели как на ненужную домашнюю вещь.
Правда, прелестная Мета была словно прекрасный редкий цветок, который цветёт только в оранжерее, а не под открытым божьим небом. Она жила под строгим надзором матери в высшей степени скромно и тихо, и ей не позволялись никакие прогулки и никакие знакомства. Едва ли не раз в году она выходила за ворота родного города, да и то матери это казалось не совместимым с основными правилами её системы воспитания. К слову сказать, старая фрау Е… [186]из Мемеля думала когда-то иначе и, посылая прелестную Софи в Саксонию, конечно же на поиски жениха, вполне достигла поставленной цели: как много сердец зажгла странствующая нимфа, как много поклонников увивалось около неё! Но, если бы она оставалась дома как скромная домашняя девушка, то наверное отцвела бы в своей девичьей келье, не завоевав любви даже магистра Кубица. Другие времена, другие нравы! Дочери для нас – капитал, который должен быть пущен в дело и приносить доход. Когда-то их, как денежные сбережения, хранили под замками и засовами, но менялы всегда знали, где спрятано сокровище и как до него добраться.
Мать Бригитта метила на зажиточного зятя, надеясь, что он выведет их с Метой из вавилонского плена в тесном переулке в страну изобилия, где в медовых берегах текут молочные реки. Она твёрдо верила в счастливый жребий дочери.
Однажды, когда Франц высунулся из окна, чтобы понаблюдать за погодой, он вдруг увидел прелестную Мету, возвращающуюся с матерью из церкви, где они не пропускали ни одной мессы. К счастью, в прежние времена упоённый беззаботной жизнью беспутный кутила, нежные чувства которого ещё дремали в его груди, не замечал прекрасный пол. Теперь же бурные волны сумасбродства улеглись, и при полном штиле малейший ветерок волновал зеркальную поверхность его души. Он был очарован девичьей фигуркой, прелестнее которой ему никогда ещё не приходилось видеть.
С этого часа он сменил свои бесплодные метеорологические исследования на наблюдение за передвижением обитательниц противоположной квартиры, что было для него несравненно более интересным занятием. Скоро он выпытал у хозяйки о приятных соседках почти всё, что мы уже знаем. Только сейчас пришло к нему позднее раскаяние в необдуманном расточительстве, а в сердце зародилось тайное желание познакомиться с девушкой. Как бы хотел он вернуть сейчас отцовское наследство только ради того, чтобы дать его в приданое милой Мете. Квартира в узком переулке стала ему так дорога, что он не променял бы её и на Шуддинг [187]. Целый день Франц не отходил от окна, поджидая чудную девушку, и если ему удавалось увидеть её, он ощущал такой прилив восторга в душе, какой испытывал, разве что, астроном Горокес из Ливерпуля, когда впервые увидел проплывающую мимо солнца Венеру.
К несчастью, бдительная мать скоро заметила наблюдателя в противоположном окне и догадалась, о чём думает этот бездельник. Она и без того была невысокого мнения о беспутном парне, тем более её возмутили его ежедневные подглядывания. В конце концов, она задёрнула окно плотной занавеской, а Мета получила строгий наказ, – к подоконнику не подходить. Когда они шли в церковь к обедне, мать надвигала на глаза дочери капюшон и закутывала её в плащ, как фаворитку султана, торопясь поскорее свернуть за угол и выйти из зоны наблюдения караулившего парня.
Франц никогда не отличался особой сообразительностью, но любовь пробудила в нём все его способности. Заметив, что выдал себя дерзким подглядыванием, он тотчас же покинул пост у окна и решил не выглядывать, даже если мимо будут проносить святые дары, а тем временем стал придумывать способ, как всё же вести наблюдение, оставаясь незамеченным. И выход был найден без особого труда. Он приобрёл огромное, какое только можно было найти в этом городе, зеркало и повесил его в комнате так, чтобы в нём отражалось всё, что делается у соседок в противоположной квартире.
Прошло много дней, и так как Франц не проявлял никаких признаков любопытства, то гардины напротив постепенно раздвинулись, и время от времени большое зеркало отражало фигурку прелестной девушки, услужливо предоставляя своему владельцу возможность снова любоваться её красотой.
Чем глубже в сердце юноши пускала корни любовь, тем дальше простирались его желания. Ему захотелось признаться Мете в своём чувстве и добиться от неё взаимности. Обычный путь, выбираемый в таких случаях влюблёнными, когда они, ухаживая за девушками, стараются расположить их к себе, был ему, в его положении, совершенно недоступен. В те далёкие времена, когда вопросам нравственности уделялось гораздо больше внимания, чем сейчас, влюблённому паладину вообще было трудно где-либо встретиться с девушкой: визиты были ещё не в моде, интимные свидания наедине женской половине, под страхом потери доброго имени, строжайше запрещались, а прогулки, эспанады, маскарады, пикники и другие новинки, благоприятствующие сладости любви, тогда ещё не были в ходу. Только брачные покои оставались обеим сторонам для выяснения их сердечных дел. Несмотря на это, любящие сердца, так же как и в наши дни, всегда находили друг друга. Кумовство, свадебные пиры и поминки, особенно в богатых городах, были той средой, где возникали любовные интриги и заключались брачные контракты. Недаром старая пословица гласит: «Не бывает свадьбы без того, чтобы на ней не затевалась новая».
С этого часа он сменил свои бесплодные метеорологические исследования на наблюдение за передвижением обитательниц противоположной квартиры, что было для него несравненно более интересным занятием. Скоро он выпытал у хозяйки о приятных соседках почти всё, что мы уже знаем. Только сейчас пришло к нему позднее раскаяние в необдуманном расточительстве, а в сердце зародилось тайное желание познакомиться с девушкой. Как бы хотел он вернуть сейчас отцовское наследство только ради того, чтобы дать его в приданое милой Мете. Квартира в узком переулке стала ему так дорога, что он не променял бы её и на Шуддинг [187]. Целый день Франц не отходил от окна, поджидая чудную девушку, и если ему удавалось увидеть её, он ощущал такой прилив восторга в душе, какой испытывал, разве что, астроном Горокес из Ливерпуля, когда впервые увидел проплывающую мимо солнца Венеру.
К несчастью, бдительная мать скоро заметила наблюдателя в противоположном окне и догадалась, о чём думает этот бездельник. Она и без того была невысокого мнения о беспутном парне, тем более её возмутили его ежедневные подглядывания. В конце концов, она задёрнула окно плотной занавеской, а Мета получила строгий наказ, – к подоконнику не подходить. Когда они шли в церковь к обедне, мать надвигала на глаза дочери капюшон и закутывала её в плащ, как фаворитку султана, торопясь поскорее свернуть за угол и выйти из зоны наблюдения караулившего парня.
Франц никогда не отличался особой сообразительностью, но любовь пробудила в нём все его способности. Заметив, что выдал себя дерзким подглядыванием, он тотчас же покинул пост у окна и решил не выглядывать, даже если мимо будут проносить святые дары, а тем временем стал придумывать способ, как всё же вести наблюдение, оставаясь незамеченным. И выход был найден без особого труда. Он приобрёл огромное, какое только можно было найти в этом городе, зеркало и повесил его в комнате так, чтобы в нём отражалось всё, что делается у соседок в противоположной квартире.
Прошло много дней, и так как Франц не проявлял никаких признаков любопытства, то гардины напротив постепенно раздвинулись, и время от времени большое зеркало отражало фигурку прелестной девушки, услужливо предоставляя своему владельцу возможность снова любоваться её красотой.
Чем глубже в сердце юноши пускала корни любовь, тем дальше простирались его желания. Ему захотелось признаться Мете в своём чувстве и добиться от неё взаимности. Обычный путь, выбираемый в таких случаях влюблёнными, когда они, ухаживая за девушками, стараются расположить их к себе, был ему, в его положении, совершенно недоступен. В те далёкие времена, когда вопросам нравственности уделялось гораздо больше внимания, чем сейчас, влюблённому паладину вообще было трудно где-либо встретиться с девушкой: визиты были ещё не в моде, интимные свидания наедине женской половине, под страхом потери доброго имени, строжайше запрещались, а прогулки, эспанады, маскарады, пикники и другие новинки, благоприятствующие сладости любви, тогда ещё не были в ходу. Только брачные покои оставались обеим сторонам для выяснения их сердечных дел. Несмотря на это, любящие сердца, так же как и в наши дни, всегда находили друг друга. Кумовство, свадебные пиры и поминки, особенно в богатых городах, были той средой, где возникали любовные интриги и заключались брачные контракты. Недаром старая пословица гласит: «Не бывает свадьбы без того, чтобы на ней не затевалась новая».
