Страница:
Когда князь был, наконец, предан суду за притонодержательство беглых, то он воскликнул с удивлением: «Как суду? Суду за добрые дела? Да я сколько хлеба одного каждогодно издерживаю на таких гостей!»
Известный своими победами на море в екатерининское время адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков в частной жизни отличался большими странностями: при виде женщины, даже пожилой, приходил в страшное замешательство, не знал, что говорить, что делать, стоял на одной ноге, вертелся, краснел.

Отличаясь, как Суворов, неустрашимой храбростью, он боялся тараканов и не мог их видеть. Нрава он был очень вспыльчивого: беспорядки, злоупотребления заставляли его выходить из приличия, но гнев его скоро утихал. Один только камердинер его, Фёдор, умел обходиться с ним, и когда Ушаков сердился, тот сначала хранил молчание, отступал от Ушакова, но потом сам в свою очередь возвышал голос на него. Теперь уже барин принужден был удаляться от слуги, и не прежде выходил из кабинета, как удостоверившись, что гнев Федора миновал. Ушаков был очень набожен, каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню, и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием военно-судных дел; а утверждая приговор, был исполнен доброты. В 1801 году Ушаков определен был главным командиром Балтийского порта и всех корабельных экипажей, находившихся в Петербурге.
Ушаков был долго грозою и бичом турок, которые иначе его не называли, как «паша Ушак»; все чины и все знаки отличия он приобрел только личною своею храбростью. В 1806 году он представил в дар отечеству алмазную челенгу, но император возвратил ему, сказав, что знак этот должен сохраняться в потомстве его, как памятник подвигов его на водах Средиземного моря. Происходил же Ушаков родом из бедных тамбовских дворян Темниковского уезда и очень любил всем рассказывать, как он в молодости ходил в лаптях.
Суворов очень уважал Ушакова. Когда в бытность его в Италии к нему приехал курьер с депешами от Ушакова, начальствовавшего в то время соединенным российско-турецким флотом в Средиземном море, то, прочитав некоторые бумаги, Суворов вдруг обратился к привезшему их и спросил: «А что, здоров ли мой друг Фёдор Фёдорович?» Посланный курьер-немец не сразу догадался, о чём спрашивает Суворов и, не знавший ещё всех причуд героя, смутившись сказал: «А, господин адмирал фон Ушаков! Я оставил его в добром здоровье, и он поручил мне засвидетельствовать вашему сиятельству свое искреннее почтение». - «Убирайся ты с твоим фон! Этот титул ты можешь придавать такому-то и такому-то, потому что они нихтбешмирзагеры, немогузнайки, а человека, которого я уважаю, который своими победами сделался грозою для турок, потряс Константинополь и Дарданеллы и который, наконец, начал теперь великое дело - освобождение Италии, отнял у французов крепость Корфу, ещё никогда не уступавшую открытой силе, этого человека называй всегда просто - Фёдор Фёдорович!»
Ушаков умер в 1817 голу в своем тамбовском имении, ведя жизнь почти отшельническую.
К числу больших причудников и остряков надо отнести любимца Потемкина, генерала от инфантерии Сергея Лаврентьевича Львова. Этот придворный вместе с острым умом отличался примерною храбростью и редким присутствием духа - его воинские подвиги известны при осаде Очакова и взятии Измаила, где он командовал первою колонною правого крыла.
Известный Спада [130]в своих «Ephemerides Russes (St. Petersbourg, 1816) приводит несколько острот этого генерала.
Вот некоторые анекдоты Львова. Лорд Витворт подарил императрице Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, наводя его на небо, уверяли, что на луне различают даже горы. - «Я не только вижу горы, но и лес», - сказал Львов. «Ты возбуждаешь во мне любопытство», - произнесла императрица, вставая с кресел. «Торопитесь, ваше величество, - продолжал Львов, - лес уже начали рубить; подойти не успеете, как его срубят».
«Что ты нынче бледен?» - спросил его раз Потемкин. «Сидел рядом с графинею Н. и с её стороны ветер дул, ваша светлость», - отвечал Львов. Графиня Н. сильно белилась и пудрилась. «Давно ли ты сюда приехал и зачем?» - спросил Львов своего друга, встретив его на улице. «Давно и, по несчастию, за делом». - «Жаль мне тебя! А у кого в руках дело?» - «У NN.» - «Видел ты его?» - «Нет ещё». - «Так торопись и ходи к нему только по понедельникам. Его секретарь обыкновенно заводит его по воскресеньям, вместе с часами, и покуда он не размахается, путного ничего не сделает». Львов говорил про секретарей, что они имеют сходство с часовою пружиною, потому что невидимо направляют ход событий.
По словам Храповицкого, императрица Екатерина II, едучи в Крым, исключила из своей свиты Львова, сказав: «Бесчестный человек в моем сообществе жить не может». Но впоследствии государыня простила Львова и всегда щедро награждала его по представлениям Потемкина. Гнев императрицы на Львова, как полагать надо, вышел за неплатеж долгов Львовым: он был очень небогатый человек и запутанный в своих денежных делах. Об этом все знали. И когда Львов с воздухоплавателем Гарнереном летал в воздушном шаре, известный остряк Александр Семенович Хвостов напутствовал его вместо подорожной следующим экспромтом:

На вопрос известного адмирала Шишкова, что побудило его отважиться на опасность этого воздушного путешествия с Гарнереном, Львов объяснил, что, кроме желания испытать свои нервы, другого побуждения к тому не было. «Я бывал в нескольких сражениях, - сказал он, - больших и малых, видел неприятеля лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня забилось сердце. Я играл в карты, проигрывал все до последнего гроша, не зная, чем завтра существовать буду, и оставался также спокоен, как бы имея миллион за пазухою. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу-польку, которая, казалось, была от меня без памяти, но, в самом деле, безбожно обманывала меня для одного венгерца. Я узнал об измене со всеми гнусными её подробностями, и мне стало смешно. Как же, я думал, дожить до шестидесяти лет и не испытать в жизни ни одного сильного ощущения! Если оно не давалось мне на земле, - дай поищу его за облаками. Вот я и полетел. Но за пределами нашей атмосферы я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости, немного продрог - вот и всё…»
Император Павел I, разговаривая однажды с Львовым на разводе, облокотился на него.
– Ах, государь! - произнес с сожалением Львов, - могу ли я служить вам опорою?
Однажды Потемкин за что-то рассердился на Львова и перестал с ним разговарвать, но Львов не обратил на это особенного внимания и продолжал каждый день обедать у фельдмаршала.
– Отчего ты так похудел? - спросил, наконец, его Потемкин.
– По милости вашей светлости, - отвечал сердито Львов.
– Как так?
– Если бы вы ещё немного продолжали на меня дуться, то я умер от голода.
– Я ничего не понимаю! - возразил Потемкин. - Какое может иметь отношение к голоду моя досада на тебя?
– А вот какое, и очень важное: прежде все оставляли меня в покое и не нарушали моих занятий, а чуть только показали Вы мне хребет, я не стал иметь отдыху. Едва только поднесу ко рту кусок, как его отрывают вопросами. Не смел же я не отвечать, находясь в опале…
Любимая племянница Потемкина, графиня Браницкая, забавляясь однажды при Львове примериванием разных нарядов, обернула себе голову драгоценным собольим боа.
– Как я в этом буду? - спросила она Львова, кокетничая.
– Просто будете с мехом (смехом)- отвечал он.
– Какое различие между трутом и школьником? - спросил он однажды, и когда все затруднились ответом, сказал: то, что трут прежде высекут, а потом положат, а школьника сперва положат, а потом высекут.
По сообщению С.П. Жихарева, Львов в обществе был неистощимым рассказчиком разных любопытных происшествий в армии при фельдмаршалах Румянцеве и князе Потемкине; он забавлял анекдотами и умел расшевелить и таких людей, которые, кажется, от роду своего никогда не смеялись.
Лет пятьдесят-шестьдесят тому назад, у нас в России, особенно в провинции, мудрено было удивить самодурством.
Редкий из зажиточных помещиков не отличался особыми причудами. На такие причуды ушли колоссальные состояния.
В Малоархангельском уезде Орловской губернии жила старушка-помещица Ра[гози]на [131], помешанная на всевозможных придворных церемониях. Зал, в котором она принимала своих знакомых и «подданных» (как величали тогда помещики своих крепостных людей), представлял нечто до нелепости странное. Это была большая комната в два света, расписанная в виде рощи, пол которой изображал партер из цветов; посредине был устроен из зеркальных стекол пруд, на котором плавали искусственные лебеди; по дорожкам стояли алебастровые фигуры богов и богинь древней Греции.
Клумбы из искусственных цветов во время выходов помещицы напрыскивались одеколоном и «альпийской водой». На больших деревьях, там и сям поставленных, порхали снегири, синицы и другие певчие птицы. Сама помещица сидела на золотом троне, в ногах её стояли и лежали пажи и арапчики.
Каждое воскресенье и двунадесятые праздники после обедни здесь происходили приемы. Первым являлся сельский священник с причтом, диакон торжественно нес на серебряном блюде большую просфору. Несмотря на то, что церковь от усадьбы была в расстоянии полуверсты, помещица к обедне ездила всегда со свитой в пятьдесят человек. Кроме господского, экипажей в поезде было не менее десяти. Сама владелица ехала в громадной откидной колымаге, называемой «лондоном», запряженной восьмериком; кучер сидел так высоко, что был на уровне с коньками крестьянских изб. Вторым экипажем был дормез, запряженный четверкой, третьим - четырехместная коляска в шесть лошадей, потом коляска двухместная, потом крытые дрожки, потом две польские брички, наконец, две-три линейки и несколько кожаных кибиток. Барыня была женой генерала, любила почет и уважение. Торжественные приемы её, как говорили, доходили до Петербурга, но им только посмеивались: таких помещиц и помещиков было тогда немало.
Князь Г.С. Г[олицы]н [132], один из тоже замечательных самодуров, в подмосковном поместье учредил даже нечто вроде маленького двора из своих «подданных». У него были гофмаршалы, камергеры, камер-юнкеры и фрейлины, была даже «статс-дама», необыкновенно полная и представительная вдова-попадья, к которой «двор» относился с большим уважением: она носила на груди род ордена - миниатюрный портрет владельца, усыпанный аквамаринами и стразами. Князь Г[олицын] своим придворным дамам на рынках Москвы покупал поношенные атласные и бархатные платья и обшивал их галунами. В праздник совершались выходы; у него был составлен собственный придворный устав, которого он строго придерживался.

Балы у него отличались особенным этикетом, т. к. на них присутствовали его придворные. В зале, ярко освещенном, размещались приглашенные. Когда все гости были в сборе, с хор неслись звуки торжественного марша, и хозяин входил в зал, опираясь на плечо одного из своих гофмаршалов. Бал открывался полонезом, причем помещик вел «статс-даму», которая принимала приглашение князя, предварительно поцеловав его руку. Князь удостаивал и других дам приглашением на танец, причем они все прежде подобострастно прикладывались к его руке. Бал завершался шумным галопадом, а последний нередко превращался в веселую «барыню».

В Орловской губернии, в нескольких верстах от уездного города Малоархангельска, существует большое село князей К[ураки]ных [133], где на обширном дворе в виду сельского храма виднеется небольшое кладбище, обросшее пирамидальными тополями. Кладбище это переносит нас к бывшим барским причудам одного из владельцев [134], о причудах которого рассказали выше. Там между несколькими уцелевшими весьма недурными каменными мавзолеями ещё в шестидесятых годах можно было отыскать несколько с упоминаниями особ пышной дворни князя К[уракина]. В одной могиле похоронена «девица Евпраксия, служившая до конца дней своих при дворе его сиятельства камер-юнгферой», на другой могиле написано, что в ней «покоится Сенька Триангильянов», бывший в ранге полицеймейстера в придворном штате его сиятельства, далее находим «стремянного Иакима Безупречного, пролившего кровь за своего властелина 9-го октября 1819 года» и т.д.
Что только ни происходило при жизни этого гордого вельможи! Окруженный многочисленной дворней, он, как и брат его [135], разыгрывал при ней роль немецкого принца и мечтал, что он в своем владельческом княжестве. Он давал такие обеды, за которыми, как хозяин, так и гости бывали пьяны настолько, что не могли ни дверей сыскать, ни без помощи слуги сесть в свою карету. Это называлось на языке князя «des diners a hui clos». Он принимал приезжих гостей обыкновенно у себя в спальне, когда ему мылили бороду, а по сторонам стояли шуты в золоченых камзолах. Гордость князя доходила до смешного: он рассчитал своего старого домового доктора за то только, что тот осмелился ночью, во время приступа болезни князя, явиться не во фраке. Кто, впрочем, в былые годы не доходил до сумасбродства в деревне, чтобы «показать себя» своим вассалам и чинить там суд и расправу?!
Известный своим самодурством Голицын по прозванию «Юрка» [136], рассказывал, как он в юношеские годы приехал в свое родовое имение по выпуске из Пажеского корпуса, где он окончил курс с первым гражданским чином. Ещё до выезда из Петербурга он послал в вотчинную контору приказ, которым уведомлял, что будет в Троицын день, в престольный праздник. Позднюю обедню он предполагал слушать в приходском своем соборе, о чём предписывал уведомить как духовенство, так и окрестных помещиков, и подлинный его приказ прочесть на мирском сходе. Ему казалось, - как он сам иронически замечает, - что величественнее этого приказа до сих пор ещё ничего не было. Для пущей важности, приказ был написан на бристольской бумаге, вложен в огромный конверт казенного формата с гербовою печатью в ладонь и отправлен по эстафете, т.к., - думал он про себя, - «таким образом посылаются только царские грамоты».
Ну, вот и поехал он в свои владения в зелёной коляске a l'Empereur [137]- с двумя лакеями: первый был в ливрее, второй - в военной форме. Почему он нарядил его так, он и сам разъяснить не мог. В коляске барина лежал ещё большой черный водолаз. Сзади его в другой коляске ехали: секретарь, приживальщик, повар и казачок. Помещик, как и следовало ожидать, был встречен хлебом-солью от крестьян. При этой депутации также явилось в вицмундирах несколько чиновников земского и уездного судов и дворянской опеки, имевших, вероятно, в виду продолжать эксплуатацию, начавшуюся со времени взятия имения в опеку.
Не доезжая до села, дежурная тройка поскакала дать знать становому, который и приехал почтительно встретить юного владельца и с полверсты скакал перед ним до церковной паперти. Лишь только экипажи показались на плотине, с колокольни послышался благовест; народ перекрестился и побежал к барину навстречу. «Меня самодовольно передернуло, - рассказывал князь, - и я, обратясь к камердинеру, приказал подложить под меня третью кожаную подушку, чтобы многочисленные мои дети могли лучше рассмотреть своего отца-благодетеля. Народ так и валил». Картина выходила торжественная, но безмолвная толпа не произвела на владельца села сильного впечатления, - он ожидал, что будут кричать «ура». А когда подъехал к церкви и увидел, что «духовенство с крестами меня не встречает», то «решительно пришел в негодование и подумал: «ну, я заведу свои порядки и дам себя знать!» И действительно не прошло и двух минут, как он к таким порядкам и приступил. Войдя в церковь, он увидел пономаря в стихаре с распущенными волосами, ругающегося с старушками. Тут он пришел в такую ярость, что подошел к пономарю, закрутил руку его волосами и таким образом прошелся с ним по всей церкви и привел его в алтарь к священнику, совершавшему проскомидию, и сказал ему:
– Посмотрите, какие беспорядки у вас делаются в церкви.
Священник, не поняв, в чём дело, ответил:
– Извините, ваше сиятельство, этого впредь не будет… Если так был требователен юный коллежский регистратор, то что мог делать в ту эпоху министр в отставке?!
В павловское время много было выключенных из службы дворян, которые охотно принимали всякие, даже низкие должности у знатных вельмож. Известный любимец императора Павла I, князь Куракин, как уже выше сказано, в своем богатом саратовском имении Надеждино сделал у себя, наподобие посещенных им дворов владетельных княжеств, собственный двор. Совершенно бедные дворяне за большую плату принимали у него должности главных дворецких, управителей, даже шталмейстеров и церемониймейстеров. У него жил очень видный собою майор, которого обязанность состояла только в том, чтобы с палкою в руках ходить перед князем, когда он шел в свою домовую церковь. Но и помимо него было множество любезников без должностей, которые составляли княжескую свиту. Всякий день, даже в будни, за столом гремела музыка, а в праздники были большие выходы. Разделение времени, дела и забавы, - все было подчинено строгому порядку и этикету. Изображения Павла I находились у него во всех комнатах; в саду и в роще, там и сям встречались весьма изящные памятники знаменитым друзьям и родственникам. Князь наслаждался и мучился воспоминаниями Трианона и Марии Антуанетты, посвятил ей деревянный храм и назвал её именем длинную, ведшую к нему, аллею. Такие державные затеи имели довольно смешную сторону.
В двадцатых годах текущего столетия был известен своими чудачествами князь Иван Александрович Голицын, носивший в обществе прозвище Jean de Paris [138]по названию современной оперы. Князь отличался большою расточительностью: в Париже, во время пребывания наших войск, он выиграл в одном игорном доме миллион франков, а спустя несколько дней проигрался так, что ему не на что было выехать из города. Женившись на Всеволожской, он оказался холостяком тотчас же по совершении брачного обряда, так как, выходя из церкви, жена подала ему портфель и оказала: «Вот половина моего состояния, а я - княгиня Голицына, и теперь все кончено между нами!» Такая характерная черта довольно ясно обрисовывает эту женщину. Она впоследствии принадлежала к обществу женщин-мечтательниц, объединившихся вокруг г-жи Крюденер.
Голицына была главною распорядительницею в деле переселения этой колонии женщин на южный берег Крыма. Отплыли они из Петербурга водою, в большой барке. Голицына поражала всех своим мужественным видом: она ходила в длинном сюртуке и суконных панталонах, с плетью в руках, которою собственноручно расправлялась с своими домашними и даже окрестными татарами. Не только они, но исправники, заседатели и прочие трепетали перед деспотическою женщиною. Ездила она верхом, как мужчина, и подписывалась в письмах «La vieille des Monts», что остряки переводили как «La vieille Demon» [139]. Муж её, Jean de Paris, служил адъютантом у великого князя Константина Павловича. По рассказам современников, он был очень забавен при своей сановитости в обстановке и кудреватости в речах. Князь был от природы немного трусоват. Однажды он ехал в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть.
Это Голицыну не очень нравилось. «Осмелюсь заметить, - сказал он, - и доложить вашему высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, от вашего высочества может остаться только одна надпись на гробнице: здесь лежит тело его императорского высочества великого князя Константина Павловича». - «А Михель?» - спросил великий князь. Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя. «Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего высочества, то и Михель его высочества бояться не будет».
Князь, как мы выше уже сказали, был страстный игрок. Житье в то время в Варшаве носило характер бивуачный и азартная игра велась сильная, проигрыш его в самое короткое время достиг чудовищных размеров. Он вышел в отставку, имея до пяти миллионов долгу.
Судьба этого князя очень сходна с судьбой его однофамильца - тоже названного именем любимой тогда оперы «Cosa rara» [140].
Этот Голицын имел 24000 душ крестьян и громадное состояние, которые пустил прахом: частью проиграл в карты, частью потратил на неслыханное сумасбродство. Он ежедневно отпускал кучерам своим шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостей, бросал на улицу извозчикам горстями золото, чтобы они толпились у его подъезда, и прочее. Прожив таким образом состояние, он подписывал не читая векселя, на которых суммы выставлялись не буквами, а цифрами. В конце своей жизни он получал содержание от своих племянников и никогда не сожалел о своем прежнем баснословном богатстве, всегда был весел духом, а часто и навеселе.
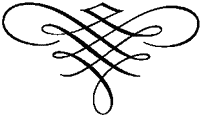
ГЛАВА XIV
В первых годах нынешнего столетия в Пензенской губернии губернаторствовал князь Г[олицы]н, известный более под именем князя Григория [141]. Это был представитель старинного русского барства, только с ещё большими странностями, прихотями и причудами. Князь Григорий был большой оригинал. В нежной юности он хорошо помнил своего дедушку, князя Потемкина, открытую его грудь, босые ноги, халат нараспашку, в котором принимал он первых вельмож, сырую репу и морковь, которые при них же и грыз; помнил также царскую его представительность, его бриллианты и жемчуга, и его фавориток. Но всего этого ему показалось ещё мало: он захотел превзойти деда и избрал образцом не одного его, а многих ещё чудаков того времени.
Князь Григорий полагал, что для вида необходимо иметь фавориток, и вот завел он себе двух таких старых женщин. Первую из них он назвал маркизой де Монтеспан. Она составляла его партию в бостон и сверх того давала ему деньги взаймы только за высокие проценты. За это качество к её титулу он прибавил ещё второй - мадам ла Рессурс.
Вторая платоническая метресса пензенского Людовика была тихая, богомольная, пожилая женщина: её он посвятил в девицы де Лавальер. Князь Григорий был женат, жена его была кроткая и нежно любила мужа, в свою очередь и супруг был к ней верен. Но что всего забавнее - он заставлял жену показывать чрезвычайную холодность к обеим этим мнимым метрессам.
Князь Григорий был большой затейник. Вместе с копировкой Людовика и Потемкина ему вдруг захотелось скопировать иудейского царя Давида, и вот он выучился довольно изрядно играть на арфе, так что по утрам его находили иногда в каком-то древнебиблейском костюме с лирою в руках, на которой он играл, припевая разные псалмы, арии и песни как «Lison dormait un bocage» или «При долинушке стояла…». Князь имел также страсть к церковным обрядам. В деревне наряжал он самого себя и любимейших слуг в стихари, певал с ними на клиросе и читал апостольские послания.
Со стороны любви к церковнослужительству он сблизился с великим Суворовым и высокомощным дедом своим. Из своих чиновников он составил себе целый придворный штат. Для молодых писцов канцелярии своей простого происхождения он нанял где-то танцмейстера, одел их на свой счет и представил в свет, где все девицы обязаны были с ними танцевать. Он называл их своими камер-юнкерами, и они отличались от других однообразным цветом жилетов. Когда его секретарь жаловался, что некому переписывать в канцелярии, что они ничего делать не хотят, князь велел набрать для работы других, а этих считать сверх штата, и дал им от себя содержание.
Всему, что до него относилось, умел он давать какой-то торжественный вид. Занеможет ли у него жена - по всем церквам велит он служить молебствия о её выздоровлении; родится ли у него сын - он собственноручно пишет церемониал его крестин. И вот по улице от губернаторского дома до собора несут на подушке младенца, окруженного разряженными повивальною бабкою, нянькою, кормилицею и девочками; впереди и сзади два ливрейных лакея; один курьер открывает шествие, другой замыкает его. Во время отъезда в деревню также соблюдались официальные формы, писался маршрут, поезд делился на три отделения, назначались роздыхи, ночлеги, и по дороге рассылались копии с письменных распоряжений.
Известный своими победами на море в екатерининское время адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков в частной жизни отличался большими странностями: при виде женщины, даже пожилой, приходил в страшное замешательство, не знал, что говорить, что делать, стоял на одной ноге, вертелся, краснел.

Ушаков Фёдор Фёдорович (1745-1817)
Отличаясь, как Суворов, неустрашимой храбростью, он боялся тараканов и не мог их видеть. Нрава он был очень вспыльчивого: беспорядки, злоупотребления заставляли его выходить из приличия, но гнев его скоро утихал. Один только камердинер его, Фёдор, умел обходиться с ним, и когда Ушаков сердился, тот сначала хранил молчание, отступал от Ушакова, но потом сам в свою очередь возвышал голос на него. Теперь уже барин принужден был удаляться от слуги, и не прежде выходил из кабинета, как удостоверившись, что гнев Федора миновал. Ушаков был очень набожен, каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню, и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием военно-судных дел; а утверждая приговор, был исполнен доброты. В 1801 году Ушаков определен был главным командиром Балтийского порта и всех корабельных экипажей, находившихся в Петербурге.
Ушаков был долго грозою и бичом турок, которые иначе его не называли, как «паша Ушак»; все чины и все знаки отличия он приобрел только личною своею храбростью. В 1806 году он представил в дар отечеству алмазную челенгу, но император возвратил ему, сказав, что знак этот должен сохраняться в потомстве его, как памятник подвигов его на водах Средиземного моря. Происходил же Ушаков родом из бедных тамбовских дворян Темниковского уезда и очень любил всем рассказывать, как он в молодости ходил в лаптях.
Суворов очень уважал Ушакова. Когда в бытность его в Италии к нему приехал курьер с депешами от Ушакова, начальствовавшего в то время соединенным российско-турецким флотом в Средиземном море, то, прочитав некоторые бумаги, Суворов вдруг обратился к привезшему их и спросил: «А что, здоров ли мой друг Фёдор Фёдорович?» Посланный курьер-немец не сразу догадался, о чём спрашивает Суворов и, не знавший ещё всех причуд героя, смутившись сказал: «А, господин адмирал фон Ушаков! Я оставил его в добром здоровье, и он поручил мне засвидетельствовать вашему сиятельству свое искреннее почтение». - «Убирайся ты с твоим фон! Этот титул ты можешь придавать такому-то и такому-то, потому что они нихтбешмирзагеры, немогузнайки, а человека, которого я уважаю, который своими победами сделался грозою для турок, потряс Константинополь и Дарданеллы и который, наконец, начал теперь великое дело - освобождение Италии, отнял у французов крепость Корфу, ещё никогда не уступавшую открытой силе, этого человека называй всегда просто - Фёдор Фёдорович!»
Ушаков умер в 1817 голу в своем тамбовском имении, ведя жизнь почти отшельническую.
К числу больших причудников и остряков надо отнести любимца Потемкина, генерала от инфантерии Сергея Лаврентьевича Львова. Этот придворный вместе с острым умом отличался примерною храбростью и редким присутствием духа - его воинские подвиги известны при осаде Очакова и взятии Измаила, где он командовал первою колонною правого крыла.
Известный Спада [130]в своих «Ephemerides Russes (St. Petersbourg, 1816) приводит несколько острот этого генерала.
Вот некоторые анекдоты Львова. Лорд Витворт подарил императрице Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, наводя его на небо, уверяли, что на луне различают даже горы. - «Я не только вижу горы, но и лес», - сказал Львов. «Ты возбуждаешь во мне любопытство», - произнесла императрица, вставая с кресел. «Торопитесь, ваше величество, - продолжал Львов, - лес уже начали рубить; подойти не успеете, как его срубят».
«Что ты нынче бледен?» - спросил его раз Потемкин. «Сидел рядом с графинею Н. и с её стороны ветер дул, ваша светлость», - отвечал Львов. Графиня Н. сильно белилась и пудрилась. «Давно ли ты сюда приехал и зачем?» - спросил Львов своего друга, встретив его на улице. «Давно и, по несчастию, за делом». - «Жаль мне тебя! А у кого в руках дело?» - «У NN.» - «Видел ты его?» - «Нет ещё». - «Так торопись и ходи к нему только по понедельникам. Его секретарь обыкновенно заводит его по воскресеньям, вместе с часами, и покуда он не размахается, путного ничего не сделает». Львов говорил про секретарей, что они имеют сходство с часовою пружиною, потому что невидимо направляют ход событий.
По словам Храповицкого, императрица Екатерина II, едучи в Крым, исключила из своей свиты Львова, сказав: «Бесчестный человек в моем сообществе жить не может». Но впоследствии государыня простила Львова и всегда щедро награждала его по представлениям Потемкина. Гнев императрицы на Львова, как полагать надо, вышел за неплатеж долгов Львовым: он был очень небогатый человек и запутанный в своих денежных делах. Об этом все знали. И когда Львов с воздухоплавателем Гарнереном летал в воздушном шаре, известный остряк Александр Семенович Хвостов напутствовал его вместо подорожной следующим экспромтом:
На что Львов, садясь в гондолу, ответствовал без запинки такими же рифмами:
Генерал Львов
Летит до облаков
Просить богов
О заплате долгов.
Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков.
Хвосты есть у кнутов, берегись Хвостов!

Львов Сергей Лаврентьевич (1740-1812)
На вопрос известного адмирала Шишкова, что побудило его отважиться на опасность этого воздушного путешествия с Гарнереном, Львов объяснил, что, кроме желания испытать свои нервы, другого побуждения к тому не было. «Я бывал в нескольких сражениях, - сказал он, - больших и малых, видел неприятеля лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня забилось сердце. Я играл в карты, проигрывал все до последнего гроша, не зная, чем завтра существовать буду, и оставался также спокоен, как бы имея миллион за пазухою. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу-польку, которая, казалось, была от меня без памяти, но, в самом деле, безбожно обманывала меня для одного венгерца. Я узнал об измене со всеми гнусными её подробностями, и мне стало смешно. Как же, я думал, дожить до шестидесяти лет и не испытать в жизни ни одного сильного ощущения! Если оно не давалось мне на земле, - дай поищу его за облаками. Вот я и полетел. Но за пределами нашей атмосферы я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости, немного продрог - вот и всё…»
Император Павел I, разговаривая однажды с Львовым на разводе, облокотился на него.
– Ах, государь! - произнес с сожалением Львов, - могу ли я служить вам опорою?
Однажды Потемкин за что-то рассердился на Львова и перестал с ним разговарвать, но Львов не обратил на это особенного внимания и продолжал каждый день обедать у фельдмаршала.
– Отчего ты так похудел? - спросил, наконец, его Потемкин.
– По милости вашей светлости, - отвечал сердито Львов.
– Как так?
– Если бы вы ещё немного продолжали на меня дуться, то я умер от голода.
– Я ничего не понимаю! - возразил Потемкин. - Какое может иметь отношение к голоду моя досада на тебя?
– А вот какое, и очень важное: прежде все оставляли меня в покое и не нарушали моих занятий, а чуть только показали Вы мне хребет, я не стал иметь отдыху. Едва только поднесу ко рту кусок, как его отрывают вопросами. Не смел же я не отвечать, находясь в опале…
Любимая племянница Потемкина, графиня Браницкая, забавляясь однажды при Львове примериванием разных нарядов, обернула себе голову драгоценным собольим боа.
– Как я в этом буду? - спросила она Львова, кокетничая.
– Просто будете с мехом (смехом)- отвечал он.
– Какое различие между трутом и школьником? - спросил он однажды, и когда все затруднились ответом, сказал: то, что трут прежде высекут, а потом положат, а школьника сперва положат, а потом высекут.
По сообщению С.П. Жихарева, Львов в обществе был неистощимым рассказчиком разных любопытных происшествий в армии при фельдмаршалах Румянцеве и князе Потемкине; он забавлял анекдотами и умел расшевелить и таких людей, которые, кажется, от роду своего никогда не смеялись.
Лет пятьдесят-шестьдесят тому назад, у нас в России, особенно в провинции, мудрено было удивить самодурством.
Редкий из зажиточных помещиков не отличался особыми причудами. На такие причуды ушли колоссальные состояния.
В Малоархангельском уезде Орловской губернии жила старушка-помещица Ра[гози]на [131], помешанная на всевозможных придворных церемониях. Зал, в котором она принимала своих знакомых и «подданных» (как величали тогда помещики своих крепостных людей), представлял нечто до нелепости странное. Это была большая комната в два света, расписанная в виде рощи, пол которой изображал партер из цветов; посредине был устроен из зеркальных стекол пруд, на котором плавали искусственные лебеди; по дорожкам стояли алебастровые фигуры богов и богинь древней Греции.
Клумбы из искусственных цветов во время выходов помещицы напрыскивались одеколоном и «альпийской водой». На больших деревьях, там и сям поставленных, порхали снегири, синицы и другие певчие птицы. Сама помещица сидела на золотом троне, в ногах её стояли и лежали пажи и арапчики.
Каждое воскресенье и двунадесятые праздники после обедни здесь происходили приемы. Первым являлся сельский священник с причтом, диакон торжественно нес на серебряном блюде большую просфору. Несмотря на то, что церковь от усадьбы была в расстоянии полуверсты, помещица к обедне ездила всегда со свитой в пятьдесят человек. Кроме господского, экипажей в поезде было не менее десяти. Сама владелица ехала в громадной откидной колымаге, называемой «лондоном», запряженной восьмериком; кучер сидел так высоко, что был на уровне с коньками крестьянских изб. Вторым экипажем был дормез, запряженный четверкой, третьим - четырехместная коляска в шесть лошадей, потом коляска двухместная, потом крытые дрожки, потом две польские брички, наконец, две-три линейки и несколько кожаных кибиток. Барыня была женой генерала, любила почет и уважение. Торжественные приемы её, как говорили, доходили до Петербурга, но им только посмеивались: таких помещиц и помещиков было тогда немало.
Князь Г.С. Г[олицы]н [132], один из тоже замечательных самодуров, в подмосковном поместье учредил даже нечто вроде маленького двора из своих «подданных». У него были гофмаршалы, камергеры, камер-юнкеры и фрейлины, была даже «статс-дама», необыкновенно полная и представительная вдова-попадья, к которой «двор» относился с большим уважением: она носила на груди род ордена - миниатюрный портрет владельца, усыпанный аквамаринами и стразами. Князь Г[олицын] своим придворным дамам на рынках Москвы покупал поношенные атласные и бархатные платья и обшивал их галунами. В праздник совершались выходы; у него был составлен собственный придворный устав, которого он строго придерживался.

Голицын Григорий Сергеевич (1779-1848)
Балы у него отличались особенным этикетом, т. к. на них присутствовали его придворные. В зале, ярко освещенном, размещались приглашенные. Когда все гости были в сборе, с хор неслись звуки торжественного марша, и хозяин входил в зал, опираясь на плечо одного из своих гофмаршалов. Бал открывался полонезом, причем помещик вел «статс-даму», которая принимала приглашение князя, предварительно поцеловав его руку. Князь удостаивал и других дам приглашением на танец, причем они все прежде подобострастно прикладывались к его руке. Бал завершался шумным галопадом, а последний нередко превращался в веселую «барыню».

Голицын Юрий Николаевич (1823-1872)
В Орловской губернии, в нескольких верстах от уездного города Малоархангельска, существует большое село князей К[ураки]ных [133], где на обширном дворе в виду сельского храма виднеется небольшое кладбище, обросшее пирамидальными тополями. Кладбище это переносит нас к бывшим барским причудам одного из владельцев [134], о причудах которого рассказали выше. Там между несколькими уцелевшими весьма недурными каменными мавзолеями ещё в шестидесятых годах можно было отыскать несколько с упоминаниями особ пышной дворни князя К[уракина]. В одной могиле похоронена «девица Евпраксия, служившая до конца дней своих при дворе его сиятельства камер-юнгферой», на другой могиле написано, что в ней «покоится Сенька Триангильянов», бывший в ранге полицеймейстера в придворном штате его сиятельства, далее находим «стремянного Иакима Безупречного, пролившего кровь за своего властелина 9-го октября 1819 года» и т.д.
Что только ни происходило при жизни этого гордого вельможи! Окруженный многочисленной дворней, он, как и брат его [135], разыгрывал при ней роль немецкого принца и мечтал, что он в своем владельческом княжестве. Он давал такие обеды, за которыми, как хозяин, так и гости бывали пьяны настолько, что не могли ни дверей сыскать, ни без помощи слуги сесть в свою карету. Это называлось на языке князя «des diners a hui clos». Он принимал приезжих гостей обыкновенно у себя в спальне, когда ему мылили бороду, а по сторонам стояли шуты в золоченых камзолах. Гордость князя доходила до смешного: он рассчитал своего старого домового доктора за то только, что тот осмелился ночью, во время приступа болезни князя, явиться не во фраке. Кто, впрочем, в былые годы не доходил до сумасбродства в деревне, чтобы «показать себя» своим вассалам и чинить там суд и расправу?!
Известный своим самодурством Голицын по прозванию «Юрка» [136], рассказывал, как он в юношеские годы приехал в свое родовое имение по выпуске из Пажеского корпуса, где он окончил курс с первым гражданским чином. Ещё до выезда из Петербурга он послал в вотчинную контору приказ, которым уведомлял, что будет в Троицын день, в престольный праздник. Позднюю обедню он предполагал слушать в приходском своем соборе, о чём предписывал уведомить как духовенство, так и окрестных помещиков, и подлинный его приказ прочесть на мирском сходе. Ему казалось, - как он сам иронически замечает, - что величественнее этого приказа до сих пор ещё ничего не было. Для пущей важности, приказ был написан на бристольской бумаге, вложен в огромный конверт казенного формата с гербовою печатью в ладонь и отправлен по эстафете, т.к., - думал он про себя, - «таким образом посылаются только царские грамоты».
Ну, вот и поехал он в свои владения в зелёной коляске a l'Empereur [137]- с двумя лакеями: первый был в ливрее, второй - в военной форме. Почему он нарядил его так, он и сам разъяснить не мог. В коляске барина лежал ещё большой черный водолаз. Сзади его в другой коляске ехали: секретарь, приживальщик, повар и казачок. Помещик, как и следовало ожидать, был встречен хлебом-солью от крестьян. При этой депутации также явилось в вицмундирах несколько чиновников земского и уездного судов и дворянской опеки, имевших, вероятно, в виду продолжать эксплуатацию, начавшуюся со времени взятия имения в опеку.
Не доезжая до села, дежурная тройка поскакала дать знать становому, который и приехал почтительно встретить юного владельца и с полверсты скакал перед ним до церковной паперти. Лишь только экипажи показались на плотине, с колокольни послышался благовест; народ перекрестился и побежал к барину навстречу. «Меня самодовольно передернуло, - рассказывал князь, - и я, обратясь к камердинеру, приказал подложить под меня третью кожаную подушку, чтобы многочисленные мои дети могли лучше рассмотреть своего отца-благодетеля. Народ так и валил». Картина выходила торжественная, но безмолвная толпа не произвела на владельца села сильного впечатления, - он ожидал, что будут кричать «ура». А когда подъехал к церкви и увидел, что «духовенство с крестами меня не встречает», то «решительно пришел в негодование и подумал: «ну, я заведу свои порядки и дам себя знать!» И действительно не прошло и двух минут, как он к таким порядкам и приступил. Войдя в церковь, он увидел пономаря в стихаре с распущенными волосами, ругающегося с старушками. Тут он пришел в такую ярость, что подошел к пономарю, закрутил руку его волосами и таким образом прошелся с ним по всей церкви и привел его в алтарь к священнику, совершавшему проскомидию, и сказал ему:
– Посмотрите, какие беспорядки у вас делаются в церкви.
Священник, не поняв, в чём дело, ответил:
– Извините, ваше сиятельство, этого впредь не будет… Если так был требователен юный коллежский регистратор, то что мог делать в ту эпоху министр в отставке?!
В павловское время много было выключенных из службы дворян, которые охотно принимали всякие, даже низкие должности у знатных вельмож. Известный любимец императора Павла I, князь Куракин, как уже выше сказано, в своем богатом саратовском имении Надеждино сделал у себя, наподобие посещенных им дворов владетельных княжеств, собственный двор. Совершенно бедные дворяне за большую плату принимали у него должности главных дворецких, управителей, даже шталмейстеров и церемониймейстеров. У него жил очень видный собою майор, которого обязанность состояла только в том, чтобы с палкою в руках ходить перед князем, когда он шел в свою домовую церковь. Но и помимо него было множество любезников без должностей, которые составляли княжескую свиту. Всякий день, даже в будни, за столом гремела музыка, а в праздники были большие выходы. Разделение времени, дела и забавы, - все было подчинено строгому порядку и этикету. Изображения Павла I находились у него во всех комнатах; в саду и в роще, там и сям встречались весьма изящные памятники знаменитым друзьям и родственникам. Князь наслаждался и мучился воспоминаниями Трианона и Марии Антуанетты, посвятил ей деревянный храм и назвал её именем длинную, ведшую к нему, аллею. Такие державные затеи имели довольно смешную сторону.
В двадцатых годах текущего столетия был известен своими чудачествами князь Иван Александрович Голицын, носивший в обществе прозвище Jean de Paris [138]по названию современной оперы. Князь отличался большою расточительностью: в Париже, во время пребывания наших войск, он выиграл в одном игорном доме миллион франков, а спустя несколько дней проигрался так, что ему не на что было выехать из города. Женившись на Всеволожской, он оказался холостяком тотчас же по совершении брачного обряда, так как, выходя из церкви, жена подала ему портфель и оказала: «Вот половина моего состояния, а я - княгиня Голицына, и теперь все кончено между нами!» Такая характерная черта довольно ясно обрисовывает эту женщину. Она впоследствии принадлежала к обществу женщин-мечтательниц, объединившихся вокруг г-жи Крюденер.
Голицына была главною распорядительницею в деле переселения этой колонии женщин на южный берег Крыма. Отплыли они из Петербурга водою, в большой барке. Голицына поражала всех своим мужественным видом: она ходила в длинном сюртуке и суконных панталонах, с плетью в руках, которою собственноручно расправлялась с своими домашними и даже окрестными татарами. Не только они, но исправники, заседатели и прочие трепетали перед деспотическою женщиною. Ездила она верхом, как мужчина, и подписывалась в письмах «La vieille des Monts», что остряки переводили как «La vieille Demon» [139]. Муж её, Jean de Paris, служил адъютантом у великого князя Константина Павловича. По рассказам современников, он был очень забавен при своей сановитости в обстановке и кудреватости в речах. Князь был от природы немного трусоват. Однажды он ехал в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть.
Это Голицыну не очень нравилось. «Осмелюсь заметить, - сказал он, - и доложить вашему высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, от вашего высочества может остаться только одна надпись на гробнице: здесь лежит тело его императорского высочества великого князя Константина Павловича». - «А Михель?» - спросил великий князь. Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя. «Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего высочества, то и Михель его высочества бояться не будет».
Князь, как мы выше уже сказали, был страстный игрок. Житье в то время в Варшаве носило характер бивуачный и азартная игра велась сильная, проигрыш его в самое короткое время достиг чудовищных размеров. Он вышел в отставку, имея до пяти миллионов долгу.
Судьба этого князя очень сходна с судьбой его однофамильца - тоже названного именем любимой тогда оперы «Cosa rara» [140].
Этот Голицын имел 24000 душ крестьян и громадное состояние, которые пустил прахом: частью проиграл в карты, частью потратил на неслыханное сумасбродство. Он ежедневно отпускал кучерам своим шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостей, бросал на улицу извозчикам горстями золото, чтобы они толпились у его подъезда, и прочее. Прожив таким образом состояние, он подписывал не читая векселя, на которых суммы выставлялись не буквами, а цифрами. В конце своей жизни он получал содержание от своих племянников и никогда не сожалел о своем прежнем баснословном богатстве, всегда был весел духом, а часто и навеселе.
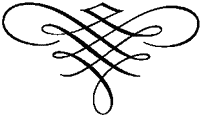
ГЛАВА XIV
«Пензенский Людовик» - князь Григорий Голицын. Англоман Зыбин. Граф В.И. Апраксин. Типограф Н.Е. Струйский. Переводчик Е.П. Костров. Поэт В.П. Петров.
В первых годах нынешнего столетия в Пензенской губернии губернаторствовал князь Г[олицы]н, известный более под именем князя Григория [141]. Это был представитель старинного русского барства, только с ещё большими странностями, прихотями и причудами. Князь Григорий был большой оригинал. В нежной юности он хорошо помнил своего дедушку, князя Потемкина, открытую его грудь, босые ноги, халат нараспашку, в котором принимал он первых вельмож, сырую репу и морковь, которые при них же и грыз; помнил также царскую его представительность, его бриллианты и жемчуга, и его фавориток. Но всего этого ему показалось ещё мало: он захотел превзойти деда и избрал образцом не одного его, а многих ещё чудаков того времени.
Князь Григорий полагал, что для вида необходимо иметь фавориток, и вот завел он себе двух таких старых женщин. Первую из них он назвал маркизой де Монтеспан. Она составляла его партию в бостон и сверх того давала ему деньги взаймы только за высокие проценты. За это качество к её титулу он прибавил ещё второй - мадам ла Рессурс.
Вторая платоническая метресса пензенского Людовика была тихая, богомольная, пожилая женщина: её он посвятил в девицы де Лавальер. Князь Григорий был женат, жена его была кроткая и нежно любила мужа, в свою очередь и супруг был к ней верен. Но что всего забавнее - он заставлял жену показывать чрезвычайную холодность к обеим этим мнимым метрессам.
Князь Григорий был большой затейник. Вместе с копировкой Людовика и Потемкина ему вдруг захотелось скопировать иудейского царя Давида, и вот он выучился довольно изрядно играть на арфе, так что по утрам его находили иногда в каком-то древнебиблейском костюме с лирою в руках, на которой он играл, припевая разные псалмы, арии и песни как «Lison dormait un bocage» или «При долинушке стояла…». Князь имел также страсть к церковным обрядам. В деревне наряжал он самого себя и любимейших слуг в стихари, певал с ними на клиросе и читал апостольские послания.
Со стороны любви к церковнослужительству он сблизился с великим Суворовым и высокомощным дедом своим. Из своих чиновников он составил себе целый придворный штат. Для молодых писцов канцелярии своей простого происхождения он нанял где-то танцмейстера, одел их на свой счет и представил в свет, где все девицы обязаны были с ними танцевать. Он называл их своими камер-юнкерами, и они отличались от других однообразным цветом жилетов. Когда его секретарь жаловался, что некому переписывать в канцелярии, что они ничего делать не хотят, князь велел набрать для работы других, а этих считать сверх штата, и дал им от себя содержание.
Всему, что до него относилось, умел он давать какой-то торжественный вид. Занеможет ли у него жена - по всем церквам велит он служить молебствия о её выздоровлении; родится ли у него сын - он собственноручно пишет церемониал его крестин. И вот по улице от губернаторского дома до собора несут на подушке младенца, окруженного разряженными повивальною бабкою, нянькою, кормилицею и девочками; впереди и сзади два ливрейных лакея; один курьер открывает шествие, другой замыкает его. Во время отъезда в деревню также соблюдались официальные формы, писался маршрут, поезд делился на три отделения, назначались роздыхи, ночлеги, и по дороге рассылались копии с письменных распоряжений.
