Страница:
Благодаря своей виннооткупной деятельности, откупщики загребали огромные капиталы. При Екатерине II, как видно из «Дневника» Храповицкого, известными винными откупщиками не брезгали быть князь Юрий Долгоруков
[201], Сергей Гагарин
[202]и князь Куракин. Откупная система для всей империи утверждена была только в 1795 году, по проекту купца К[андалин]цева.
Откупщик того времени пользовался неограниченным правом делать все, что угодно. В великороссийских губерниях, где до этих пор по старине пробавлялись пивом и брагой, тогда явилась одна водка, и с ней вдруг появилось страшное пьянство, а в мире народных поверий возродился образ Ярилы, бога водки, русского Бахуса, и праздник Ярилы, почти забытый, разом появляется в губерниях Тверской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской. В Петров пост, 30 мая, в последний день празднования Яриле, в Воронеже, на площади стояли бочки с вином, валялись пьяные. В это время является на площади епископ воронежский Тихон, начинает кротко поучать любимый им народ, народ его слушает, потом разбивает бочки с вином, и с тех пор праздник Ярилы в Воронеже навсегда прекращается.
Но преосвященному Тихону подвиг этот даром не прошел. Всесильные откупщики донесли, что он смущает народ, учит его не пить водки и тем подрывает казенный интерес. Вследствие этого доноса святитель должен был отправиться на покой.
Уничтожение откупа составляет лучшую страницу из царствования императора Александра II. 1 января 1863 года открыла свои действия новая акцизная система, и дешевая водка, столь для народа необходимая, стала его достоянием. Народ, как гласили тогда газеты, собравшись пред домом одного откупщика, пропел ему анафему; в другом городе, на святках, кто-то ходил по трактирам, замаскировавшись в надгробный памятник откупу. Ходящий памятник представлял большой четырехгранный столб, широкий снизу, узкий кверху; по сторонам его были написаны приличные эпитафии, оплакивающие откуп. Явились и лубочные картинки - похороны откупа и т.д.
Откупщики делались в самое короткое время известными миллионерами. Из числа таких богатейших лиц были Лукин, Шемякин, Кандалинцев, Походяшин, Рюмин, Логинов. Последний устроил однажды народный праздник, на котором излишком оставшейся у него водки перепоил народ допьяна так, что несколько человек замерзло, причем полиция, как тогда уверяли, подобрала до 400 тел.
Логинов данный им народный праздник считал как сделанным им пожертвованием. Откупщики, наживаясь от народа, вместе с тем расстраивали казну. Так, на одном Логинове недочет простирался до двух миллионов рублей.
Последними богатыми откупщиками были Бенардаки, Кокорев, Каншин. По большей части, все такие откупщики обыкновенно забывали разумные осторожные расчеты, задавались большими предприятиями, в конце концов лопались и обращались в таких же бедняков, какими они были до своей первой разживы.
С уничтожением откупов, за откупщиками осталось недоимок свыше 50 миллионов рублей.
В смеси народностей, составляющих население Петербурга в описываемые нами времена, немало встречалось на улицах в нарядах древнеэллинского королевства. В ряду таких личностей, ходивших в фустанелах и красной феске, часто попадался на людных улицах столицы низенький старичок, всеобщий знакомец, известный под именем Зоя Павлыча [203]. Это был выходец из угнетенной Греции, очень зажиточный уроженец Янины, страстный ревнитель древней славы Эллады и истинный покровитель классического образования. Едва ли было какое-либо благотворительное или ученое предприятие, особенно касавшееся его соотечественников, в котором бы он не принимал деятельного участия. Зой Павлыч был собиратель разных редкостей, его кабинет открыт был для всех, его посещали ученые, путешественники, он охотно всем показывал свои богатые собрания редких рукописей, монет и медалей, драгоценных камней и особенно свою «Пелегрину», составлявшую его гордость и отраду. «Пелегрина» была высокой красоты жемчужина, весом около 28 карат и совершенно круглая; от блеска и высокого глянца она казалась прозрачною. Жемчужина была куплена им в Ливорно у капитана одного купеческого корабля. Зой Павлыч хранил её в трёх коробочках, одна в другую вложенных, и с торжеством показывал её любопытным на листе белой бумаги.
Эту жемчужину в конце концов похитил один его же соотечественник-грек, явясь переодетым в мундир адъютанта генерал-губернатора. Похититель был вскоре найден, но жемчужину он успел попортить. Это так поразило Зоя Павлыча, что он вскоре с горя умер. Все редкости и драгоценности по предсмертному его желанию были отправлены в Афины для основания там греческого музея.
В конце сороковых годов в Летнем саду бросалась в глаза гуляющих стройная фигура, видимо, молодого мужчины, постоянно одетого в глубокий траур, с обшитыми по кантам сюртука плерезами, а на рукавах и шляпе с черной повязкой. Но всего примечательнее в наряде этого господина было то, что лицо его всегда было скрыто под черной плотной маской. Много ходило тогда толков в обществе об этом таинственном незнакомце, приезжавшем всегда в карете в сопровождении одного старика-слуги. По рассказам, судьба этого незнакомца была очень трогательная. Несчастие постигло в день его свадьбы на нежно обожаемой им особе.
После свадебного пира, когда гости уже разъехались и он находился в своем кабинете, вдруг ему слышится запах дыма. В ужасе он кидается на половину жены, и тут видит, что весь дом уже объят пламенем. С трудом он пробирается к ней, схватывает её и уносит сквозь пламень, но у выхода силы его оставляют и он вместе с женою падает без чувств. Пока сбежался народ и приехали пожарные, дом уже был весь в огне. Несчастных супругов нашли обгорелыми. Молодая жена его была без признаков жизни, а он лежал с лицом, не имевшим уже подобия человеческого. Три дня он был без чувств и уже делали приготовления к его погребению; желая похоронить его с женой, не засыпали могилы последней. Но доктора возвратили его к страдальческой жизни. И вот с тех пор лица его, кроме слуги, никто уже не видел.
В числе лиц, обрекших себя на уличное шутовство и гаерство, был известен отставной чиновник, крайне невзрачной наружности, с золотушными шрамами на лице, ходивший по рынкам и улицам всегда со свитой собак-ублюдков, одетых в костюмы. Одна была в зелёном фраке, жёлтых штанах и красном жилете, другая в обтянутом пестром кафтане и синих штанах, третья в каком-то бурнусе с колпачком, в шапочке с разноцветными перьями, четвертая - в фижмах, роброне и парике с тупеем, пятая - в дамском капоте и шляпке, какие носили в сороковых годах.
Все эти костюмированные собаки носили имена современных франтов и франтих, известных в тогдашнем обществе. Появление этого полупомешанного чиновника со своей свитой возбуждало всеобщий хохот. Толпа мальчишек бегала за ним; кто угощал собак сахаром, кто давал пряник, сухарь и т.д.
Большою популярностью в описываемые года на улицах и рынках пользовался ещё бродячий фокусник Апфельбаум, упоминаемый Гоголем в одной из его повестей. Апфельбаум видом был очень приличен, ходил он во фраке, с большим жабо. В руках у него всегда была палочка из слоновой кости, которая и помогала при его манипуляциях.
Он ловко вынимал у извозчиков из носа картофель, ломал у пирожника пироги, в которых находил червонцы, сковывал висячим замком рот какого-нибудь ротозея, выпускал из рукава голубей, морских свинок и т.д. Апфельбаум все это проделывал даром, видимо, только ради одной рекламы.

Ходил и другой такой же ловкий фокусник, высокий старик-итальянец с серьгой в ухе. Это был пленный итальянский офицер, пришедший в Россию с Наполеоном в двенадцатом году. Последний, помимо фокуснических штук, чинил зонтики, делал курительную смолку и продавал замечательный по целебным свойствам пластырь от мозолей. За рецепт этого пластыря известный придворный доктор Арендт предлагал ему более пятисот рублей, но итальянец не хотел открыть его и за большую цену. Много чудесного тогда в народе рассказывали и про одного наезжавшего в Петербург иностранца, француза-чревовещателя Александра Ваттемара [204]. Про него говорили, что он раз довел будочника, стоявшего на часах у будки, до того, что тот стал ломать будку алебардой, полагая, что в углу постройки скрывается нечистый.
В другой раз он довел бабу, несшую в охапке дрова, до полного отчаяния, разговаривая с нею из каждого полена.
Этот чревовещатель обладал редкостной коллекцией рисунков и автографов различных знаменитостей. В числе многих раритетов, в ней находились рисунки русских императоров. В коллекции автографов было тоже значительное число русских знаменитостей, между которыми особенно интересны две строчки на французском языке в его альбоме, выражающие удивление великого поэта к редкому подражательному таланту знаменитого чревовещателя:
В те годы на улицах Петербурга можно было встретить и другого иностранца в старом мундире итальянского моряка, невысокого роста старичка с развевающимися седыми волосами, с доброю улыбкою на устах. Под мышкою у него вечно находился портфель с разноцветною бумагой и акварельными красками. Бедняга снискивал себе пропитание, за мелкую монету очень художественно вырезая модные в те годы силуэты со всякого, а также делая виньетки на бумаге для поздравительных писем и поминальных книжек. Рассказывали, что этот бедняк - обнищавший эмигрант, граф или виконт. В числе таких же уличных лиц и знаменитостей мостовой был известен всем петербуржцам стоявший на тротуаре Невского проспекта под навесом кожаного фартука с походною лавочкою трубок, ножей, ножниц, зубочисток и зонтиков горбун Даниэль Тиайнен. Сколько необычных лиц Невского сменилось перед ним. Сколько богачей, известностей, героев прошло мимо него! Сложа руки, смотрел он из-под длинного козырька на проходящих по проспекту или читал газету. Говорят, что этот горбун был не прочь от ручного залога.
Петербургским старожилам был известен и другой такой уличный торговец, который тоже видел не одно сменившееся поколение. Это был старик с седыми бакенбардами, под именем Яши известный таким лицам, как Карамзину, Сперанскому, Крылову, Пушкину и Грибоедову.
Более полувека сидел он на скамейке по Зеркальной линии в Гостином дворе против Публичной библиотеки и торговал мягкими, как бархат, мелками для карт и светильнями для лампад. Он помнил, когда игра в карты была допущена в маскарадах, а в Большом театре была «горница для карт». Карты в то время выписывались из-за границы и стоили два рубля дюжина.
Впоследствии карты были отданы на откуп, а цена на них возвысилась из-за сбора за их клеймение, установленное в пользу Воспитательного дома. В первое время Александровская мануфактура делала по 14000 колод ежедневно, но, несмотря на это, не могла удовлетворить требованиям тогдашнего общества, и карты распродавались каждый раз без всякого остатка.
Этот же продавец карточных мелков был известен вместе со своим отцом как хороший дрессировщик собак. Когда в начале 50-х годов в театре-цирке была возобновлена драма «Обриева собака», белый одноглазый пудель Яши очень эффектно разыгрывал свою роль. Собака в этой драме отыскивает могилу своего барина, разрывает её и бежит к знакомой барину старушке - известить её о случившемся несчастии. Старушка, ничего не понимая, выходит с фонарем и ставит его на пол; собака лает и тащит её за платье за собой. Наконец собака хватает поставленный на пол фонарь и бежит за сцену, старушка следует за собакой. Но самая эффектная сцена была в последнем акте, когда собака узнает убийцу и бросается на него. За каждое представление собака получала поспектакльную плату. Вся же суть была в колбасе, которой дразнили голодную собаку.
В начале же 50-х годов уличною знаменитостью был и мужичок-волшебник, родом москвич, обыкновенно дававший представления на каком-нибудь многолюдном дворе под открытым небом. Это был укротитель змей, совсем в роде индийского факира. Представление начиналось тем, что укротитель притворялся пьяным, вынимал из-за пазухи довольно большой клубок и бросал его на землю. По его слову, клубок развертывался в две змеи, длиною по аршину. Укротитель шел к ним и приказывал им ползти за собою. Змеи извивались по земле, поднимали головы, высовывали языки и сверкали глазами. Затем он брал одну из змей головою в рот, а остальную часть её тела обвивает вокруг своей шеи, потом проделывал то же самое с другой из них. Восклицаниям и аханью не было конца, а медные деньги так и сыпались в карман кудесника.
В числе столичных фланеров, все поступки и жизнь которых в высшей степени были странны, в 50-х годах замечалась одна бедная женщина, г-жа Рединг. Она зимой и летом ходила босиком и в чепце, спереди которого был пристегнут шифр в виде эмблемы - веры, надежды и любви. О ней знали только то, что она была когда-то богата и хороша собою, а в крайнюю бедность впала вследствие какого-то тяжелого несчастия.
В числе лиц, отвергавших совсем головной убор и обувь, в описываемое время на улицах Петербурга, как нам сообщал один из старожилов, были известны: князь Те[ниш]ев [206]и действительный статский советник Троицкий.
В николаевское время на улицах столицы встречалось много азиатских народностей, поражавших петербуржцев своими костюмами. Среди них выделялись хан Нахичеванский, хан Карабахский и шамхал Тарковский. Особенно пользовался популярностью второй хан, очень красивый, высокого роста мужчина в своем колоритном национальном наряде с неизбежной бараньей шапкой и с большой, окруженной крупными бриллиантами, золотой медалью на шее.
Этот хан был большой охотник до карт, и его крупная пожизненная пенсия почти целиком расходилась по карманам шулеров. Что же касается до шамхала Тарковского, то он был генерал-лейтенантом российской службы, видом был очень толст и неуклюж и возраста весьма почтенного. Он был типичным образцом полудикого кавказского властелина. Его всегда сопровождала многочисленная толпа слуг, с которыми он распоряжался по-свойски, отрезая уши и носы за небольшие проступки. Благодаря таким расправам, в сильные июльские жары он умер в плотно закрытой карете, в которой лежал в подушках. Не любившие его служители устроили ему такую кончину от апоплексии по дороге во время его следования в Дагестан.
В сороковых годах на петербургских улицах ещё встречалось несколько военных времен Екатерины II в своих характерных кафтанах, с тростями в руках. Попадался один ветеран в елисаветинском мундире светло-зелёного цвета с красными отворотами и золотым галуном, в треугольной шляпе с коротким белым султаном: это был столетний старик майор Щегловский [207].
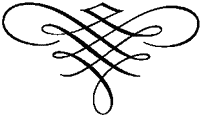
ГЛАВА XXV
Между знаменитыми русскими силачами был известен небогатый помещик П.Л. Д-в. Это был восьмидесятилетний старик высокого роста, белый, как лунь, и необыкновенно крепкого сложения. Ходил он всегда, зимою и летом, в одном синем, довольно длинном сюртуке с палкою в руках, на которую иногда садился верхом и скакал, а иногда махал ею в воздухе как саблей. Он был крепок и здоров, как самый крепкий юноша, и никто не помнит, чтобы он когда-нибудь болел. Он не чувствовал слабости и усталости в ногах, у него ещё скрипели кулаки, когда он их сжимал. Не было силача, который мог бы с ним сладить. Он сам говорил, что сила у него непомерная, и при этом показывал огромность своих крепких кулаков и наслаждался их скрипением. Он только надевал рукавицы и подвязывал платком уши. Однако ж не любил этих рукавиц и платка, и если надевал их при ком-нибудь, то всегда с горечью замечал: «Вот уж и я, батюшка, старею, рукавицы надо надевать».
В молодости он служил в армии Потемкина и Суворова в гусарах и был во многих походах и сражениях. Из его рассказов памятен один о страшном турке, тоже силаче. Это было на Кинбурнской косе; при этом он вспоминал слова солдатской песни: «Наша Кинбурнска коса наделала чудеса!» Вот что рассказывал богатырь.
Во время одной схватки в плен был взят необыкновенной силы турок, который содержался потом при нашей армии, хвастался своей силой и вызывал русских на единоборство. Многие отваживались с ним биться, но никто не мог его одолеть. Иных он даже изувечил, и некоторое время единоборство с ним было запрещено. Вдруг о турке узнает командир того полка, где служил богатырь Д-в. Послали за ним. Он находился в нескольких верстах от главной квартиры, где содержался турок. Д-в чрезвычайно обрадовался случаю показать свою силу и немедленно отправился в путь с тем провожатым, которого за ним послали. На дороге им случилось брести водою целых восемь верст. По приходе Д-ва ввели в подземный зал, весь увешанный коврами с турецкими диванами по стенам. На полу были тоже ковры. Собрались зрители, состоявшие из главных начальников войск, и был приведен турок. Д-в признавался, что турок ему показался очень страшным. Он был необыкновенно огромен и широк. Но Д-в, никем ещё не побежденный, надеялся на себя крепко и стал читать суворовскую молитву, которую он читал во всех случаях жизни и которой, как он говорил, научил их сам батюшка-Суворов. Бойцам велели раздеться донага и потом подали им два богатые турецкие платка, которые они тут же повязали себе на шею. Потом, взяв друг друга левой рукой за платок под горлом, стали ходить. Д-в был предуведомлен, что турок бьется обыкновенно головой в грудь и потому заметив, что платок у него повязан на шее свободно (чтобы при ударе головой было свободнее рвануться вперед), остановился и потребовал, чтобы платок у турка перевязали несколько туже. Платок перевязали и они, схватившись снова, начали ходить. Турок много раз покушался ударить Д-ва головою в грудь, но никак не мог сломить его руку. Бой продолжался долго, самым ожесточенным образом. Наконец турок был побежден.
Вскоре после этого подвига, при первой схватке с неприятелем Д-в был произведен в корнеты и потом вышел в отставку.
Он жил то у одного, то у другого знакомого, а летом и просто где-нибудь в поле или в лесу. Он обладал ещё одной странной способностью - умел укрощать всякую злую и неизвестную ему собаку, и не было примера, чтобы собаки его кусали. Когда его спрашивали, как он это делает, он обыкновенно отвечал: «Я, батюшка, суворовскую молитву читаю!»
К таким же феноменальным силачам принадлежал Ал. Ст. К-ин, орловский дворянин; росту он был два аршина и 13 вершков, толщины необъятной. Он служил при Екатерине II в кавалергардах, а затем в Гатчине у Павла Петровича. Сила у него была колоссальная: он крестился пятипудовыми гирями, поднимал одной рукою двенадцать пудов, играл в мячики пятипудовыми гирями, разрывал канат в два дюйма толщины, сгибал и разгибал широкую железную полосу, поднимал более 20 пудов.
При вступлении императора Павла I на престол, государь, лично знавший и любивший К-ина, спросил, куда он хочет быть назначен. К-ин отвечал, что он по тяжести своей в кавалерии служить не способен, потому что никакая лошадь его не выдержит, а в пехоте потому, что не может ходить в строю, поэтому он просил у царя службы гражданской на родине. Император приказал его произвести в коллежские асессоры с назначением в Орел городничим. Предание гласит, что он имел право писать государю лично, и даже получал ответы.
К-ин, служа городничим, на всех наводил такой страх, что им пугали матери детей, а продавцы на базаре бегали от возов, только бы не попадаться богатырю-городничему, в гневе бывавшем неумолимым, зная, что его проделки всегда сходили ему с рук. Сила этого городничего была чисто сказочная. В досаде он поднимал купцов за бороды выше своей головы и перебрасывал через забор; лошадь убивал кулаком с одного раза. Одного мещанина, в чём-то провинившегося, городничий не хотел ударить рукою, а толкнул пальцем в бок и переломил ему ребро. Однажды он остановил за рога бешеного быка и держал его до тех пор, пока подоспевшие люди не спутали его ног.
В двадцатых годах в Петербурге в числе проказников был некто Ч-ев. Он был предводителем тогдашних балетоманов, делал репетиции аплодисментов и вызовов и отряжал в раек наемных хлопальщиков, где по установленному знаку они должны были дружно вызывать артистов. По поводу таких вызовов нередко происходили и ошибки. Раз в каком-то спектакле пред появлением известной балерины на сцене показалась незначительная танцовщица. В эту самую минуту Ч-ев по рассеянности выдернул из кармана платок, хлопальщики приняли это за сигнал и произвели такой оглушительный прием, что бедная танцовщица смущена была до крайности и в недоумении скрылась за кулисы.
У Ч-ева были проказы ещё забавнее. Театральные кареты, возившие воспитанниц для кордебалета из школы в театр, находились тогда в самом жалком виде, они тянулись всегда на тощих, сутками не кормленных клячах одна за другою. Этот проказник пред разъездом из театра имел обыкновение раздавать на водку кучерам, возившим эти кареты, чтобы они слушали на пути его команду, и забавлялся тем, что проезжая на резвой своей паре в дрожках мимо целой вереницы карет, кричал: «Стой, равняйся!» и по команде его все кареты и фургоны оставались неподвижными.
Не раз он появлялся и на сцене в одежде какого-нибудь пейзана в дивертисментах, переодетый так, что сразу его было очень трудно узнать. Мистификатора узнавали только по дружному хохоту его товарищей, и потом начальство долго разыскивало, как он мог туда проникнуть.
В описываемые нами годы в лучшем петербургском обществе было много людей, которые в закулисных делах актрис принимали самое горячее участие. Известно несколько случаев, когда публика нелюбимых актрис встречала в неподходящих для них ролях самым дружным шиканьем и не давала им сказать ни одного слова, приводя полицию и театральное начальство в недоумение. За такие проделки театралы часто платились арестами и даже высылкой из столицы, как это было с известным Катениным [208], высланным графом Милорадовичем в его костромское имение.
В Москве раз театральный скандал дошел до того, что вышло приказание из Петербурга арестовать таких зачинщиков и рассадить - военных или отставных по гауптвахтам, а статских по съезжим домам. В числе временных жильцов съезжей был известный всему Петербургу богатый граф С.П. Потемкин, внучатный племянник светлейшего Потемкина-Таврического [209]. Этот театрал перенес весь свой дом на одну из таких съезжих, всю свою роскошную обстановку - и там задавал самые лакомые и веселые обеды.
В своем заточении граф пробыл с неделю, и когда узнику была объявлена свобода, тотчас же покинул белокаменную и переехал навсегда в Петербург. Петербургские старожилы помнят хорошо ещё сановитую фигуру графа. Лет сорок тому назад Потемкина можно было каждый день встретить в первом ряду кресел Александринского театра. Это был оригинал, каких не много, рожденный с наклонностями ко всему изящному и прекрасному. Он был тонкий ценитель драматического искусства, стихов, музыки и архитектуры. Он любил драму, комедию, балет и оперу и везде был полезен справедливостью и основательностью своих приговоров. Тогдашний директор императорских театров Гедеонов [210]высоко ценил его мнения и очень часто обращался к нему за советами. Все артисты знали его, уважали его суждения и часто собирались к нему, встречая самый радушный прием.
Граф начал свою службу в Преображенском полку. В Тильзите он стоял в почетном карауле у Наполеона, который, узнав его фамилию, вступил с ним в разговор вопросом: «Vous etes, n'est ce pas, le neveuex du celebre Prince de la Tauride?» [211]и потом расспрашивал его о службе, родных и проч. Граф Потемкин был петербургским старожилом, он вышел в отставку в 1820 году. С молодых лет он вращался в литературном кругу, перевел стихами известную «Гофолию», которая с успехом давалась долго на сцене, хотя и не была напечатана. Он издал свои стихотворения «И мои мечтания» и написал несколько остроумных театральных пьес. Одна из них, «Последняя песнь Лебедя», была сочинена им в 1853 году, для прощального бенефиса Веры Васильевны Самойловой.
Артистическая изящная натура его делала графа бесспорно замечательным лицом в нашем обществе. Вместе с графом Потемкиным, как кажется, умерло предание о старинном хлебосольстве, которым так прежде славились наши богачи. Граф жил на Невском в небольшом каменном доме напротив Аничкина дворца, на месте которого теперь воздвигнут банковский частный дом.
Граф обладал многими и другими добрыми качествами. Кто знал его, тот никогда не забудет его приятного ума, любезности, привлекательной простоты в обращении, великодушия, готовности услужить, наконец, так сказать младенческой беззлобности, того непоколебимого добродушия, которые немногим счастливцам удается сохранить до старости.
Откупщик того времени пользовался неограниченным правом делать все, что угодно. В великороссийских губерниях, где до этих пор по старине пробавлялись пивом и брагой, тогда явилась одна водка, и с ней вдруг появилось страшное пьянство, а в мире народных поверий возродился образ Ярилы, бога водки, русского Бахуса, и праздник Ярилы, почти забытый, разом появляется в губерниях Тверской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской. В Петров пост, 30 мая, в последний день празднования Яриле, в Воронеже, на площади стояли бочки с вином, валялись пьяные. В это время является на площади епископ воронежский Тихон, начинает кротко поучать любимый им народ, народ его слушает, потом разбивает бочки с вином, и с тех пор праздник Ярилы в Воронеже навсегда прекращается.
Но преосвященному Тихону подвиг этот даром не прошел. Всесильные откупщики донесли, что он смущает народ, учит его не пить водки и тем подрывает казенный интерес. Вследствие этого доноса святитель должен был отправиться на покой.
Уничтожение откупа составляет лучшую страницу из царствования императора Александра II. 1 января 1863 года открыла свои действия новая акцизная система, и дешевая водка, столь для народа необходимая, стала его достоянием. Народ, как гласили тогда газеты, собравшись пред домом одного откупщика, пропел ему анафему; в другом городе, на святках, кто-то ходил по трактирам, замаскировавшись в надгробный памятник откупу. Ходящий памятник представлял большой четырехгранный столб, широкий снизу, узкий кверху; по сторонам его были написаны приличные эпитафии, оплакивающие откуп. Явились и лубочные картинки - похороны откупа и т.д.
Откупщики делались в самое короткое время известными миллионерами. Из числа таких богатейших лиц были Лукин, Шемякин, Кандалинцев, Походяшин, Рюмин, Логинов. Последний устроил однажды народный праздник, на котором излишком оставшейся у него водки перепоил народ допьяна так, что несколько человек замерзло, причем полиция, как тогда уверяли, подобрала до 400 тел.
Логинов данный им народный праздник считал как сделанным им пожертвованием. Откупщики, наживаясь от народа, вместе с тем расстраивали казну. Так, на одном Логинове недочет простирался до двух миллионов рублей.
Последними богатыми откупщиками были Бенардаки, Кокорев, Каншин. По большей части, все такие откупщики обыкновенно забывали разумные осторожные расчеты, задавались большими предприятиями, в конце концов лопались и обращались в таких же бедняков, какими они были до своей первой разживы.
С уничтожением откупов, за откупщиками осталось недоимок свыше 50 миллионов рублей.
В смеси народностей, составляющих население Петербурга в описываемые нами времена, немало встречалось на улицах в нарядах древнеэллинского королевства. В ряду таких личностей, ходивших в фустанелах и красной феске, часто попадался на людных улицах столицы низенький старичок, всеобщий знакомец, известный под именем Зоя Павлыча [203]. Это был выходец из угнетенной Греции, очень зажиточный уроженец Янины, страстный ревнитель древней славы Эллады и истинный покровитель классического образования. Едва ли было какое-либо благотворительное или ученое предприятие, особенно касавшееся его соотечественников, в котором бы он не принимал деятельного участия. Зой Павлыч был собиратель разных редкостей, его кабинет открыт был для всех, его посещали ученые, путешественники, он охотно всем показывал свои богатые собрания редких рукописей, монет и медалей, драгоценных камней и особенно свою «Пелегрину», составлявшую его гордость и отраду. «Пелегрина» была высокой красоты жемчужина, весом около 28 карат и совершенно круглая; от блеска и высокого глянца она казалась прозрачною. Жемчужина была куплена им в Ливорно у капитана одного купеческого корабля. Зой Павлыч хранил её в трёх коробочках, одна в другую вложенных, и с торжеством показывал её любопытным на листе белой бумаги.
Эту жемчужину в конце концов похитил один его же соотечественник-грек, явясь переодетым в мундир адъютанта генерал-губернатора. Похититель был вскоре найден, но жемчужину он успел попортить. Это так поразило Зоя Павлыча, что он вскоре с горя умер. Все редкости и драгоценности по предсмертному его желанию были отправлены в Афины для основания там греческого музея.
В конце сороковых годов в Летнем саду бросалась в глаза гуляющих стройная фигура, видимо, молодого мужчины, постоянно одетого в глубокий траур, с обшитыми по кантам сюртука плерезами, а на рукавах и шляпе с черной повязкой. Но всего примечательнее в наряде этого господина было то, что лицо его всегда было скрыто под черной плотной маской. Много ходило тогда толков в обществе об этом таинственном незнакомце, приезжавшем всегда в карете в сопровождении одного старика-слуги. По рассказам, судьба этого незнакомца была очень трогательная. Несчастие постигло в день его свадьбы на нежно обожаемой им особе.
После свадебного пира, когда гости уже разъехались и он находился в своем кабинете, вдруг ему слышится запах дыма. В ужасе он кидается на половину жены, и тут видит, что весь дом уже объят пламенем. С трудом он пробирается к ней, схватывает её и уносит сквозь пламень, но у выхода силы его оставляют и он вместе с женою падает без чувств. Пока сбежался народ и приехали пожарные, дом уже был весь в огне. Несчастных супругов нашли обгорелыми. Молодая жена его была без признаков жизни, а он лежал с лицом, не имевшим уже подобия человеческого. Три дня он был без чувств и уже делали приготовления к его погребению; желая похоронить его с женой, не засыпали могилы последней. Но доктора возвратили его к страдальческой жизни. И вот с тех пор лица его, кроме слуги, никто уже не видел.
В числе лиц, обрекших себя на уличное шутовство и гаерство, был известен отставной чиновник, крайне невзрачной наружности, с золотушными шрамами на лице, ходивший по рынкам и улицам всегда со свитой собак-ублюдков, одетых в костюмы. Одна была в зелёном фраке, жёлтых штанах и красном жилете, другая в обтянутом пестром кафтане и синих штанах, третья в каком-то бурнусе с колпачком, в шапочке с разноцветными перьями, четвертая - в фижмах, роброне и парике с тупеем, пятая - в дамском капоте и шляпке, какие носили в сороковых годах.
Все эти костюмированные собаки носили имена современных франтов и франтих, известных в тогдашнем обществе. Появление этого полупомешанного чиновника со своей свитой возбуждало всеобщий хохот. Толпа мальчишек бегала за ним; кто угощал собак сахаром, кто давал пряник, сухарь и т.д.
Большою популярностью в описываемые года на улицах и рынках пользовался ещё бродячий фокусник Апфельбаум, упоминаемый Гоголем в одной из его повестей. Апфельбаум видом был очень приличен, ходил он во фраке, с большим жабо. В руках у него всегда была палочка из слоновой кости, которая и помогала при его манипуляциях.
Он ловко вынимал у извозчиков из носа картофель, ломал у пирожника пироги, в которых находил червонцы, сковывал висячим замком рот какого-нибудь ротозея, выпускал из рукава голубей, морских свинок и т.д. Апфельбаум все это проделывал даром, видимо, только ради одной рекламы.

Ваттемар Александр (1790-1864)
Ходил и другой такой же ловкий фокусник, высокий старик-итальянец с серьгой в ухе. Это был пленный итальянский офицер, пришедший в Россию с Наполеоном в двенадцатом году. Последний, помимо фокуснических штук, чинил зонтики, делал курительную смолку и продавал замечательный по целебным свойствам пластырь от мозолей. За рецепт этого пластыря известный придворный доктор Арендт предлагал ему более пятисот рублей, но итальянец не хотел открыть его и за большую цену. Много чудесного тогда в народе рассказывали и про одного наезжавшего в Петербург иностранца, француза-чревовещателя Александра Ваттемара [204]. Про него говорили, что он раз довел будочника, стоявшего на часах у будки, до того, что тот стал ломать будку алебардой, полагая, что в углу постройки скрывается нечистый.
В другой раз он довел бабу, несшую в охапке дрова, до полного отчаяния, разговаривая с нею из каждого полена.
Этот чревовещатель обладал редкостной коллекцией рисунков и автографов различных знаменитостей. В числе многих раритетов, в ней находились рисунки русских императоров. В коллекции автографов было тоже значительное число русских знаменитостей, между которыми особенно интересны две строчки на французском языке в его альбоме, выражающие удивление великого поэта к редкому подражательному таланту знаменитого чревовещателя:
с подписью А. Пушкина и датой: St.-Pet. 16 juni 1834.
«Votre nom est legion,
Car vous etes plusieurs» [205]
В те годы на улицах Петербурга можно было встретить и другого иностранца в старом мундире итальянского моряка, невысокого роста старичка с развевающимися седыми волосами, с доброю улыбкою на устах. Под мышкою у него вечно находился портфель с разноцветною бумагой и акварельными красками. Бедняга снискивал себе пропитание, за мелкую монету очень художественно вырезая модные в те годы силуэты со всякого, а также делая виньетки на бумаге для поздравительных писем и поминальных книжек. Рассказывали, что этот бедняк - обнищавший эмигрант, граф или виконт. В числе таких же уличных лиц и знаменитостей мостовой был известен всем петербуржцам стоявший на тротуаре Невского проспекта под навесом кожаного фартука с походною лавочкою трубок, ножей, ножниц, зубочисток и зонтиков горбун Даниэль Тиайнен. Сколько необычных лиц Невского сменилось перед ним. Сколько богачей, известностей, героев прошло мимо него! Сложа руки, смотрел он из-под длинного козырька на проходящих по проспекту или читал газету. Говорят, что этот горбун был не прочь от ручного залога.
Петербургским старожилам был известен и другой такой уличный торговец, который тоже видел не одно сменившееся поколение. Это был старик с седыми бакенбардами, под именем Яши известный таким лицам, как Карамзину, Сперанскому, Крылову, Пушкину и Грибоедову.
Более полувека сидел он на скамейке по Зеркальной линии в Гостином дворе против Публичной библиотеки и торговал мягкими, как бархат, мелками для карт и светильнями для лампад. Он помнил, когда игра в карты была допущена в маскарадах, а в Большом театре была «горница для карт». Карты в то время выписывались из-за границы и стоили два рубля дюжина.
Впоследствии карты были отданы на откуп, а цена на них возвысилась из-за сбора за их клеймение, установленное в пользу Воспитательного дома. В первое время Александровская мануфактура делала по 14000 колод ежедневно, но, несмотря на это, не могла удовлетворить требованиям тогдашнего общества, и карты распродавались каждый раз без всякого остатка.
Этот же продавец карточных мелков был известен вместе со своим отцом как хороший дрессировщик собак. Когда в начале 50-х годов в театре-цирке была возобновлена драма «Обриева собака», белый одноглазый пудель Яши очень эффектно разыгрывал свою роль. Собака в этой драме отыскивает могилу своего барина, разрывает её и бежит к знакомой барину старушке - известить её о случившемся несчастии. Старушка, ничего не понимая, выходит с фонарем и ставит его на пол; собака лает и тащит её за платье за собой. Наконец собака хватает поставленный на пол фонарь и бежит за сцену, старушка следует за собакой. Но самая эффектная сцена была в последнем акте, когда собака узнает убийцу и бросается на него. За каждое представление собака получала поспектакльную плату. Вся же суть была в колбасе, которой дразнили голодную собаку.
В начале же 50-х годов уличною знаменитостью был и мужичок-волшебник, родом москвич, обыкновенно дававший представления на каком-нибудь многолюдном дворе под открытым небом. Это был укротитель змей, совсем в роде индийского факира. Представление начиналось тем, что укротитель притворялся пьяным, вынимал из-за пазухи довольно большой клубок и бросал его на землю. По его слову, клубок развертывался в две змеи, длиною по аршину. Укротитель шел к ним и приказывал им ползти за собою. Змеи извивались по земле, поднимали головы, высовывали языки и сверкали глазами. Затем он брал одну из змей головою в рот, а остальную часть её тела обвивает вокруг своей шеи, потом проделывал то же самое с другой из них. Восклицаниям и аханью не было конца, а медные деньги так и сыпались в карман кудесника.
В числе столичных фланеров, все поступки и жизнь которых в высшей степени были странны, в 50-х годах замечалась одна бедная женщина, г-жа Рединг. Она зимой и летом ходила босиком и в чепце, спереди которого был пристегнут шифр в виде эмблемы - веры, надежды и любви. О ней знали только то, что она была когда-то богата и хороша собою, а в крайнюю бедность впала вследствие какого-то тяжелого несчастия.
В числе лиц, отвергавших совсем головной убор и обувь, в описываемое время на улицах Петербурга, как нам сообщал один из старожилов, были известны: князь Те[ниш]ев [206]и действительный статский советник Троицкий.
В николаевское время на улицах столицы встречалось много азиатских народностей, поражавших петербуржцев своими костюмами. Среди них выделялись хан Нахичеванский, хан Карабахский и шамхал Тарковский. Особенно пользовался популярностью второй хан, очень красивый, высокого роста мужчина в своем колоритном национальном наряде с неизбежной бараньей шапкой и с большой, окруженной крупными бриллиантами, золотой медалью на шее.
Этот хан был большой охотник до карт, и его крупная пожизненная пенсия почти целиком расходилась по карманам шулеров. Что же касается до шамхала Тарковского, то он был генерал-лейтенантом российской службы, видом был очень толст и неуклюж и возраста весьма почтенного. Он был типичным образцом полудикого кавказского властелина. Его всегда сопровождала многочисленная толпа слуг, с которыми он распоряжался по-свойски, отрезая уши и носы за небольшие проступки. Благодаря таким расправам, в сильные июльские жары он умер в плотно закрытой карете, в которой лежал в подушках. Не любившие его служители устроили ему такую кончину от апоплексии по дороге во время его следования в Дагестан.
В сороковых годах на петербургских улицах ещё встречалось несколько военных времен Екатерины II в своих характерных кафтанах, с тростями в руках. Попадался один ветеран в елисаветинском мундире светло-зелёного цвета с красными отворотами и золотым галуном, в треугольной шляпе с коротким белым султаном: это был столетний старик майор Щегловский [207].
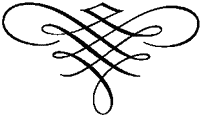
ГЛАВА XXV
Феноменальные силачи Д-в и К-ин. Балетоман Ч-ев. Граф С.П. Потемкин. Театрал С.М. Каменский. Оригинал В[илин]ский. Путешественник К-о. Идилик-учитель.
Между знаменитыми русскими силачами был известен небогатый помещик П.Л. Д-в. Это был восьмидесятилетний старик высокого роста, белый, как лунь, и необыкновенно крепкого сложения. Ходил он всегда, зимою и летом, в одном синем, довольно длинном сюртуке с палкою в руках, на которую иногда садился верхом и скакал, а иногда махал ею в воздухе как саблей. Он был крепок и здоров, как самый крепкий юноша, и никто не помнит, чтобы он когда-нибудь болел. Он не чувствовал слабости и усталости в ногах, у него ещё скрипели кулаки, когда он их сжимал. Не было силача, который мог бы с ним сладить. Он сам говорил, что сила у него непомерная, и при этом показывал огромность своих крепких кулаков и наслаждался их скрипением. Он только надевал рукавицы и подвязывал платком уши. Однако ж не любил этих рукавиц и платка, и если надевал их при ком-нибудь, то всегда с горечью замечал: «Вот уж и я, батюшка, старею, рукавицы надо надевать».
В молодости он служил в армии Потемкина и Суворова в гусарах и был во многих походах и сражениях. Из его рассказов памятен один о страшном турке, тоже силаче. Это было на Кинбурнской косе; при этом он вспоминал слова солдатской песни: «Наша Кинбурнска коса наделала чудеса!» Вот что рассказывал богатырь.
Во время одной схватки в плен был взят необыкновенной силы турок, который содержался потом при нашей армии, хвастался своей силой и вызывал русских на единоборство. Многие отваживались с ним биться, но никто не мог его одолеть. Иных он даже изувечил, и некоторое время единоборство с ним было запрещено. Вдруг о турке узнает командир того полка, где служил богатырь Д-в. Послали за ним. Он находился в нескольких верстах от главной квартиры, где содержался турок. Д-в чрезвычайно обрадовался случаю показать свою силу и немедленно отправился в путь с тем провожатым, которого за ним послали. На дороге им случилось брести водою целых восемь верст. По приходе Д-ва ввели в подземный зал, весь увешанный коврами с турецкими диванами по стенам. На полу были тоже ковры. Собрались зрители, состоявшие из главных начальников войск, и был приведен турок. Д-в признавался, что турок ему показался очень страшным. Он был необыкновенно огромен и широк. Но Д-в, никем ещё не побежденный, надеялся на себя крепко и стал читать суворовскую молитву, которую он читал во всех случаях жизни и которой, как он говорил, научил их сам батюшка-Суворов. Бойцам велели раздеться донага и потом подали им два богатые турецкие платка, которые они тут же повязали себе на шею. Потом, взяв друг друга левой рукой за платок под горлом, стали ходить. Д-в был предуведомлен, что турок бьется обыкновенно головой в грудь и потому заметив, что платок у него повязан на шее свободно (чтобы при ударе головой было свободнее рвануться вперед), остановился и потребовал, чтобы платок у турка перевязали несколько туже. Платок перевязали и они, схватившись снова, начали ходить. Турок много раз покушался ударить Д-ва головою в грудь, но никак не мог сломить его руку. Бой продолжался долго, самым ожесточенным образом. Наконец турок был побежден.
Вскоре после этого подвига, при первой схватке с неприятелем Д-в был произведен в корнеты и потом вышел в отставку.
Он жил то у одного, то у другого знакомого, а летом и просто где-нибудь в поле или в лесу. Он обладал ещё одной странной способностью - умел укрощать всякую злую и неизвестную ему собаку, и не было примера, чтобы собаки его кусали. Когда его спрашивали, как он это делает, он обыкновенно отвечал: «Я, батюшка, суворовскую молитву читаю!»
К таким же феноменальным силачам принадлежал Ал. Ст. К-ин, орловский дворянин; росту он был два аршина и 13 вершков, толщины необъятной. Он служил при Екатерине II в кавалергардах, а затем в Гатчине у Павла Петровича. Сила у него была колоссальная: он крестился пятипудовыми гирями, поднимал одной рукою двенадцать пудов, играл в мячики пятипудовыми гирями, разрывал канат в два дюйма толщины, сгибал и разгибал широкую железную полосу, поднимал более 20 пудов.
При вступлении императора Павла I на престол, государь, лично знавший и любивший К-ина, спросил, куда он хочет быть назначен. К-ин отвечал, что он по тяжести своей в кавалерии служить не способен, потому что никакая лошадь его не выдержит, а в пехоте потому, что не может ходить в строю, поэтому он просил у царя службы гражданской на родине. Император приказал его произвести в коллежские асессоры с назначением в Орел городничим. Предание гласит, что он имел право писать государю лично, и даже получал ответы.
К-ин, служа городничим, на всех наводил такой страх, что им пугали матери детей, а продавцы на базаре бегали от возов, только бы не попадаться богатырю-городничему, в гневе бывавшем неумолимым, зная, что его проделки всегда сходили ему с рук. Сила этого городничего была чисто сказочная. В досаде он поднимал купцов за бороды выше своей головы и перебрасывал через забор; лошадь убивал кулаком с одного раза. Одного мещанина, в чём-то провинившегося, городничий не хотел ударить рукою, а толкнул пальцем в бок и переломил ему ребро. Однажды он остановил за рога бешеного быка и держал его до тех пор, пока подоспевшие люди не спутали его ног.
В двадцатых годах в Петербурге в числе проказников был некто Ч-ев. Он был предводителем тогдашних балетоманов, делал репетиции аплодисментов и вызовов и отряжал в раек наемных хлопальщиков, где по установленному знаку они должны были дружно вызывать артистов. По поводу таких вызовов нередко происходили и ошибки. Раз в каком-то спектакле пред появлением известной балерины на сцене показалась незначительная танцовщица. В эту самую минуту Ч-ев по рассеянности выдернул из кармана платок, хлопальщики приняли это за сигнал и произвели такой оглушительный прием, что бедная танцовщица смущена была до крайности и в недоумении скрылась за кулисы.
У Ч-ева были проказы ещё забавнее. Театральные кареты, возившие воспитанниц для кордебалета из школы в театр, находились тогда в самом жалком виде, они тянулись всегда на тощих, сутками не кормленных клячах одна за другою. Этот проказник пред разъездом из театра имел обыкновение раздавать на водку кучерам, возившим эти кареты, чтобы они слушали на пути его команду, и забавлялся тем, что проезжая на резвой своей паре в дрожках мимо целой вереницы карет, кричал: «Стой, равняйся!» и по команде его все кареты и фургоны оставались неподвижными.
Не раз он появлялся и на сцене в одежде какого-нибудь пейзана в дивертисментах, переодетый так, что сразу его было очень трудно узнать. Мистификатора узнавали только по дружному хохоту его товарищей, и потом начальство долго разыскивало, как он мог туда проникнуть.
В описываемые нами годы в лучшем петербургском обществе было много людей, которые в закулисных делах актрис принимали самое горячее участие. Известно несколько случаев, когда публика нелюбимых актрис встречала в неподходящих для них ролях самым дружным шиканьем и не давала им сказать ни одного слова, приводя полицию и театральное начальство в недоумение. За такие проделки театралы часто платились арестами и даже высылкой из столицы, как это было с известным Катениным [208], высланным графом Милорадовичем в его костромское имение.
В Москве раз театральный скандал дошел до того, что вышло приказание из Петербурга арестовать таких зачинщиков и рассадить - военных или отставных по гауптвахтам, а статских по съезжим домам. В числе временных жильцов съезжей был известный всему Петербургу богатый граф С.П. Потемкин, внучатный племянник светлейшего Потемкина-Таврического [209]. Этот театрал перенес весь свой дом на одну из таких съезжих, всю свою роскошную обстановку - и там задавал самые лакомые и веселые обеды.
В своем заточении граф пробыл с неделю, и когда узнику была объявлена свобода, тотчас же покинул белокаменную и переехал навсегда в Петербург. Петербургские старожилы помнят хорошо ещё сановитую фигуру графа. Лет сорок тому назад Потемкина можно было каждый день встретить в первом ряду кресел Александринского театра. Это был оригинал, каких не много, рожденный с наклонностями ко всему изящному и прекрасному. Он был тонкий ценитель драматического искусства, стихов, музыки и архитектуры. Он любил драму, комедию, балет и оперу и везде был полезен справедливостью и основательностью своих приговоров. Тогдашний директор императорских театров Гедеонов [210]высоко ценил его мнения и очень часто обращался к нему за советами. Все артисты знали его, уважали его суждения и часто собирались к нему, встречая самый радушный прием.
Граф начал свою службу в Преображенском полку. В Тильзите он стоял в почетном карауле у Наполеона, который, узнав его фамилию, вступил с ним в разговор вопросом: «Vous etes, n'est ce pas, le neveuex du celebre Prince de la Tauride?» [211]и потом расспрашивал его о службе, родных и проч. Граф Потемкин был петербургским старожилом, он вышел в отставку в 1820 году. С молодых лет он вращался в литературном кругу, перевел стихами известную «Гофолию», которая с успехом давалась долго на сцене, хотя и не была напечатана. Он издал свои стихотворения «И мои мечтания» и написал несколько остроумных театральных пьес. Одна из них, «Последняя песнь Лебедя», была сочинена им в 1853 году, для прощального бенефиса Веры Васильевны Самойловой.
Артистическая изящная натура его делала графа бесспорно замечательным лицом в нашем обществе. Вместе с графом Потемкиным, как кажется, умерло предание о старинном хлебосольстве, которым так прежде славились наши богачи. Граф жил на Невском в небольшом каменном доме напротив Аничкина дворца, на месте которого теперь воздвигнут банковский частный дом.
Граф обладал многими и другими добрыми качествами. Кто знал его, тот никогда не забудет его приятного ума, любезности, привлекательной простоты в обращении, великодушия, готовности услужить, наконец, так сказать младенческой беззлобности, того непоколебимого добродушия, которые немногим счастливцам удается сохранить до старости.
