Страница:
Лисенков Иван Тимофеевич (1795-1881)
Ли[сенк]ов был одним из первых книгопродавцев, который прибегал к рекламам о своих изданиях: по его словам, Гомер и юноше, и мужу, и старцу дает столько, сколько кто может взять, а Александр Македонский всегда засыпал с «Илиадой», кладя её под изголовье.
Он издавал маленькие детские книги на отлично сатинированной веленевой бумаге форматом в визитную карточку, «полезные и приятные для взрослых; домовитая хозяйка найдет в них полезные советы, отец семейства развлечение и нравственные правила для своих детей» и т.д.
Особенно любил заходить к Ли[сенк]ову Пушкин. По рассказам первого, тот часто бывал у него, когда издавал свой «Современник»: ему нужно было знать о новых книгах для помещения беглого разбора о них в журнале. Иногда ему приходила охота острить в магазине над новыми сочинениями. Взявши книгу прозы, он быстро пробегал её, читая вслух одно лишь предисловие, и по окончании приговаривал, что он имеет о ней полное понятие. Стихотворные книги он просматривал ещё быстрее и забавнее, так что Ли[сенк]ов невольно хохотал, когда Пушкин, улыбаясь, читал только одни кончики рифм и, закрывая книгу, произносил: «а, бедные!»
Так как литераторы не все были достаточны, то Ли[сенк]ов одалживал им без процентов на короткое время, хотя время это тянулось иногда до конца их жизни. Так, по смерти Пушкина Ли[сенк]ов получил по акту 5 тысяч рублей от попечителя семейства его, графа Строганова, а многие счета Ли[сенк]ова остались недоплачены и поныне.
В последний раз Пушкин был у Ли[сенк]ова за три дня до своей смерти, когда в магазине оставался более чем два часа, ведя довольно жаркий разговор с известным Б.М. Фёдоровым [188]. Это было последнее мимолетное их знакомство и окончилось через три дня навеки. Первый известил Ли[сенк]ова о смерти Пушкина Б.М. Федоров. При том же Ли[сенк]ове Л.В. Дубельт с другими лицами переложили тело покойного поэта со стола в гроб, и при нем же живописец стал писать с покойника портрет.
Ли[сенк]ов написал свои воспоминания, которые хранятся ненапечатанными у его сына [189]. Одинокий, весьма достаточный Ли[сенк]ов торговал по привычке и для препровождения времени до восьмидесяти лет своей жизни. Он не был скупым человеком, и много жертвовал на благотворения, не обидел он и Литературный фонд своими пожертвованиями. Ли[сенк]ов умер лет двадцать назад.
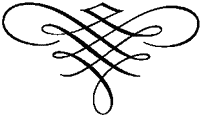
ГЛАВА XXII
Капельмейстер О.А. Козловский. Тайные кружки шутников: Общество любителей прогулки, Общество признательности, «Зелёной лампы» и т.д. Квакеры. Проказы Вакселя. Герой краснословия полковник Тобьев. Кулачный боец «Турка». Казак Зеленухин.
Большой уличной популярностью пользовался в первой четверти текущего столетия ходивший по рынкам и где только собирался народ старик невысокого роста, с худощавым, изрытым оспою лицом и белокурыми с проседью волосами. Это был известный капельмейстер О.А. Козловский [190], автор знаменитого полонеза с хорами, сочиненного на торжество, данное князем Потемкиным в честь императрицы Екатерины II в Таврическом дворце: «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс» и пр.
Слова эти сочинял Державин, и если прочитать их далее, то в них найдутся пророческие места, как например: «Воды грозного Дуная уж в руках теперь у нас», поскольку «воды грозного Дуная» попали в наши руки уже только при императоре Николае Павловиче. Другой его полонез на слова того же Державина, написанный на коронование Александра I - «Росскими летит странами на златых крылах молва», - не менее первого имел успех в петербургском обществе.
Известный полонез Огинского, про который существует легенда, что он сочинен несчастным, умершим от любви к высокой особе, современники предполагали написанным тоже не без участия Козловского, который жил в доме князя и учил музыке Михаила Огинского.
Козловский служил при Екатерине II капельмейстером императорских театров. Он отличался большими странностями: ходил в крестьянском тулупе, любил заходить в харчевни, кабаки, где прислушивался к народным песням. Его нередко встречали на площадях с гуслями под мышкою в обществе полупьяных мужиков и деревенских баб, которых он заставлял петь свои песни прямо у возов и ларей продавцов. Другим любимым его занятием было рассказывать детям сказки - детей он любил до обожания.
Козловский написал много народных мелодий; известнейшие из них, на слова Нелединского-Мелецкого. Популярнейшая лакейская песня «Барыня» сочинена тоже им. В первый раз «Сударыня-барыня» была исполнена в 1827 г. театральным оркестром в одном из маскарадов. Мотив этой песни произвел необыкновенный восторг, долгое время был в большой моде и распевался во всех петербургских обществах. Козловский пользовался дружбою Державина, с которым вместе любил играть на гуслях. Большим приятелем его был Яблочкин, известный исполнитель русских песен и скрипач эрмитажной камерной музыки. Яблочкин был учеником знаменитого скрипача и балалаечника Хандошкина. Козловский умер в 1831 году в глубокой старости, в чине статского советника; происходил он родом из белорусских дворян и в молодости служил органистом в костеле св. Иоанна в Варшаве.
В двадцатых годах в столице было немало тайных кружков и обществ, имевших шутливый характер. К таким кружкам принадлежало Общество театралов, членами которого была военная молодежь. Общество это было прекрасно организовано, никаких отношений оно ни к драматическому, ни к хореографическому искусству не имело. Цель его была одна - ежедневно посещать театры и садиться на места, не платя за них денег. Иной такой член во все время спектакля только и делал, что перемещался с места на место. И когда уже свободных мест не хватало, то выходил из театра.
На это общество было обращено серьезное внимание Третьего отделения и члены его все переписаны. Затем было ещё «С.-Петербургское вольное общество любителей прогулки». Предводителем гуляющих в нем числился известный в то время доктор Иван Ястребцов, церемониймейстером прогулок граф Соллогуб, советником общества П. Безобразов [191], цензором благочиния Василий Соц, а непременным секретарем Осипов. Члены общества имели очень красивые дипломы с аллегорическими изображениями времен года во всех углах красивой голубой рамки. Лорнет, висящий на черной ленте, служил знаком отличия почетного пешехода и считался знаком отличия от других пешеходов или собственно прохожих; его давали носить, наблюдая, впрочем, некоторые разделения. Так по статуту в буднично-рабочие дни прогулки лорнет мог быть и в движении, и в покое, по собственному усмотрению владельца; но в празднично-гулевые дни лорнет должен по установленным законам движения гулевой головы непрестанно мотаться перед глазами, и не прежде, как при возвращении домой, дозволялось спустить его на черной ленте рыцарского ордена, протянутой через плечо по камзолу, в карман, или оставить в виде триумфа на камзоле «в фигурном положении».
Надо предполагать, что «Общество любителей прогулки» возникло или на чисто гигиенической почве, или чтобы осмеять существовавшие тогда правила езды в экипажах. Вспомним, что в те годы пешеходной прогулке придавали мещанское значение. Все, что имело чин и дворянство, должно было ездить в каретах по установленным ещё императрицею Екатериною отличиям - по рангам.
В описываемые годы ещё существовало другое «Общество друзей признательности», президентом которого числился известный впоследствии финансовый деятель А.М. Княжевич. Это общество носило тоже частный характер и было организовано в остроумно-шутливом тоне. Оно устраивало своим сочленам заседания с приличною трапезою, музыкой и пением.
Существовали также в те годы ещё и другие веселые общества, как, например, «Галеры» и «Зелёной лампы». Заседания последних двух, как надо думать, были чисто в анакреоновом вкусе, с веселыми женщинами и бурными возлияниями. Председателем «Галеры» был известный богач Всеволожский; в его доме, напротив Морского собора, и собирались веселые сочлены.
В александровское время в Петербург приезжали квакеры. Своим оригинальным костюмом, своими обрядами, несниманием шляпы перед людьми и другими нравственными особенностями они обращали на себя внимание, имея вид больших чудаков. Квакеры в столице знакомились со всеми различными сферами русского общества. Они появлялись в школах, тюрьмах, в аристократических домах. Бывали у важных духовных лиц. Известны, например, их беседы с митрополитом Михаилом и епископом Филаретом, впоследствии московским митрополитом. В Петербурге квакеры жили по несколько месяцев. Все власти принимали их с почетом, а квакеры старательно отыскивали секты, в которых находили сходство со своими верованиями. Из русских сектантов особенно молокане почувствовали к ним большое расположение, потому что в их религиозных понятиях квакеры нашли много общего со своими собственными.
Своими странностями на улицах столицы бросался в глаза Томас Шилитэ. Это был один из первых проповедников трезвости - маленький человек лет семидесяти, с живыми движениями, довольно оригинальной головой и лицом: выдающийся лоб, глубоко лежавшие глаза с густыми бровями, крючковатый нос и сильно выдававшаяся нижняя челюсть показывали его решительность.
Нервность его темперамента доходила почти до помешательства. Он слышал голоса, говорившие его внутреннему чувству. Увидеть мышь стоило ему болезни. Он часто пугался из страха, чтобы чего-нибудь не испугаться. Рассказывали, что в течение нескольких недель он воображая себя чайником и очень боялся, чтобы люди, подходившие к нему близко, его не разбили. Он думал, что ему надо бежать бегом через мост, чтобы мост не сломался под его тяжестью. Один поразительный случай убийства так подействовал на его воображение, что он несколько недель скрывался, чтобы его не приняли за убийцу. Но в других случаях этот человек был неустрашимым, как герой; он не пил вина и питался одной растительной пищей. Концом его бесед в обществе было молчание в ожидании осенения Св. Духа, а после молитва.
В царствование императора Александра I в кругу военной молодежи славился своими остротами и уличными проказами Ваксель, офицер, служивший в конной артиллерии. Ваксель был лично известен императору. Он знал хорошо военную службу, лихо ездил верхом, за что ему и спускалось много проказ. Не проходило дня, чтобы Ваксель не выкинул какой-нибудь штуки на улицах столицы.
Рассказывали, что однажды император, прогуливаясь верхом по городу, увидел большую толпу, стоявшую на Казанском мосту и на набережной канала. Народ с любопытством смотрел на воду и чего-то ждал. «Что там такое?» - опросил государь у одного из зевак. «Говорят, ваше величество, что под мост зашла кит-рыба», - отвечал легковерный зритель. «Верно, здесь Ваксель!» - сказал государь громко. «Здесь, ваше величество!» - воскликнул тот из толпы. «Это твоя штука?» - «Моя, ваше величество». - «Ступай же домой и не дурачься!» - промолвил государь, улыбаясь.
Рассказывают, что ещё в царствование императора Павла Петровича Ваксель побился об заклад, что на вахтпараде дернет за косу государя. Ему не хотели верить, но побились с ним ради шутки. В первый же вахт-парад Ваксель вышел из строя, быстро подбежал к императору и легонько дернул его за косу. Император обернулся. Ваксель снял шляпу и, поклонившись, как требовала тогда форма, сказал тихо: «Коса лежала криво, и я дерзнул поправить, чтобы молодые офицеры не заметили». - «Спасибо, братец!» - сказал государь. И Ваксель с торжеством возвратился на свое место.
В тогдашнем высшем обществе сильно недолюбливали Наполеона. В это время французским чрезвычайным послом прибыл в Петербург бывший адъютант императора, любимец и доверенное его лицо, генерал Савари. Выбор этот был довольно неудачен. Савари был известен Александру Благословенному с Аустерлица: он приезжал к императору от Наполеона с предложением перемирия после битвы. Кроме того, Савари был известен как один из судей и главный виновник смерти принца Энгиенского, члена одной из древнейших европейских династий.
В кругу русской аристократии была сильная агитация против Савари, и его в высшем обществе принимали чрезвычайно холодно. Ваксель поклялся насолить Савари. Он нанял карету четверней у знаменитого тогда извозчика Шарова нарочно с тем, чтоб столкнуться с каретой генерала Савари. Ваксель выехал, когда Савари возвращался из дворца, и, пустив лошадей во всю рысь, сцепился с каретой французского посла на Полицейском мосту. Одну карету надо было осадить. Посланник, высунувшись в окно, кричал Вакселю: «Faites reculer votr voiture!» - «C'est votr tour de reculer! En avant!» [192]- отвечал Ваксель, и генерал Савари, чтобы избегнуть несчастья, принужден был выйти из кареты и велел её осадить.
Ваксели были бедные смоленские дворяне. Родственник этого Вакселя был также замечательный человек: он при сметливом уме искусным межеванием составил себе несметное богатство. Этот ловкий землемежеватель прослыл в обществе под именем «Вольтера», при этом сам, шутя, говаривал: «Вот, добился же я чего-нибудь в свете! Меня все называют Вольтером, хотя я от роду не был грешен ни в одном стишке». По наивности он не догадывался, что его называют Вольтером по каламбурному значению vol-terre [193].
Не менее этого Вакселя в сороковых годах в Петербурге был известен Ваксель-охотник [194]. Человек с превосходным образованием и начитанностью, он от природы был одарен острым умом, был знаток в живописи и отлично рисовал, хотя и левой рукой. В особенности он был замечательный карикатурист и, что ещё замечательнее, заглазно: по памяти его портреты-карикатуры выходили всегда удачнее, имели более сходства. Нарисует он какого-нибудь толстяка худым, чуть не скелетом, а худого - толстяком, и оба как вылитые. Меткие карикатуры Вакселя памятны и теперь, вероятно, многим старожилам.
У известного орловского помещика Н.В. Киреевского находился целый альбом карикатур, и очень будет жаль, если он утратился, как вещь, не имеющая никакой ценности в глазах наследников.
В описываемые годы были лгуны, которых теперь совестно называть лгунами. Речь их была увлекательна и не без сказочной поэзии. Пред ними раскрывались настежь двери аристократических салонов, около них теснился кружок внимательных слушателей. Эти лгуны у стариков носили название «Гамбургской газеты».
Обеды в старину у ресторатора Фельета, на Большой Морской, отличались большим многолюдством и оживлением; в числе постоянных посетителей было несколько лиц, отличавшихся своим краснословием, никому не обидным, а только каждому забавным. В ряду таких болтунов пользовался всеобщею известностью полковник Тобьев, старый служака времен очаковских. Его рассказы поражали необъятною хвастливостью - это был русский барон Мюнхгаузен.
Однажды за общим обедом речь зашла о Потемкине. «Вы знаете, я служил при нем адъютантом, - сказал Тобьев, - и скажу, не хвастаясь, я пользовался любовью князя более, чем кто-либо из его приближенных. Раз, в веселый час, князь просит меня ехать курьером в Тобольск; дело было очень серьезное и другим светлейший не мог его доверить. Князь лично дал мне наставление, и я думал уже откланяться его светлости, как Потемкин остановил меня вопросом: «Что, Тобьев, бывал ли ты когда-нибудь в Сибири?» Я отвечал, что не был. «Ну, рекомендую тебе, - промолвил Потемкин. - Сибирь - страна редкостей. Смотри же, исполни главное, что я тебе приказывал, и затем привези для меня из страны редкостей какую-нибудь диковинку, а теперь - прощай!»
Привезти для великолепного князя Тавриды, дивившего всех и уже не удивлявшегося ничему, согласитесь сами, вещь, право, не шуточная; однако ж я не терял надежды. По особому счастью, которое так частенько гонялось за мною, мне удалось окончить дело так успешно и скоро, как иному бы и во сне не приснилось. Я летел из Петербурга, как голубь, загнал за дорогу более ста лошадей, шесть троек положил на месте, - ну, словом, летел так, как никому не удавалось прежде и, конечно, никогда уже не удастся после меня. Вообразите: три тысячи верст я прокатил в шестеро суток. «Ну, Тобьев, молодец ты, удивил меня», - встретил меня этими словами Потемкин. Явился я к светлейшему весь в пыли, донес ему о деле; князь остался очень доволен. «Ну, недаром просил тебя привезти мне диковинку из Сибири, - диковинка теперь - ты сам!» - «Простите, ваша светлость, я не забыл и про диковинку для особы вашей». - «Не забыл?» - сказал князь с рассеянным видом и, подойдя к окну, стал барабанить по стеклу в задумчивости. «А, ты здесь ещё?» - спросил он, спустя несколько минут, оборотясь от окна. «Да». - «А где же твоя диковинка?» - «Со мною, ваша светлость». - «Что же я не вижу, или она уже так мала?» - «Извините, князь! Как раз на ваш рост». С этим словом я разжал правую руку и распахнул перед князем чудеснейшую соболью шубу. Разумеется, князь так и ахнул…» - «Как, неужели целая соболья шуба могла поместиться в вашем кулаке?» - сказали изумленные слушатели. «Ну, конечно! - отвечал полковник. - Чем же иначе мог я удивить Потемкина, как не такой диковинностью меха?»
Из таких же невероятных рассказов Тобьева вот и другой.
«Раз после обеда, выходя от Фельета, мне с приятелем захотелось побывать в театре. Дорогою к театру пошел проливной дождь; я отдал приятелю зонтик, а сам отказался. Дождь пошел ещё сильнее; приятель просит меня укрыться под зонтиком, я отказываюсь. Приходим к театру: у приятеля шляпа мокрая и пальто тоже промокло, я же сух, на мне ни одной капли дождя. Представьте, я так ловко и искусно умел во всю дорогу отпарировать палкою каждую каплю, что решительно ни одна не упала на мое платье и шляпу. Тут только разгадал мой приятель, что значит свист, который всю дорогу гудел в его ушах. Вы догадываетесь, конечно, что он происходил от непомерной быстроты моей палки». Эти два рассказа, кажется, приписывали многим из наших вралей [195].
Лет пятьдесят тому назад по линиям Гостиного и Апраксина дворов бродил старик в красном замаранном кафтане охотника-доезжего. Этот обломок былой помещичьей жизни, несмотря на свои преклонные годы, владел феноменальной силой: он кулаком разбивал небольшое полено в мочалку, гнул и ломал подковы, свертывал в клубок кочергу и делал другие неимоверные по силе штуки. Старик происхождением был пленный турок и долго жил доезжим в охоте известного самодура князя Грузинского.
Но главное художество этого «турка», как его звали, что он не позволял себя «с чистоты снять», т.е. победить на кулачках.
В те годы кулачные бои у нас ещё процветали, старики-помещики и купцы любили эту жестокую охоту и нередко, собравшись где-нибудь за городом повеселиться, сводили своих бойцов для потехи и держали за них большие пари и заклады. Кулачный бой с незапамятных времен на Руси был любимой потехой. Охотники выходили против охотников, били друг друга кулаками в голову, в грудь, в живот. Бились до последнего истощения сил, нередко увечили один другого, иногда даже платили жизнью за потеху. Кто падал, того уже не били в силу закона кулачных бойцов - «лежачего не бьют». Кулачные бои происходили в известные дни. Обыкновенно время боев начиналось с зимнего Николы, т.е. с 6 декабря, и продолжалось до соборного воскресенья. Самый большой разгул был на масленицу. Летом бои не бывали.
В Петербурге кулачные бои, по свидетельству иностранцев, ещё в Петровское время происходили на Адмиралтейской площади. Лет сорок назад страшный кулачный бой был на берегах Невы зимой, на Малой Охте: здесь дрались охтяне с крючниками Калашниковской пристани. Старожилы Петербурга, я думаю, ещё хорошо помнят эту потеху. На вызов к бою или на «затравку», как тогда говорили, высылали детей; те задевали детей противников. Любопытные собирались смотреть. После охотники являлись на защиту детей; тут-то и разыгрывалась молодецкая кровь. Избитые дети мало-помалу уходили, а между взрослыми начиналась свалка. В других городах на кулачные бои выходило селение против селения, одна часть города против другой, охотник против охотника, татары против русских, мещане против посадских и т.д. Прославившихся бойцов возили из города в город и вызывали против них охотников биться. Бойцы городские, привыкшие к ловкости, почти всегда брали верх над деревенскими; из городских славных бойцов были казанские, калужские и тульские.
Таких бойцов богатые купцы привозили зимою в Москву и в Петербург, и они держали бой с татарами, привозившими рыбу и икру. Слабые, но хитрые бойцы иногда закладывали в рукавицы камни, свинчатки, чугунные бабки, чтобы удар был сильнее. Но таких, если ловили, то били уже не на живот, а насмерть.
Видов боев в старину было три: «один на один», «стенка на стенку» и «сцеплялка-свалка». Бойцы один на один считались выше других и никогда не ходили стенка на стенку. Лучшими из них считались в тридцатых годах тульские: Алеша Родимый, Никита Долговяз, братья Походкины, семейство Зубовых, Тереша Кункин - их с почётом развозили купцы по городам, называя «чудо-богатырями». Пить как можно больше вина считалось у них доблестью, а брать деньги в подарок - бесчестьем. Лучшими бойцами стенка на стенку славились казанские суконщики; всегдашними соперниками их были татары. В Херсоне суконщики дрались с евреями-караимами. В Туле известны бои оружейников с посадскими, в Костроме - дебрян с сулянами на Молочной горе. Когда бились стенка на стенку, лучшие бойцы выдерживались в стороне с толпою зрителей, их называли почетным прозвищем «надёжа-боец». Их обязанность была поддержать своих, когда одолевали противники.
Когда неприятели пробивали «стенку», «надёжа-боец» летел на подмогу с шапкою в зубах, бил кулаками на обе стороны и, пробив вражескую «стенку», возвращался при громких похвалах. Угощение в кабаке было неизменною наградою «надёжи-бойца». В «сцеплялке-свалке» противники шли врассыпную и тузились в толпе. Этот род боя употреблялся очень редко.
Замечательной уличной знаменитостью в Петербурге после Отечественной войны был донской казак Зеленухин [196]. Этого донца народ и общество просто носили на руках. Александр Зеленухин был очень типичный казак, 60-ти лет, с седою большою бородою, с Георгиевским крестом и многими медалями на груди. На службе он был более тридцати лет. Слава его начинается с посещения им Лондона, куда он был послан из Гамбурга к нашему посланнику графу Ливену. Англичане, предуведомленные о его приезде, ожидали на пристани в количестве нескольких тысяч человек, и лишь только он появился, как повсюду раздался восторженный крик: «ура, казак!» Эти возгласы сопровождали его во все его пребывание в Лондоне, как только он показывался на улицах. Его наперерыв хватали за руку, лишь бы поздороваться с ним, давали ему разные подарки. От денег казак отказывался, говоря: «Наш батюшка царь наделил нас всем, мы ни в чём не нуждаемся, сами в состоянии помогать бедным. Спасибо за ласку вашу!» Эти слова Зеленухина были приведены в то же время во всех английских газетах, и никто после того не предлагал ему более денег. Зеленухин не принял от принца-регента даже тысячи фунтов стерлингов, тогда стоивших около 24 тысяч рублей на ассигнации.
Такой редкий пример бескорыстия привел в совершенное изумление всю английскую нацию. Принц-регент приказал сделать казаку военную сбрую на казачий образец, стальную пику, два пистолета, ружье, саблю, трость с выдвигающеюся зрительною трубкою, лядунку, перевязь, вышитую серебром и проч. Все же собственное вооружение казака принц взял себе на сохранение, как достопамятность и воспоминание, что был некогда храбрый казак в Лондоне.

Витиченков Александр («Землянухин»)
Зеленухина возили в театр, где он сидел в парадной ложе между первыми сановниками; в антрактах спектакля восторженные овации ему не умолкали. Вся знать желала видеть у себя гостем казака, все пили за него и за здоровье русских воинов - «победителей злодея вселенной». Зеленухина возили в парламент, где лорд-канцлер говорил речь перед ним. «Посмотрите на старика, покрытого сединами, - вещал оратор, - забывая свои утомлённые летами силы он поспешил принести их на поле сражения и привел в трепет и ужас изверга Бонапарта. Не он один, но и многие старее его прилетели защищать свою землю, гробы своих праотцев, сражаться за Бога и царя. Последуйте геройскому примеру великого народа - и злодей исчезнет перед оружием всеобщего ополчения!»
Зеленухина в Лондоне заставили показывать все военные приемы донцов; триста конных гвардейцев были назначены в его распоряжение. На это зрелище съехалось несколько сот тысяч зрителей из всех городов Англии. Его учение привело всех в восторг, народ неистово кричал: «виват донское войско!». Зеленухина просто закидали подарками, женщины снимали с себя платки, шали и другие вещи, прося принять казака на память.
Некоторые из дам просили у него волос из бороды или с головы. По этому случаю было немало комичных сцен. Зеленухин в Петербурге рассказывал, что не имей он законной жены и будь немного моложе, его непременно женили бы. Все дамы досадовали, что он стар и женат и что предложение выйти за него замуж было бесполезно. Ему давали дом и землю в Лондоне и просили поселиться у них на житье, но все предложения Зеленухин отверг. Он отвечал всем, что хочет умереть у себя в хате, где его старуха и где протекает тихий Дон. После заграничной своей поездки Зеленухин вскоре был отпущен в отпуск и умер у себя на Дону.
