Страница:
Таким путем я скова увильнула от уборки костела, однако моя болезнь перестала уже быть сенсацией и привлекать к себе всеобщее внимание. На этот раз никто не принес мне завтрак в постель и матушка-настоятельница не навестила меня. Сестра Модеста относилась ко мне всю неделю сухо, а девчата ворчали, что не будут убирать за меня костел.
В ночь с пятницы на следующую субботу я, сидя на кровати, снова с грустью размышляла о своей судьбе.
Я боялась полного одиночества в мрачном костелике, боялась тяжелых ведер воды, боялась хорошеньких паненок из содалиции. Если бы можно было пойти к сестре Модесте и сказать: "Сестра, у меня ведь в самом деле нет сил для выполнения своих костельных обязанностей!" И если бы добрая сестра Модеста погладила меня по голове и сказала, как сказал Иисус грешнице: "Иди с миром, прощаются тебе грехи твои"!..
И всё же страх перед грязным костельным полом и содалицией одержал верх. С тяжелым сердцем потянулась я за бутылкой. Быстро опрокинула ее и… не почувствовала на ладони привычного холодка: бутылка была пуста.
Перепуганная этим, я быстро соображала, в чем же дело. "Наверно, хорошо не заткнула ее прошлый раз, и весь спирт вытек", – решила я.
Влажной пробкой я натерла веки и заснула с неспокойным сердцем. Утром же выяснилось, что и этой небольшой дозы яда оказалось вполне достаточно для того, чтобы вызвать очередное воспаление: проснувшись, я не могла открыть глаз; веки были плотно склеены гноем.
После обеда сестра Модеста позвала меня к себе в келью.
– Наталья, почему каждую субботу ты больна?
Я молчала.
– Хотелось бы мне знать, – откуда берется эта твоя болезнь глаз?
– Да ведь сестра сама же говорила, что мне ниспослал ее господь бог, – грубо ответила я.
Монахиня побагровела и, достав из ящика стола бутылку, сунула ее мне под нос.
– А это что?
Это была моя бутылочка из-под денатурата. Ошеломленная, я молчала, не зная, как защищаться. Сестра Модеста разложила на столе вынутую из ящика наволочку.
– Гляди!
На наволочке виднелись большие желтые пятна с темными каемками.
– Специально, чтобы вызвать воспаление глаз, ты поливала подушку денатуратом.
– Неправда!
– Наталья!
– Неправда! – крикнула я, преисполненная презрения к моей обвинительнице. – Я вовсе не выливала спирт на подушку, а втирала его прямо в глаза… Я знаю, что сестра обыскала мою койку и вылила остатки денатурата, – зарыдала я, почувствовав неожиданную и острую жалость к себе. – Но сестра всё равно меня не удержит. Я предпочитаю слепнуть, чем убирать этот костел! Да! Предпочитаю полностью ослепнуть! – крикнула я в отчаянии, обращая в сторону монахини свое заплаканное лицо с двумя кровоточащими ранами вместо глаз.
Сестра Модеста с ужасом отшатнулась от меня.
– Ты подлая девчонка, которую опутал дьявол! Иди сейчас же в часовню и проси бога, чтобы простил тебя… Иди, проси, пусть он простит тебя за то, что ты так подло обманывала своих начальниц.
– В часовню я могу пойти, – высокомерно ответила я, стараясь сохранить свое достоинство. – И ничего более.
– Слушай! Завтра ты пойдешь на исповедь и признаешься ксендзу в своем мерзком поступке, расскажешь ему всё, как было. У тебя на душе тяжелый грех, поскольку ты несколько раз покушалась на свое здоровье, на которое имеет право только тот, кто дал тебе его.[87] Об остальном поговорим потом. А матушке-настоятельнице будет доложено о твоих деяниях.
Я сложила молитвенно руки.
– Очень прошу не делать этого. Матушка всегда ходит такая печальная. Она так добра, так благородна! Зачем ее огорчать? Ведь сестра сама знает, как наказать меня…
Вытолкнутая из кельи, я услышала, с каким шумом была захлопнута за мною дверь. Озабоченная, остановилась я посередине спальни. Уж лучше бы сестра Модеста отколотила меня линейкой или четками, но не тревожила и не огорчала такого ангела, как наша матушка-настоятельница! Ужасное положение! Я почитала нашу матушку за благостное выражение ее покорного лица, за сладость, которую оно излучало. И мысль о том, что я стану причиной огорчения матушки-настоятельницы, угнетала меня больше, нежели ругань и угрозы сестры Модесты.
Я пошла в уборную и отворила окошко. В природе – какая-то полнейшая безнадежность. Сколько грусти в одних только голых стволах деревьв, лишенных листьев! Где найти утешение? Началось с небольшого – с нежелания делать уборку в костеле, а кончилось обвинением в самых тяжких грехах. Безбожными были и та ненависть, которую возбуждала во мне сестра Модеста, и искусственно вызванная болезнь глаз, и бунт против необходимости убирать костел. Всё, что жило во мне, что существовало в моем сознании, было по сути своей безбожно.
Видно, суждено мне было до конца дней своих впадать в тяжкие грехи, так как иного выхода я не могла найти. Безбожная для неба, ненавистная для сестры Модесты, мошенница для людей – вот кем была я отныне… И ничто, никакие молитвы в монастырской часовне не помогут теперь изменить это.
Я тяжело вздохнула и закрыла окно. Несмотря на грусть, бравшую за сердце, мне сделалось полегче. Я отдавала теперь себе совершенно ясный отчет в том, кем я стала, а свое положение в приюте видела столь четко очерченным, что ни одна ситуация, как мне казалось, не могла уже представлять для меня какой-либо неожиданности.
В качестве наказания я должна была в течение двух недель чистить картофель для всего монастыря. Работать приходилось в сенях, где было так же морозно, как на улице, и пальцы немели от холода.
Однако от обязанности делать уборку костела я была всё же навсегда избавлена. По поручению сестры Модесты этим делом занимались теперь поочередно самые старшие наши девочки – Гелька и Рузя.
Лучшие – это сестра Модеста, сестра Алоиза, Юзефа из белошвейной мастерской. Конверские сестры – это Романа с кухни, Станислава из хлева, которая одновременно ходила за птицей и свиньями, Зенона и Дорота из прачечной, наделенные также обязанностями собирать пожертвования.
Хоровые сестры – образованные, происходят из благородных семей и, судя по их поведению, более любезны господу богу. Сестры конверские – это простолюдинки, которые едва умеют читать и писать.
Когда я выразила удивление, что в монастыре, обитатели которого подчинены уставу святого Франциска, нет равенства между монахинями, Гелька, многозначительно подмигнув, разъяснила:
– Все они равны перед Христом, а не в монастырской трапезной.[89] Сестра Алоиза думает, что она намного лучше сестры Романы, сестра Юзефа не позволит сестре Дороте даже дотронуться до своего требника.[90] Для сестры Модесты сестра Зенона слишком смердит. Не будь наивной и понаблюдай за этим сама.
Сначала я возмущалась столь неприкрытым Гелькиным цинизмом, но потом всё больше убеждалась в том, что она права. Мне странно было слышать, как сестра Алоиза, швырнув на стол рубашку, строго крикнула перепуганной конверской:
– В таких плохо выстиранных рубашках сестра могла ходить только у себя в деревне!
– Я прошу… – пролепетала конверская со слезами на глазах. – Так нельзя…
– Прошу молчать! Вам здесь не свинарник!
Но мы всё же ценили "худших", конверских, сестер больше, чек хоровых. У сестры Романы можно было выпросить кусочек хлеба, сестра Зенона умела потихоньку от сестры Модесты выкопать откуда-то пару совсем еще неплохих чулок, а сестра Станислава, пренебрегая дисциплиной приюта, незаметно впускала промерзших девочек в хлев, чтобы они в тепле закончили очистку картофеля. Когда кто-либо из воспитанниц заболевал, то искал помощи и спасения лишь у конверской.
"Только она одна совсем другая и только она одна лучше всех хоровых сестер", – размышляла я, следя за стройной фигурой матушки-настоятельницы. Меня приводили в восторг ее изящные руки, величественная, благородная походка, ласковый голос. Возвращалась ли она из сада, прижимая к груди букет астр, или молилась с закрытыми глазами в часовне, учила ли девчат в швейной мастерской вышиванию церковных узоров – всё, что делала она, было преисполнено высокого достоинства и трогающего сердце очарования. Как мило и совсем еще по-детски выглядело ее свежее, белое личико, когда она, склонившись над фисгармонией, играла в сумерках церковные гимны!
Погруженная в свои мысли, она передвигалась по коридорам совсем тихо, незаметно, словно какое-то бесплотное существо. Ласковый взгляд ее черных глаз, касаясь наших лиц, становился рассеянным и вскоре вовсе исчезал, прикрытый опущенными веками. Встречая матушку-настоятельницу, каждая из нас чувствовала, что ее души, как и монастырской часовни, не достигают наша нищета и душевная опустошенность.
Это благоухающий, прелестный цветок рос рядом с нашей помойкой, обращенный всеми своими лепестками к небу и только к небу.
Поэтому мы редко пользовались возможностью пойти с какой-либо жалобой или просьбой к матушке-настоятельнице. Если же дело всё-таки доходило до разговора с нею, то матушка-настоятельница выслушивала жалобы девочек с явным усилием и неохотой. Было такое впечатление, будто кто-то заставляет ее пройтись по луже, а она не хочет этого и выслушивает сделанное ей нелепое предложение только ради приличия. После этого она, не высказав ни своего суждения по поводу жалобы, ни своего решения, мягким взмахом руки выпроваживала просительницу, а сама шла молиться в часовню. Щекотливый, волнующий вопрос так и оставался неулаженным, пока время и новые события сами не оттесняли его и не предавали забвению.
Было воскресное утро. Я мыла на кухне посуду. Матушка-настоятельница суетилась возле стола, на котором готовилась трапеза для ксендза. Ксендз должен был служить молебен в нашей часовне, а пока что в швейной мастерской он вел беседу с сестрой Модестой. Из угла я с любопытством наблюдала за лицом матушки, удивленная происшедшей в нем переменой: раскрасневшиеся, как у молодой девушки, щеки, горящие глаза и совсем земная, самая обыкновенная человеческая улыбка на губах – вот что видела я на нем. Матушка готовила завтрак почти с таким же увлечением, с каким прислуживала у алтаря. Меня, однако, поразило количество чаш, поставленных на поднос. Чаши эти были полны сливок: холодных, подслащенных и горячих, с пенкой и без пенки. За чашами было установлено множество тарелок: с маслом, вареньем, медом…
Когда матушка вышла за чем-то в кладовую, я сунула палец в чашу со сливками и облизала его. И до чего же вкусно! Но, услышав приближающиеся шаги, я быстро отскочила в свой угол и смотрела оттуда, как ловко раскладывает матушка-настоятельница на плетеной сухарнице хрупкие розанчики домашней выпечки, пухлые сладкие кайзерки[91] и румяные булочки с маком, доставленные из лучшей пекарни города. Матушка сосредоточенно перекладывала их с места на место, всё время прикидывая, где и какая из них будет выглядеть лучше – точь-в-точь, как моя сестра Луция на примерке нового платья. Меня она, казалось, совершенно не замечала.
– Прошу извинения, – обратилась я к матушке, – разве ксендз съест всё это один?
Настоятельница вздрогнула, бросила на меня испуганный взгляд и поспешно схватила в руки поднос, прижимая его к груди.
– Ведь, наверно, останется же половина? – продолжала я громко выражать свои мысли в тайной надежде, что, быть может, и мне что-либо перепадет с подноса.
Матушка нахмурила брови и, не проронив ни слова, быстро вышла.
Кончив мыть посуду, я выстирала грязные тряпки, сняла передник и побежала в сторону швейной.
Здесь я увидела Сабину и Гельку, которые торчали под дверью и по очереди заглядывали в замочную скважину.
– Стыдитесь! Что вы тут подсматриваете?
И, оттянув Сабину в сторону, я сана приникла одним глазом к отверстию. Ксендз-катехета сидел за столом, застеленным чистой скатертью, и с аппетитом поедал поставленную перед ним снедь. В другом углу швейной мастерской, спрятав руки в широких рукавах рясы, словно бронзовая статуэтка, стояла матушка-настоятельница.
– Ну вот видите, и ничего-то там нет особенного, – разочарованно зафиксировала я, обращаясь к девчонкам. – Ест – и всё.
Мы отбежали от дверей, и тогда Гелька со смехом воскликнула:
– Ест – и всё! Ха-ха! Значит, ты не видела, как матушка смотрела на ксендза, когда он разжевывал булку. Говорю тебе: она даже вся дрожала! Словно он намеревался вцепиться зубами и в нее!
– Как тебе не стыдно, Гелька! Ну что бы ей было хорошего от того, что он вцепился бы в нее зубами? Было бы больно ведь! Да и вообще всё это глупо и несуразно. Просто дико!
Гелька покраснела и рассмеялась с каким-то ехидством.
– Ну и глупая же! Четырнадцать лет, а ничего не кумекает! Теленок ты!
Туманные Гелькины намеки всё же не затемнили в моем воображении светлого образа матушки-настоятельницы. Я обожала ее покорную печаль, с которой она бесшумно передвигалась по коридорам, ее игру на фисгармонии, ее любовь к цветам и особенно к астрам, которыми она постоянно и собственноручно украшала часовню. Мне нравились задумчивость и серьезность, которые я неизменно видела на ее по-детски нежном личике.
Я была убеждена, что, погруженная всегда в свои глубокие размышления, она не замечает никого из нас. Каково же было мое удивление, когда однажды, проходя возле Гельки, она сказала, не поднимая глаз от земли:
– Я прошу тебя, Геля, носить волосы заплетенными в косы, как у всех девушек.
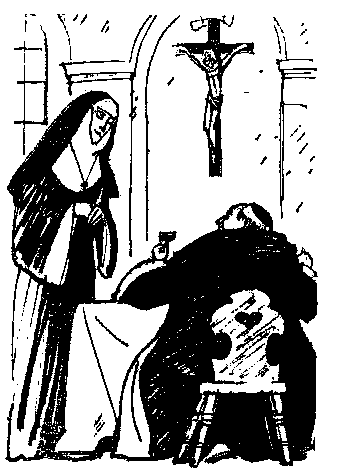 Волосы Гельки! Прекрасные, вьющиеся, ниспадающие на самые плечи рыжие волосы, которые были столь буйны и своевольны, что не хотели подчиняться никакой монастырской дисциплине, требовавшей обязательного заплетения волос в косы и перевязывания их тесемками!..
Волосы Гельки! Прекрасные, вьющиеся, ниспадающие на самые плечи рыжие волосы, которые были столь буйны и своевольны, что не хотели подчиняться никакой монастырской дисциплине, требовавшей обязательного заплетения волос в косы и перевязывания их тесемками!..
Несколькими днями позже мы с Сабиной несли корзину хлеба из пекарни. Неожиданно мы услышали знакомый смех. По другой стороне улицы шла Гелька рядом со стройным черноволосым пареньком и молчаливой, как всегда, Рузей. Все трое возвращались из коэдукацийной[92] вечерней школы. Гелька, очарованная видом изящного, стройного юноши, оживленно щебетала, не спуская с него глаз. Ее волосы были распущены, в восторженном голосе звучала искренняя веселость. Важно и чинно шагающая Рузя время от времени обращала свой взгляд то на ее лицо, то на лицо игривого паренька, после чего снова опускала глаза и шла настороженная и хмурая. Могло показаться, что это не Рузя, а будущая монахиня шла вслед за расшалившейся юной парой.
Не доходя нескольких шагов до калитки, паренек распрощался и повернул назад. Гелька с минуту смотрела ему вслед, потом сказала что-то Рузе, упорно продолжавшей глядеть в землю, быстро заплела косы, и обе они двинулись по тропинке в сторону приюта.
– Она всегда так делает, – сказала с завистью в голосе Сабина. – Сразу же за калиткой распускает волосы, а как возвращается с вечерних занятий, так снова заплетает, чтобы монахини ни о чем не догадались. Храбрая!
– Действительно, – согласилась я, выражая тем самым и свое удивление Гелькиной храбростью.
На другой день я вышла на крыльцо вытряхивать половики. Возле калитки стояла монахиня, будто поджидая кого-то. Она то и дело высовывала голову за калитку и тут же отскакивала назад.
"Ага! Это сестра Модеста караулит Гельку, чтобы схватить ее на месте преступления", – догадалась я, и сердце у меня забилось учащенно, беспокойно. Я бросила половики и помчалась за костел, намереваясь пробраться через дыру в заборе на улицу и предупредить девчат о грозящей им опасности. Но прежде чем я успела добежать до забора, у калитки раздался испуганный визг. Я повернула назад и со всех ног бросилась в ту сторону. Тем временем визг перешел в такой вопль, который способны издавать только люди, испытывающие страшную боль.
Гелька пыталась вырваться из маленьких, но сильных рук монахини, которая вцепилась пальцами в распущенные Гелькины волосы и била ее головой о калитку.
– Сестра Модеста! Сестра Модеста! – заорала я, запыхавшись, подбегая к калитке. – Не бейте ее, сестра! Сестра, что вы делаете? – Я схватила монахиню за рукав, и вдруг руки мои безвольно опустились.
Из-под черной вуали на меня глянуло до неузнаваемости перекошенное бешенством лицо матушки-настоятельницы…
На другой день лоб у Гельки был перевязан бинтами, а веки сильно опухли, видимо от слез. Встретив в коридоре матушку-настоятельницу, я испуганно опустила глаза. По телу у меня пробежала дрожь. И в то же время мне пришла в голову удивительная мысль: "А может быть, она и в самом деле любит смотреть на всех, кто уплетает пищу за обе щеки, работая челюстями, как жерновами, и при этом сама не прочь вцепиться во что-нибудь или в кого-нибудь зубами? Не потому ли она с таким вожделением смотрела на ксендза, когда он жевал булку?"
С любопытством взглянула я на матушку-настоятельницу. На ее сладостном личике вновь, как и раньше, царили раздумье и озабоченность, а взгляд был обращен к земле.
И снова, как и раньше, она тихо бродила по коридорам, далекая в своих раздумьях от всего земного, играла в сумерках на фисгармонии и приносила из теплицы сиреневые астры для украшения часовни.
Большинство воспитанниц приюта составляли малолетние девчонки в возрасте от семи до одиннадцати лет, сопливые, неумытые, в дырявых чулках, перетянутых чуть выше колен шнурками, завшивевшие и всё еще мочащиеся под себя. "Малюток", как называли их в приюте, в строгости и послушании держала сестра Модеста, и все они имели свои обязанности, пожалуй, не меньшие, чем наши. Они мыли посуду на кухне, подметали двор, ступеньки, крыльцо. Весной и летом рвали по канавам траву для монастырской свиньи. Делали в швейной мастерской пуговицы, сортировали перья, рвали тряпки на длинные узкие полосы для выделки половиков. Старшие девушки помыкали ими, как только могли, а беззащитные малютки не знали даже, кому можно было бы пожаловаться.
Почти все старшие девушки работали в швейной мастерской. Под руководством сестры Юзефы и нескольких квалифицированных работниц мы шили белье, стегали ватные одеяла, делали занавески.
Швейная мастерская была открыта с утра и до позднего вечера.
Часто, когда мы занимались приготовлением уроков, к нам влетала сестра Юзефа и сообщала:
– Нужны две для обметки зубчиков!
Или:
– Нужно обметать восемьдесят петель. Кто может сделать это быстро?
Никто, однако, не торопился выразить свое желание, ибо свободного от всевозможных обязанностей времени едва хватало на выполнение домашних уроков. Тогда сестра Модеста сама отбирала несколько девочек, приказывала им прекратить выполнение домашних уроков и идти на помощь сестре Юзефе. Я тоже неоднократно окапывалась в числе отобранных, но моя исключительная неспособность к рукоделию и вообще ко всякого рода ручным работам вынудила в конце концов сестру Юзефу отказаться от моих услуг, и я была оставлена в покое. Однако толку от этого было мало, так как мне поручали выполнять обязанности тех девчонок, которые уходили работать в швейную мастерскую.
Самым старшим из девушек нашего приюта, Гельке и Рузе, было по восемнадцати лет. Они кончили семь классов начальной школы и теперь ходили вместе в вечернюю школу. Это и всё, что было между ними общего. А в остальном они совершенно не походили друг на друга. Пороки и достоинства Гельки можно было легко и быстро познать, зато скрытная натура Рузи поддавалась познанию с большим трудом. На первый взгляд казалось, что в ней, собственно, даже и нет ничего, что заслуживало бы какого-нибудь внимания. У Рузи было хорошее телосложение, сильно развитая мускулатура; гладкое приветливое лицо с глуповатым взглядом больших голубых глаз было преисполнено покоряющей наивности, Она никогда не принимали, участия в бесконечных наших перепалках и разных выходках. Работала охотно, а в свободные минуты неподвижно восседала на скамейке, широко расставив босые ноги и сложив руки на переднике. Случалось, однако, что Рузя неожиданно вдруг чем-то проявляла себя, и тогда мы все бывали крайне удивлены, как если бы на голой стене появилась вдруг прекрасная и потому невольно привлекающая к себе внимание картина.
– Она – подкидыш, – сообщила мне Зоська, – и станет монахиней, хотя и не имеет к этому никакого призвания. Впрочем, она очень глупа. Но это ей не помешает. Монахини всё равно никуда ее не отпустят.
– А зачем же нужна им еще одна конверская? – удивилась я.
– Нужна. Она очень сильная и выносливая. Когда мы ездим за квестой,[93] так она берет себе на спину метр картофеля[94] и сама грузит его на телегу. Хоровые сестры – это в основном хлюпики, а Рузя будет работать, как вол.
Зоська, которая дала мне такую яркую характеристику Рузи, сама тоже принадлежала к числу хлюпиков. Худенькая, горбатая, с тонкими косичками, обрамляющими треугольное личико, она была пронырлива, жадна, навязчива и любила посплетничать. Несмотря на это, она была для каждой из нас весьма полезным человеком.
Зоськин матрас представлял собой настоящую мелочную лавочку, в которой можно было найти вещи, особенно нам необходимые. Поэтому воскресное утро обычно начиналось с умоляющих возгласов, раздававшихся в разных углах спальни:
– Зоська! Отдаю тебе свой завтрак, а ты дай мне шнурки!
– Зося, дай иголку с черной ниткой! Мне дыру на пятке надо зашить.
– Зосенька, достань тряпку. Мне нечем сделать уборку, а сестра Модеста лишит меня тогда завтрака.
– Дай кусочек мыла. Получишь кашу, если только будет на обед.
Зоська охотно соглашалась на любой обмен и на любую, сделку, даже на такую, которая казалась убыточной для нее. Она бралась за два ломтика хлеба произвести уборку за кого-либо из девчонок, потому что хлеб для нее был особым лакомством. По сути дела, всё свое свободное время она находилась на услугах у Целины.
– Княжна и ее пигмей,[95] – так охарактеризовала взаимоотношения между Целиной и Зоськой сестра Алоиза, и все мы были согласны с ее метким определением.
Почему Целина, ничем не отличавшаяся от остальных девочек, была на привилегированном положении в нашем приюте, долгое время оставалось для меня загадкой. Она ела то же, что и мы, но почему-то за отдельным столиком, покрытым бумагой. Она обладала двумя ночными рубашками, частым гребнем для вычесывания вшей и пуховой подушкой, чего не было ни у одной из нас. В буфете она имела свой собственный отсек, который был всегда закрыт на ключ, а в наших, никогда не закрывавшихся, орудовал обычно кто только хотел. Сестра Романа разрешала Целине заваривать себе остатки чая, и уже одно это вызывало у нас зависть.
Ходила "княжна" всегда медленно, солидно, с достоинством, что придавало величественность всей ее фигуре. У нее были правильные черты лица, на котором постоянно царили спокойствие и самоуверенность, а проницательный взгляд зеленых глаз делал ее значительно старше своего возраста. Она была ровесницей мне и Зоське, но по внешнему виду ей можно было дать все двадцать лет.
– Кто у тебя отец? – как-то спросила меня Целина. А услышав, что мой отец был музыкантом и что я появилась на свет уже после его смерти, она сказала с гордостью:
– Мой отец тоже умер. Он был доктором, то есть профессором медицины, и заразился, спасая жизнь тифозному больному.
– Врет, он был обыкновенным деревенским фельдшером, – шептала мне на ухо Зоська, подойдя вечером к моей койке. – Фельдшером и беспробудным пьяницей. Однажды, по пьяной лавочке, он поставил себе пиявку с заразной кровью и вскоре после этого помер. Может быть, даже сделал это умышленно, чтобы избавиться от матери Целины. Ее мать была скупщицей краденого, да и сама воровала. В общем – страшная ведьма. Такая же, как Целина.
Несмотря на столь дурное мнение о Целине, Зоська служила ей верой и правдой. Она стелила ей постель, чинила одежду и белье, производила за нее уборку, штопала чулки, носила по дороге в школу и обратно ее ранец.
– Целина вскоре умрет, так как у нее чахотка, – доверительно сообщила мне Зоська. – Я это точно знаю, потому что подслушивала под дверьми, когда ее осматривал врач. Он сильно возмущался, что Целина находится с нами. Ведь она может заразить и всех нас. У нее в легких – кафе…
В ночь с пятницы на следующую субботу я, сидя на кровати, снова с грустью размышляла о своей судьбе.
Я боялась полного одиночества в мрачном костелике, боялась тяжелых ведер воды, боялась хорошеньких паненок из содалиции. Если бы можно было пойти к сестре Модесте и сказать: "Сестра, у меня ведь в самом деле нет сил для выполнения своих костельных обязанностей!" И если бы добрая сестра Модеста погладила меня по голове и сказала, как сказал Иисус грешнице: "Иди с миром, прощаются тебе грехи твои"!..
И всё же страх перед грязным костельным полом и содалицией одержал верх. С тяжелым сердцем потянулась я за бутылкой. Быстро опрокинула ее и… не почувствовала на ладони привычного холодка: бутылка была пуста.
Перепуганная этим, я быстро соображала, в чем же дело. "Наверно, хорошо не заткнула ее прошлый раз, и весь спирт вытек", – решила я.
Влажной пробкой я натерла веки и заснула с неспокойным сердцем. Утром же выяснилось, что и этой небольшой дозы яда оказалось вполне достаточно для того, чтобы вызвать очередное воспаление: проснувшись, я не могла открыть глаз; веки были плотно склеены гноем.
После обеда сестра Модеста позвала меня к себе в келью.
– Наталья, почему каждую субботу ты больна?
Я молчала.
– Хотелось бы мне знать, – откуда берется эта твоя болезнь глаз?
– Да ведь сестра сама же говорила, что мне ниспослал ее господь бог, – грубо ответила я.
Монахиня побагровела и, достав из ящика стола бутылку, сунула ее мне под нос.
– А это что?
Это была моя бутылочка из-под денатурата. Ошеломленная, я молчала, не зная, как защищаться. Сестра Модеста разложила на столе вынутую из ящика наволочку.
– Гляди!
На наволочке виднелись большие желтые пятна с темными каемками.
– Специально, чтобы вызвать воспаление глаз, ты поливала подушку денатуратом.
– Неправда!
– Наталья!
– Неправда! – крикнула я, преисполненная презрения к моей обвинительнице. – Я вовсе не выливала спирт на подушку, а втирала его прямо в глаза… Я знаю, что сестра обыскала мою койку и вылила остатки денатурата, – зарыдала я, почувствовав неожиданную и острую жалость к себе. – Но сестра всё равно меня не удержит. Я предпочитаю слепнуть, чем убирать этот костел! Да! Предпочитаю полностью ослепнуть! – крикнула я в отчаянии, обращая в сторону монахини свое заплаканное лицо с двумя кровоточащими ранами вместо глаз.
Сестра Модеста с ужасом отшатнулась от меня.
– Ты подлая девчонка, которую опутал дьявол! Иди сейчас же в часовню и проси бога, чтобы простил тебя… Иди, проси, пусть он простит тебя за то, что ты так подло обманывала своих начальниц.
– В часовню я могу пойти, – высокомерно ответила я, стараясь сохранить свое достоинство. – И ничего более.
– Слушай! Завтра ты пойдешь на исповедь и признаешься ксендзу в своем мерзком поступке, расскажешь ему всё, как было. У тебя на душе тяжелый грех, поскольку ты несколько раз покушалась на свое здоровье, на которое имеет право только тот, кто дал тебе его.[87] Об остальном поговорим потом. А матушке-настоятельнице будет доложено о твоих деяниях.
Я сложила молитвенно руки.
– Очень прошу не делать этого. Матушка всегда ходит такая печальная. Она так добра, так благородна! Зачем ее огорчать? Ведь сестра сама знает, как наказать меня…
Вытолкнутая из кельи, я услышала, с каким шумом была захлопнута за мною дверь. Озабоченная, остановилась я посередине спальни. Уж лучше бы сестра Модеста отколотила меня линейкой или четками, но не тревожила и не огорчала такого ангела, как наша матушка-настоятельница! Ужасное положение! Я почитала нашу матушку за благостное выражение ее покорного лица, за сладость, которую оно излучало. И мысль о том, что я стану причиной огорчения матушки-настоятельницы, угнетала меня больше, нежели ругань и угрозы сестры Модесты.
Я пошла в уборную и отворила окошко. В природе – какая-то полнейшая безнадежность. Сколько грусти в одних только голых стволах деревьв, лишенных листьев! Где найти утешение? Началось с небольшого – с нежелания делать уборку в костеле, а кончилось обвинением в самых тяжких грехах. Безбожными были и та ненависть, которую возбуждала во мне сестра Модеста, и искусственно вызванная болезнь глаз, и бунт против необходимости убирать костел. Всё, что жило во мне, что существовало в моем сознании, было по сути своей безбожно.
Видно, суждено мне было до конца дней своих впадать в тяжкие грехи, так как иного выхода я не могла найти. Безбожная для неба, ненавистная для сестры Модесты, мошенница для людей – вот кем была я отныне… И ничто, никакие молитвы в монастырской часовне не помогут теперь изменить это.
Я тяжело вздохнула и закрыла окно. Несмотря на грусть, бравшую за сердце, мне сделалось полегче. Я отдавала теперь себе совершенно ясный отчет в том, кем я стала, а свое положение в приюте видела столь четко очерченным, что ни одна ситуация, как мне казалось, не могла уже представлять для меня какой-либо неожиданности.
В качестве наказания я должна была в течение двух недель чистить картофель для всего монастыря. Работать приходилось в сенях, где было так же морозно, как на улице, и пальцы немели от холода.
Однако от обязанности делать уборку костела я была всё же навсегда избавлена. По поручению сестры Модесты этим делом занимались теперь поочередно самые старшие наши девочки – Гелька и Рузя.
***
Когда я попала в монастырский приют, то наивно полагала, что все обитательницы монастыря совершенно равны между собою. Подруги вывели меня из этого заблуждения, разъяснив, что монахини делятся на лучших и худших, или на сестер хоровых и конверских.[88]Лучшие – это сестра Модеста, сестра Алоиза, Юзефа из белошвейной мастерской. Конверские сестры – это Романа с кухни, Станислава из хлева, которая одновременно ходила за птицей и свиньями, Зенона и Дорота из прачечной, наделенные также обязанностями собирать пожертвования.
Хоровые сестры – образованные, происходят из благородных семей и, судя по их поведению, более любезны господу богу. Сестры конверские – это простолюдинки, которые едва умеют читать и писать.
Когда я выразила удивление, что в монастыре, обитатели которого подчинены уставу святого Франциска, нет равенства между монахинями, Гелька, многозначительно подмигнув, разъяснила:
– Все они равны перед Христом, а не в монастырской трапезной.[89] Сестра Алоиза думает, что она намного лучше сестры Романы, сестра Юзефа не позволит сестре Дороте даже дотронуться до своего требника.[90] Для сестры Модесты сестра Зенона слишком смердит. Не будь наивной и понаблюдай за этим сама.
Сначала я возмущалась столь неприкрытым Гелькиным цинизмом, но потом всё больше убеждалась в том, что она права. Мне странно было слышать, как сестра Алоиза, швырнув на стол рубашку, строго крикнула перепуганной конверской:
– В таких плохо выстиранных рубашках сестра могла ходить только у себя в деревне!
– Я прошу… – пролепетала конверская со слезами на глазах. – Так нельзя…
– Прошу молчать! Вам здесь не свинарник!
Но мы всё же ценили "худших", конверских, сестер больше, чек хоровых. У сестры Романы можно было выпросить кусочек хлеба, сестра Зенона умела потихоньку от сестры Модесты выкопать откуда-то пару совсем еще неплохих чулок, а сестра Станислава, пренебрегая дисциплиной приюта, незаметно впускала промерзших девочек в хлев, чтобы они в тепле закончили очистку картофеля. Когда кто-либо из воспитанниц заболевал, то искал помощи и спасения лишь у конверской.
"Только она одна совсем другая и только она одна лучше всех хоровых сестер", – размышляла я, следя за стройной фигурой матушки-настоятельницы. Меня приводили в восторг ее изящные руки, величественная, благородная походка, ласковый голос. Возвращалась ли она из сада, прижимая к груди букет астр, или молилась с закрытыми глазами в часовне, учила ли девчат в швейной мастерской вышиванию церковных узоров – всё, что делала она, было преисполнено высокого достоинства и трогающего сердце очарования. Как мило и совсем еще по-детски выглядело ее свежее, белое личико, когда она, склонившись над фисгармонией, играла в сумерках церковные гимны!
Погруженная в свои мысли, она передвигалась по коридорам совсем тихо, незаметно, словно какое-то бесплотное существо. Ласковый взгляд ее черных глаз, касаясь наших лиц, становился рассеянным и вскоре вовсе исчезал, прикрытый опущенными веками. Встречая матушку-настоятельницу, каждая из нас чувствовала, что ее души, как и монастырской часовни, не достигают наша нищета и душевная опустошенность.
Это благоухающий, прелестный цветок рос рядом с нашей помойкой, обращенный всеми своими лепестками к небу и только к небу.
Поэтому мы редко пользовались возможностью пойти с какой-либо жалобой или просьбой к матушке-настоятельнице. Если же дело всё-таки доходило до разговора с нею, то матушка-настоятельница выслушивала жалобы девочек с явным усилием и неохотой. Было такое впечатление, будто кто-то заставляет ее пройтись по луже, а она не хочет этого и выслушивает сделанное ей нелепое предложение только ради приличия. После этого она, не высказав ни своего суждения по поводу жалобы, ни своего решения, мягким взмахом руки выпроваживала просительницу, а сама шла молиться в часовню. Щекотливый, волнующий вопрос так и оставался неулаженным, пока время и новые события сами не оттесняли его и не предавали забвению.
Было воскресное утро. Я мыла на кухне посуду. Матушка-настоятельница суетилась возле стола, на котором готовилась трапеза для ксендза. Ксендз должен был служить молебен в нашей часовне, а пока что в швейной мастерской он вел беседу с сестрой Модестой. Из угла я с любопытством наблюдала за лицом матушки, удивленная происшедшей в нем переменой: раскрасневшиеся, как у молодой девушки, щеки, горящие глаза и совсем земная, самая обыкновенная человеческая улыбка на губах – вот что видела я на нем. Матушка готовила завтрак почти с таким же увлечением, с каким прислуживала у алтаря. Меня, однако, поразило количество чаш, поставленных на поднос. Чаши эти были полны сливок: холодных, подслащенных и горячих, с пенкой и без пенки. За чашами было установлено множество тарелок: с маслом, вареньем, медом…
Когда матушка вышла за чем-то в кладовую, я сунула палец в чашу со сливками и облизала его. И до чего же вкусно! Но, услышав приближающиеся шаги, я быстро отскочила в свой угол и смотрела оттуда, как ловко раскладывает матушка-настоятельница на плетеной сухарнице хрупкие розанчики домашней выпечки, пухлые сладкие кайзерки[91] и румяные булочки с маком, доставленные из лучшей пекарни города. Матушка сосредоточенно перекладывала их с места на место, всё время прикидывая, где и какая из них будет выглядеть лучше – точь-в-точь, как моя сестра Луция на примерке нового платья. Меня она, казалось, совершенно не замечала.
– Прошу извинения, – обратилась я к матушке, – разве ксендз съест всё это один?
Настоятельница вздрогнула, бросила на меня испуганный взгляд и поспешно схватила в руки поднос, прижимая его к груди.
– Ведь, наверно, останется же половина? – продолжала я громко выражать свои мысли в тайной надежде, что, быть может, и мне что-либо перепадет с подноса.
Матушка нахмурила брови и, не проронив ни слова, быстро вышла.
Кончив мыть посуду, я выстирала грязные тряпки, сняла передник и побежала в сторону швейной.
Здесь я увидела Сабину и Гельку, которые торчали под дверью и по очереди заглядывали в замочную скважину.
– Стыдитесь! Что вы тут подсматриваете?
И, оттянув Сабину в сторону, я сана приникла одним глазом к отверстию. Ксендз-катехета сидел за столом, застеленным чистой скатертью, и с аппетитом поедал поставленную перед ним снедь. В другом углу швейной мастерской, спрятав руки в широких рукавах рясы, словно бронзовая статуэтка, стояла матушка-настоятельница.
– Ну вот видите, и ничего-то там нет особенного, – разочарованно зафиксировала я, обращаясь к девчонкам. – Ест – и всё.
Мы отбежали от дверей, и тогда Гелька со смехом воскликнула:
– Ест – и всё! Ха-ха! Значит, ты не видела, как матушка смотрела на ксендза, когда он разжевывал булку. Говорю тебе: она даже вся дрожала! Словно он намеревался вцепиться зубами и в нее!
– Как тебе не стыдно, Гелька! Ну что бы ей было хорошего от того, что он вцепился бы в нее зубами? Было бы больно ведь! Да и вообще всё это глупо и несуразно. Просто дико!
Гелька покраснела и рассмеялась с каким-то ехидством.
– Ну и глупая же! Четырнадцать лет, а ничего не кумекает! Теленок ты!
Туманные Гелькины намеки всё же не затемнили в моем воображении светлого образа матушки-настоятельницы. Я обожала ее покорную печаль, с которой она бесшумно передвигалась по коридорам, ее игру на фисгармонии, ее любовь к цветам и особенно к астрам, которыми она постоянно и собственноручно украшала часовню. Мне нравились задумчивость и серьезность, которые я неизменно видела на ее по-детски нежном личике.
Я была убеждена, что, погруженная всегда в свои глубокие размышления, она не замечает никого из нас. Каково же было мое удивление, когда однажды, проходя возле Гельки, она сказала, не поднимая глаз от земли:
– Я прошу тебя, Геля, носить волосы заплетенными в косы, как у всех девушек.
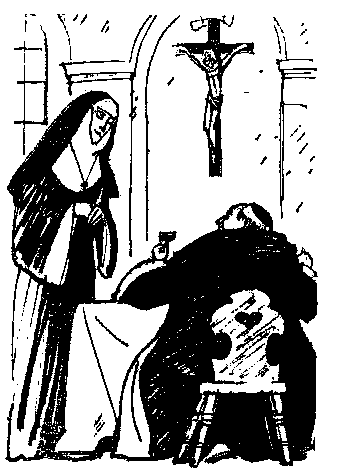
Несколькими днями позже мы с Сабиной несли корзину хлеба из пекарни. Неожиданно мы услышали знакомый смех. По другой стороне улицы шла Гелька рядом со стройным черноволосым пареньком и молчаливой, как всегда, Рузей. Все трое возвращались из коэдукацийной[92] вечерней школы. Гелька, очарованная видом изящного, стройного юноши, оживленно щебетала, не спуская с него глаз. Ее волосы были распущены, в восторженном голосе звучала искренняя веселость. Важно и чинно шагающая Рузя время от времени обращала свой взгляд то на ее лицо, то на лицо игривого паренька, после чего снова опускала глаза и шла настороженная и хмурая. Могло показаться, что это не Рузя, а будущая монахиня шла вслед за расшалившейся юной парой.
Не доходя нескольких шагов до калитки, паренек распрощался и повернул назад. Гелька с минуту смотрела ему вслед, потом сказала что-то Рузе, упорно продолжавшей глядеть в землю, быстро заплела косы, и обе они двинулись по тропинке в сторону приюта.
– Она всегда так делает, – сказала с завистью в голосе Сабина. – Сразу же за калиткой распускает волосы, а как возвращается с вечерних занятий, так снова заплетает, чтобы монахини ни о чем не догадались. Храбрая!
– Действительно, – согласилась я, выражая тем самым и свое удивление Гелькиной храбростью.
На другой день я вышла на крыльцо вытряхивать половики. Возле калитки стояла монахиня, будто поджидая кого-то. Она то и дело высовывала голову за калитку и тут же отскакивала назад.
"Ага! Это сестра Модеста караулит Гельку, чтобы схватить ее на месте преступления", – догадалась я, и сердце у меня забилось учащенно, беспокойно. Я бросила половики и помчалась за костел, намереваясь пробраться через дыру в заборе на улицу и предупредить девчат о грозящей им опасности. Но прежде чем я успела добежать до забора, у калитки раздался испуганный визг. Я повернула назад и со всех ног бросилась в ту сторону. Тем временем визг перешел в такой вопль, который способны издавать только люди, испытывающие страшную боль.
Гелька пыталась вырваться из маленьких, но сильных рук монахини, которая вцепилась пальцами в распущенные Гелькины волосы и била ее головой о калитку.
– Сестра Модеста! Сестра Модеста! – заорала я, запыхавшись, подбегая к калитке. – Не бейте ее, сестра! Сестра, что вы делаете? – Я схватила монахиню за рукав, и вдруг руки мои безвольно опустились.
Из-под черной вуали на меня глянуло до неузнаваемости перекошенное бешенством лицо матушки-настоятельницы…
На другой день лоб у Гельки был перевязан бинтами, а веки сильно опухли, видимо от слез. Встретив в коридоре матушку-настоятельницу, я испуганно опустила глаза. По телу у меня пробежала дрожь. И в то же время мне пришла в голову удивительная мысль: "А может быть, она и в самом деле любит смотреть на всех, кто уплетает пищу за обе щеки, работая челюстями, как жерновами, и при этом сама не прочь вцепиться во что-нибудь или в кого-нибудь зубами? Не потому ли она с таким вожделением смотрела на ксендза, когда он жевал булку?"
С любопытством взглянула я на матушку-настоятельницу. На ее сладостном личике вновь, как и раньше, царили раздумье и озабоченность, а взгляд был обращен к земле.
И снова, как и раньше, она тихо бродила по коридорам, далекая в своих раздумьях от всего земного, играла в сумерках на фисгармонии и приносила из теплицы сиреневые астры для украшения часовни.
Большинство воспитанниц приюта составляли малолетние девчонки в возрасте от семи до одиннадцати лет, сопливые, неумытые, в дырявых чулках, перетянутых чуть выше колен шнурками, завшивевшие и всё еще мочащиеся под себя. "Малюток", как называли их в приюте, в строгости и послушании держала сестра Модеста, и все они имели свои обязанности, пожалуй, не меньшие, чем наши. Они мыли посуду на кухне, подметали двор, ступеньки, крыльцо. Весной и летом рвали по канавам траву для монастырской свиньи. Делали в швейной мастерской пуговицы, сортировали перья, рвали тряпки на длинные узкие полосы для выделки половиков. Старшие девушки помыкали ими, как только могли, а беззащитные малютки не знали даже, кому можно было бы пожаловаться.
Почти все старшие девушки работали в швейной мастерской. Под руководством сестры Юзефы и нескольких квалифицированных работниц мы шили белье, стегали ватные одеяла, делали занавески.
Швейная мастерская была открыта с утра и до позднего вечера.
Часто, когда мы занимались приготовлением уроков, к нам влетала сестра Юзефа и сообщала:
– Нужны две для обметки зубчиков!
Или:
– Нужно обметать восемьдесят петель. Кто может сделать это быстро?
Никто, однако, не торопился выразить свое желание, ибо свободного от всевозможных обязанностей времени едва хватало на выполнение домашних уроков. Тогда сестра Модеста сама отбирала несколько девочек, приказывала им прекратить выполнение домашних уроков и идти на помощь сестре Юзефе. Я тоже неоднократно окапывалась в числе отобранных, но моя исключительная неспособность к рукоделию и вообще ко всякого рода ручным работам вынудила в конце концов сестру Юзефу отказаться от моих услуг, и я была оставлена в покое. Однако толку от этого было мало, так как мне поручали выполнять обязанности тех девчонок, которые уходили работать в швейную мастерскую.
Самым старшим из девушек нашего приюта, Гельке и Рузе, было по восемнадцати лет. Они кончили семь классов начальной школы и теперь ходили вместе в вечернюю школу. Это и всё, что было между ними общего. А в остальном они совершенно не походили друг на друга. Пороки и достоинства Гельки можно было легко и быстро познать, зато скрытная натура Рузи поддавалась познанию с большим трудом. На первый взгляд казалось, что в ней, собственно, даже и нет ничего, что заслуживало бы какого-нибудь внимания. У Рузи было хорошее телосложение, сильно развитая мускулатура; гладкое приветливое лицо с глуповатым взглядом больших голубых глаз было преисполнено покоряющей наивности, Она никогда не принимали, участия в бесконечных наших перепалках и разных выходках. Работала охотно, а в свободные минуты неподвижно восседала на скамейке, широко расставив босые ноги и сложив руки на переднике. Случалось, однако, что Рузя неожиданно вдруг чем-то проявляла себя, и тогда мы все бывали крайне удивлены, как если бы на голой стене появилась вдруг прекрасная и потому невольно привлекающая к себе внимание картина.
– Она – подкидыш, – сообщила мне Зоська, – и станет монахиней, хотя и не имеет к этому никакого призвания. Впрочем, она очень глупа. Но это ей не помешает. Монахини всё равно никуда ее не отпустят.
– А зачем же нужна им еще одна конверская? – удивилась я.
– Нужна. Она очень сильная и выносливая. Когда мы ездим за квестой,[93] так она берет себе на спину метр картофеля[94] и сама грузит его на телегу. Хоровые сестры – это в основном хлюпики, а Рузя будет работать, как вол.
Зоська, которая дала мне такую яркую характеристику Рузи, сама тоже принадлежала к числу хлюпиков. Худенькая, горбатая, с тонкими косичками, обрамляющими треугольное личико, она была пронырлива, жадна, навязчива и любила посплетничать. Несмотря на это, она была для каждой из нас весьма полезным человеком.
Зоськин матрас представлял собой настоящую мелочную лавочку, в которой можно было найти вещи, особенно нам необходимые. Поэтому воскресное утро обычно начиналось с умоляющих возгласов, раздававшихся в разных углах спальни:
– Зоська! Отдаю тебе свой завтрак, а ты дай мне шнурки!
– Зося, дай иголку с черной ниткой! Мне дыру на пятке надо зашить.
– Зосенька, достань тряпку. Мне нечем сделать уборку, а сестра Модеста лишит меня тогда завтрака.
– Дай кусочек мыла. Получишь кашу, если только будет на обед.
Зоська охотно соглашалась на любой обмен и на любую, сделку, даже на такую, которая казалась убыточной для нее. Она бралась за два ломтика хлеба произвести уборку за кого-либо из девчонок, потому что хлеб для нее был особым лакомством. По сути дела, всё свое свободное время она находилась на услугах у Целины.
– Княжна и ее пигмей,[95] – так охарактеризовала взаимоотношения между Целиной и Зоськой сестра Алоиза, и все мы были согласны с ее метким определением.
Почему Целина, ничем не отличавшаяся от остальных девочек, была на привилегированном положении в нашем приюте, долгое время оставалось для меня загадкой. Она ела то же, что и мы, но почему-то за отдельным столиком, покрытым бумагой. Она обладала двумя ночными рубашками, частым гребнем для вычесывания вшей и пуховой подушкой, чего не было ни у одной из нас. В буфете она имела свой собственный отсек, который был всегда закрыт на ключ, а в наших, никогда не закрывавшихся, орудовал обычно кто только хотел. Сестра Романа разрешала Целине заваривать себе остатки чая, и уже одно это вызывало у нас зависть.
Ходила "княжна" всегда медленно, солидно, с достоинством, что придавало величественность всей ее фигуре. У нее были правильные черты лица, на котором постоянно царили спокойствие и самоуверенность, а проницательный взгляд зеленых глаз делал ее значительно старше своего возраста. Она была ровесницей мне и Зоське, но по внешнему виду ей можно было дать все двадцать лет.
– Кто у тебя отец? – как-то спросила меня Целина. А услышав, что мой отец был музыкантом и что я появилась на свет уже после его смерти, она сказала с гордостью:
– Мой отец тоже умер. Он был доктором, то есть профессором медицины, и заразился, спасая жизнь тифозному больному.
– Врет, он был обыкновенным деревенским фельдшером, – шептала мне на ухо Зоська, подойдя вечером к моей койке. – Фельдшером и беспробудным пьяницей. Однажды, по пьяной лавочке, он поставил себе пиявку с заразной кровью и вскоре после этого помер. Может быть, даже сделал это умышленно, чтобы избавиться от матери Целины. Ее мать была скупщицей краденого, да и сама воровала. В общем – страшная ведьма. Такая же, как Целина.
Несмотря на столь дурное мнение о Целине, Зоська служила ей верой и правдой. Она стелила ей постель, чинила одежду и белье, производила за нее уборку, штопала чулки, носила по дороге в школу и обратно ее ранец.
– Целина вскоре умрет, так как у нее чахотка, – доверительно сообщила мне Зоська. – Я это точно знаю, потому что подслушивала под дверьми, когда ее осматривал врач. Он сильно возмущался, что Целина находится с нами. Ведь она может заразить и всех нас. У нее в легких – кафе…
