Антракт окончен. Второе действие начинается. Актеры, ну-ка займите свои места».
Актер
 Помню я его, и помню, и не могу забыть, и все время что-нибудь напоминает его – могучую фигуру, горькие глаза, глубокий, чуть хрипловатый голос, такие выразительные руки.
Помню я его, и помню, и не могу забыть, и все время что-нибудь напоминает его – могучую фигуру, горькие глаза, глубокий, чуть хрипловатый голос, такие выразительные руки.
В плеяде великих русских трагиков – Мочалов, Каратыгин, Орленев, Качалов – он был младшим. Вся его жизнь прошла при мне. С ним связан самый мой большой провал в театре – самый большой, потому что первый. И самый большой успех. И его уже нет, и довольно давно, а все равно он со мной.
– Что смолкнул веселия глас?
Почему этот стих преследует меня…
Вот он лежит посреди огромной сцены театра, где так часто выст) пал, где раскланивался с публикой, внимательно глядя в зрительный зал. Невидимый оркестр играет Бетховена. Вокруг цветы, венки с лентами… От всех театров Москвы. Почетный караул. Речи. Мне шепчут, чтоб я приготовился… Никак не могу представить себе, о чем буду говорить. Все время наплывает фраза. Почему эта? Откуда она? Да и не подходит она теперь, совсем не подходит…
Что смолкнул веселия глас?
С чего начать?
Меня выталкивают к микрофону.
– Он был БОЛЬШОЙ, – говорю я.
И тут сразу приходит на ум тема моего выступления.
– Он был Большой. Во всем: в отношении к театру, к товарищам, к жизни. Срочно нужно издать книгу о нем, выпустить фильм, рассказывать молодежи. Чтоб люди на его примере учились быть большими.
На этой сцене, где и я раскланивался с публикой после премьер моих пьес и целовался с ним после «Ленинградского проспекта», жал руки актерам, – мне сейчас приходится говорить о нем… А он лежит на сцене, в цветах.
Он был драматический актер, трагик. Как писали о нем в статьях, последний трагик русского театра. При чем же здесь веселье? Он исторгал слезы и вызывал сострадание у зрителей. Его трагическим образам сочувствовали. Над судьбой его героев содрогались. Почему же «веселия глас»?
…Мы познакомились на Сретенке в двадцать девятом году, когда я принес в студию Завадского пьесу «Идут слоны».
Один из персонажей (его играл О. Абдулов) говорил, что остановить наступление нового времени на старый городок – все равно что пытаться остановить стадо слонов, когда оно неудержимо рвется к водопою.
Канувший безвозвратно в Лету один из начальников искусства забраковал название «Идут слоны» (под этим названием пьеса шла в Ленинграде), и мы назвали ее «Нырятин». Руководителем постановки был руководитель студии Ю. Завадский, режиссерами Н. Мордвинов и В. Балюнас.
Пьесу мою то начинали репетировать, то бросали, то опять начинали.
Студийцы жили плохо, бедно. Но все были молоды, энтузиасты. Сами убирали помещение, мыли полы, строили декорации. Исполняли и технические работы. Мордвинов был старшим электротехником. Налаживал прожекторы, освещал сцену. Неожиданно сыграл в инсценировке лавреневского «Рассказа о простой вещи».
Его контрразведчик Соболевский был красив, белозуб, импозантен. Он был сатаной: хитрым, безжалостным, лицемерным. Он был предтечей гитлеровских садистов…
Восхищенный игрой Мордвинова, друг Завадского, режиссер театра-студии Вахтангова и поэт Павел Антокольский, придя на спектакль, воскликнул: «Какой темперамент! Не грешно ли его назначать на роли злодеев? Ведь он же герой! Герой-любовник! Самое недостающее амплуа на театре!…»
…Заканчивалось строительство нового здания в Головиной переулке – подвал под большим домом. Из сберкассы нас (я говорю «нас», потому что тоже считался студийцем и был заведующим литературной частью) выселили. Иногда репетиции происходили на квартире у Марецкой, там, где некогда начинала Вахтанговская студия, а нынче жила Вера Петровна с сестрой и с маленьким сыном Женей (ныне режиссер Театра Моссовета).
Для того чтоб заработать хоть немного денег для переезда в новое помещение, студия поехала на гастроли в Ижевск. Повезли «Пробу» Колосова и Герасимовой, «Простую вещь» и «Любовью не шутят» Мюссе. Там, во время гастрольной поездки, репетировали. Мордвинов работал с Марецкой и Лебедевым. Иосиф Туманов привез письмо: Мордвинов просил посмотреть какую-то сцену по тексту, стеснялся того, что он стал режиссером, извинялся, что редко пишет. Разбирая старые рукописи, я нашел его письмо.
«Репетирую. Редко, но как будто с результатом. Боюсь говорить определенно, скользкое это дело и во многом не от меня зависит, но по намекам, как будто, нечто занятное – разболтался – перегибаю, не выгодно это. Не по-взрослому заниматься голубыми надеждами, не достойно «режиссера»… Шутки в бок. Слушай, Исидор, посмотри, пожалуйста, встречу Паразита со Степкой у Игоря в 5-й сцене. Что-то очень скоропалительно и в одно, у тебя-то нет, но вот Жорж (Лебедев) нуждается в более резкой, вернее, контрастной смене кусков. Не очень-то у него здесь выходит, хотя, может быть, на месте лучше договоримся…»
В письме этом удивительное сочетание серьезности, всегдашней мордвиновской серьезности, профессионального отношения к искусству и, одновременно, какой-то застенчивости, боязни показаться хвастуном, нескромным… Эти качества так у него и остались, сопровождали его всю жизнь. Представьте себе сегодня молодого режиссера, но уже известного Москве актера, пишущего двадцатидвухлетнему автору. Нет, наверно, этот не станет извиняться за вторжение в авторский замысел, не будет так деликатен. Он будет требовать, указывать, предписывать, грозить.
Когда пьеса проваливается, почти всегда (заметьте: «почти») всегда виноват автор. Когда имеет успех, «виноваты» все: актеры, режиссер, художник, композитор. В данном случае в неуспехе был виноват исключительно автор. Замахнувшись на большую, огромную по теме пьесу – маленький захолустный городок превращается в течение нескольких лет в столицу, во вторую Москву, – автор написал ряд не связанных между собою эпизодов. Хам были и смешные и трогательные сценки, а в общем нечто длинное и малоубедительное.
Завадский, выйдя в фойе после второго акта, услышал, как одна старушка говорила другой:
– Ну прямо никуда картинки, прямо никуда!
А на премьере – открывалось новое помещение на Сретенке, в Большом Головиной переулке, – присутствовали Мейерхольд с Зинаидой Райх (один из комсомольцев, как на грех, кричал, подбадривая своих товарищей: «Нe будьте, ребята, есенинскими вдовами!» – дескать, не падайте духом).
Москвин разрезал ленточку на сцене перед началом спектакля. И начался провал.
Нет, Мордвинов ни как актер (а играл он комсомольца Игоря, и играл очень хорошо), ни как режиссер не был повинен в провале.
Дружба наша не прекращалась, всегда радостно встречал он меня и напоминал, что я пред ним в долгу.
Театр Моссовета, куда перед войной вошли Завадский, Мордвинов, Плятт, Марецкая, принял к постановке после войны две мои пьесы. Обе пьесы не пошли, но обе были поставлены в других театрах впоследствии. Так уж вышло.
Но в двух этих непошедших пьесах Мордвинов должен был играть. И даже репетировал. В «Тумане над заливом» роль морского летчика Егорушкина и в «Караване» роль адмирала Щербака. Мы говорили о героях. Я написал несколько реплик, поясняющих биографии персонажей, их «допьесную жизнь».
– Ну ладно, – говорил он мне, – твой Щербак в пьесе уже адмирал, командующий флотом. А мне хочется, чтоб он в сцене с сыном вдруг сбросил с себя адмиральский мундир и поговорил. О Волге, о плесе, о барках. О любви… Ты понял? Идет война, гибнут люди… А тут такая щемящая пота – воспоминания о юности, о волжских просторах. Я ведь там вырос…
Когда он получил роль Щербака, вернее, сам попросил ее, после того как режиссер Шапс прочитал ему пьесу, он от руки переписал всю роль в тетрадочку. Так он всегда делал – переписывал роли рукой в тетрадочку. А на полях множество знаков, восклицаний, вопросов, подчеркиваний. Он, в ту пору уже прославленный артист, знаменитый Арбенин и Отелло, сидел дома и переписывал роль. Звонил телефон. Приглашали сниматься в кино, выступать в концертах. Он не подходил к телефону и писал…
У меня есть письма его, поздравительные с Новым годом, с другими праздниками. Писал он мелким, трудно разбираемым почерком. Боялся употреблять общеизвестные фразы, стертые, стандартные. Искал собственное слово…
Так он работал над всеми своими ролями. Внимательно, скрупулезно, пробуя, отказываясь, опять пробуя. Его Отелло отличался от всех других мавров на всех сценах мира. Он был резок, груб, воинствен, юн, нежен, растерян. Он, привыкший командовать и повелевать, превращался в ребенка, тихого, наивного, шаловливого. И он был страшен, он был оскорблен, он был убийцей. Он был безумен, когда убивал любимую. Он был раздавлен, когда узнавал о ее невиновности. Он был холоден и решителен, когда убивал сам себя. Он был олицетворением справедливости, цельности, бескомпромиссности.
Были люди, которые смотрели его в Отелло по много десятков раз. И каждый раз удивлялись богатству его эмоций, разнообразию его выразительных средств, голосу, движениям. Я был среди этих зрителей.
После спектакля он сидел на стуле в своей гримировочной комнате, изможденный, похудевший, с красными глазами… Долго не мог вернуться к себе самому.
В трех вариантах он сыграл Арбенина. Один раз в театре, другой раз в кинофильме, третий раз снова в театре. И в каждой постановке он был все лучше, все совершеннее. Целая литература написана о его исполнении Арбенина. А мне кажется – мало. Его бледное лицо, его руки, ловкие, нежные, страшные. Целый мир – мир азарта, гордости, восхищения, разочарования, вызова судьбе, безжалостности и горечи – нес он – Арбенин, с собой. Его партнеры – а все в этом спектакле играли неплохо – рядом с ним были малы, по пояс ему.
Я не видел его в «Короле Лире», о чем очень жалею. Говорят, это была не лучшая его роль, но мне почему-то не верится. Наверно, что-то мешало ему развернуть весь свой могучий талант. И может быть, ему следовало еще раз сыграть Лира и еще раз поставить эту трагедию, как было с «Отелло» и с «Маскарадом».
Он и собирался это сделать. Не успел…
Не успел он сыграть и генерала Хлудова в булгаков-ском «Беге», и Менделя Крика в бабелевском «Закате»… Как бы это обогатило театр и зрителей!
В самом конце пятидесятых годов я принес в театр «Ленинградский проспект» – современную бытовую драму из московской жизни.
Мой друг директор Миша Никонов и Юрий Александрович Завадский уговорили Мордвинова сыграть главную роль – старого рабочего Забродина. Да, кажется, долго уговаривать и не пришлось.
Но во время репетиций он вдруг потребовал от автора целой сцепы, где бы разговор шел о том, ради чего же мы живем. Я написал такую сцену. Он забраковал ее.
– Нет, Исидор, ты не бойся говорить о коммунизме. Прямо, в лоб. Пусть он спросит у сына: «А для чего ты, милый человек, живешь? Веришь ли ты в коммунизм? Или это так просто, болтают». Напиши все, что сейчас думает Забродин. Пиши много – все, что хочешь. Лишнее мы потом вымараем. Но пусть он выскажется. У него же накипело. Он же думает об этом ночами. Пусть все скажет.
– А не будет это сухо, декларативно?
– Нет, почему же, если оно будет идти от сердца…
Я написал. Так оно и осталось в пьесе. Так играли и другие Забродины.
Перед премьерой, на прогоне, не получался финал. Жидко было. Не хватало точки. Сноха Забродина Маша убирала квартиру. Напевала песню, ту самую, которую пела когда-то вместе с покойной Клавдией Петровной, женой Забродина. Маша ждала ребенка от сына Забродина, Бориса… Вот такой элегический, лирический финал. Но на прогоне стало ясно, что героем спектакля получается Забродин. Он был настолько весомее, значительнее, что, когда его не было на сцене, все невольно думали о нем. И когда он появлялся, все становилось на свои места.
Вместе с режиссером спектакля Ириной Сергеевной Анисимовой-Вульф мы думали-гадали, как бы поэффектнее закончить спектакль, что бы такое сделать, чтоб было и завершение, и начало чего-то нового в жизни Забродиных.
Когда закончился прогон, я спросил Мордвинова:
– А если тебе вернуться и сказать Маше: «Вот что… Перебирайтесь-ка вы с Борисом сюда, в большую комнату. А я туда, в маленькую, пойду, в вашу… Вас ведь теперь много будет…»
– Попробую. А ты Ирине говорил?
– Говорил. Она согласна. А ты?
Он никогда сразу не соглашался. Обдумывал. Пробовал.
Поздно вечером позвонил мне по телефону.
– Слушай! А можно я переставлю слова? Скажу: вас теперь будет много. Ты не возражаешь?
– Нет, не возражаю. Если тебе так удобнее.
– Вот послушай.
И он повторил фразу, начав ее словами: «Вот что, доченька…» А последнее слово протянул: «мно-о-ого».
– Вот послушай… Вас теперь будет мно-о-го.
– Да, так хорошо.
– Ну спасибо. Спокойной ночи.
Но его жена Ольга сказала, что он долго не спал, репетировал. Пробовал. Вышло. Так и играл, в такой редакции.
Ну-ка, товарищи молодые актеры, хватит у вас трудолюбия и скромности, честности, полного отсутствия фанаберии, чтоб так удивительно бережно обращаться с замыслом автора?
На генеральной репетиции он вышел на сцену, и у меня, сидящего в зрительном зале, похолодело сердце. Забродин – Мордвинов был удивительно похож на моего отца. Николай не знал его, никогда не видел: отец умер за три года до моего знакомства с Мордвиновым. Это было случайное совпадение. Николай Дмитриевич был мало загримирован. Только седые усы, седые брови. Я сказал ему о сходстве.
– Наверно, это хорошее предзнаменование?
Как все актеры, он был суеверен.
О «Ленинградском проспекте» и о Мордвинове – Забродине много написано. К сожалению, кинофильм снят не с ним. Жалко. Иной раз столько пленки зря изводим, а иной раз, когда надо, экономим. Во всяком случае, образ этот – сильного, самоотверженного, честного старого рабочего – вошел в галерею лучших его ролей.
Множество актеров сыграли эту роль на сценах разных городов и стран. Более двухсот театров – профессиональных, народных, самодеятельных – поставили эту пьесу. Идет она и в его родном театре, артист Жженов отлично играет главную роль. Во всех спектаклях незримо живет образ, впервые созданный Николаем Мордвиновым, звучат слова, придуманные нами вместе.
На открытии памятника на Новодевичьем прозвучали стихи:
– Ну зачем ты…
Волновался? Да, волновался. И играл очень хорошо, его прямо завалили цветами…
На следующий день читал в концерте «Песню о купце Калашникове». И великолепно разносился по залу филармонии его певучий голос.
В день окончания декады, на приеме, собрались все участники декады и хозяева, когда подносили традиционные бараньи головы, и произносили тосты, и пили казахское вино, слово было предоставлено народному артисту Советского Союза Николаю Мордвинову. Что он скажет? Как перекроет он прекраснейшие, красноречи-вейшие тосты? Что противопоставит он вдохновенным словам писателей, артистов, государственных деятелей? Где найдет слова для того, чтоб выразить наши чувства, рожденные благодарностью за щедрое гостеприимство?
Столы ломились от яств, плодов, цветов, вин.
Мордвинов поднял бокал. Оглядел всех. Улыбнулся широко. И тихо, как бы спрашивая у каждого из нас, сидящих за столом, произнес:
– Что смолкнул веселия глас?
А потом звонко, весело, задорно крикнул:
– Раздайтесь, вакхальны припевы!
Улыбнулся, засмеялся и прочитал сразу, залпом, все стихотворение. Только когда заговорил о ложной мудрости, которая мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума, словно тень пробежала по его лицу. Будто вспомнил что-то подлое, тяжелое. Потом махнул рукой и закончил, как нечто само собой разумеющееся:
– Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Конечно же да здравствует солнце, иначе и быть не может.
Он был образованный и начитанный человек. Прекрасный собеседник. Когда нужно – оратор. Но он не счел возможным закончить этот вечер словами своими. Он избрал Пушкина. Всем известное. Школьное. Хрестоматийное. А прозвучало это стихотворение так, будто произнесено оно впервые. Он был актер. Разве можно было полнее выразить наши чувства? Вряд ли.
Меня словно обожгло открытие – вот в чем причина успеха этого артиста! Он ненавидел уныние. В самых драматических своих образах он нес веселость. Веселость борьбы, жизни, драки. Помните, как в «Богдане Хмельницком» ходит по столу, сбивая бокалы? Помните, как Арбенин бросает карты, словно вызывая на бой судьбу? Помните, как размахивает огромным кнутом восставший против вожака цыган Юдко в «Последнем таборе»? Как держит на руках Дездемону Отелло? Как вспоминает вместе с Скворцом футбольные баталии Василий Забродин? Он же боец! Бесстрашный. Веселый в бою. Есть упоение в бою и в бездне мрачной на краю.
Кто мог написать такие слова и кто мог их произнести? Мужчина, витязь, боец.
В самых трагических ролях своих он был весел. И того же требовал от соратников своих. Погибать, так с музыкой! Что смолкнул веселия глас?!
Вот эта удаль, беззаветность, цельность и целеустремленность были душой его героев.
Есть упоение в бою.
На одном из его творческих вечеров его спросили, какой поэт ему ближе всего. Конечно, Пушкин! И Лермонтов, конечно. Но сначала Пушкин…
– Что смолкнул веселия глас?
Умер он ужасно рано. Не сыграл и половины тех ролей, которые сыграть должен был.
Почему такое темное облако легло на его лицо тогда, там, в Алма-Ате, когда он сказал: «Так ложная мудрость мерцает и тлеет…»
Что он имел в виду? О чем вспомнил?
Как-то мы беседовали у него в актерской уборной в Москве.
– Тебе нужен собственный театр, – сказал я.
– Что я там буду делать?
– Играть. Каждый день играть. Каждые полгода новую роль.
– Что я должен сыграть?
– Принесу тебе список ролей.
Я написал этот список. Там были Сальери, Скупой рыцарь, Борис Годунов, Городничий, Фамусов, Каренин, Хаджи Мурат… Всего более тридцати ролей.
Мордвинов усмехнулся:
– Не успею.
Не успел.
Но и то, что он сыграл, навсегда запомнилось. И его Мурзавецкий. И Сухово-Кобылин (в драме Голичникова и Попаригопуло). О Котовском, Хмельницком, Вожаке, Ученике Дьявола, Лире, Отелло, Забродине знают все. Лучшего Арбенина я не видел. И вряд ли увижу.
Почему Мордвинов не стал режиссером? Ведь он так хорошо относился к молодым, так много с ними всегда возился, так прекрасно знал сцену. Думаю, потому, что был слишком требователен. Требовал от актеров того, что и от себя самого: самоотверженности, непрерывного труда и совершенствования, отказа от мелких радостей жизни, дисциплины во всем. Был придирчив к другим так же, как к самому себе. Свершал подвиг ежедневно. Того же требовал от каждого актера. Крови. Не воды, не лимонада. Крови, Яго, крови!
Ну конечно же это нравилось не всем. Режиссеру, кроме требования подвигов от артистов, необходимо еще и терпение. Ему нужно уметь быть снисходительным к недостаткам. Прощать заблуждения, нерадивость. Мордвинов с этим не мирился!
Если молодой или старый актер не отвечал его непреклонным требованиям, он терял к этому актеру всякий интерес. Становился резким, неприятным, злым.
Он и театры-то из-за этого редко посещал. Посмотрит, посмотрит немного и уходит.
– Что-то я себя плохо чувствую сегодня… Вы уж извините…
– Может быть, вам не нравится?
– Да, в общем, не нравится.
Не любил кривить душой.
На собраниях выступал редко. От интервью отказывался.
– Юбилейный вечер? Нет, это потом как-нибудь…
Зато мог с друзьями ночи напролет беседовать о театре, о литературе, читать стихи, вспоминать… Был падок на смешное, очень ценил юмор, обожал остроумных и легких людей. Мало знавшим его он казался угрюмым, нелюдимым. К новым знакомствам относился с опаской, подозрительно. С друзьями был резок и откровенен. Иногда говорил неприятные слова. Любил петь под гитару. В гости ходить не любил. У меня он никогда не был. Несмотря на тридцатисемилетнее наше знакомство, встречались мы с ним только в театре. Театр был его домом, его профессией, его страстью.
Он терпеть не мог театральных дрязг, а их, увы, всегда хватает. Гнал от себя внутритеатральных и околотеатральных сплетников. Он не был равнодушен к славе своей. Почему же, ведь это неотделимо от искусства. Но у него не было болезненного, завистливого отношения к славе. Дружил со своими дублерами, помогал им. Ему не нужно было завидовать. Да и некому. Слава? Хватит на всех.
Скромных и застенчивых людей много. И талантливые есть. И тружеников множество. И людей, которым претят позерство, фанфаронство, театральная дешевка, – уйма. И деятелей искусства, которые умеют широко, в масштабе своего времени мыслить, хватает. Но в Мордвинове все эти качества соединились. Он был высок, красив, атлетически сложен, умен и обаятелен.
Он был актер. Большой. Огромный. Щедрый. Смелый. Веселый. И ужасно как его не хватает.
– Что смолкнул веселия глас?!
Нун Xа
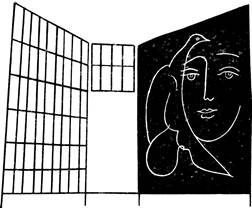 Путь наш лежал из Бухареста в Констанцу, в древний город Томы на берегу Черного моря, давший приют великому скитальцу, поэту, изгнаннику Овидию Назону.
Путь наш лежал из Бухареста в Констанцу, в древний город Томы на берегу Черного моря, давший приют великому скитальцу, поэту, изгнаннику Овидию Назону.
Проехав большую часть пути, вереница машин – их было девятнадцать, по числу делегаций, – остановилась. Делегации приехали из разных стран мира почтить память Караджале в связи с пятидесятилетием со дня его смерти. Память Иона Дуки Караджале, тоже писателя, тоже изгнанника, тоже скитальца.
Остановились на берегу Дуная. Уже приближался финиш прославленной магистрали. Вобрав в себя сотни рек, речушек, притоков, Дунай неудержимо стремился к морю. Он был широк, какого-то удивительно сине-черного цвета. Под Хыршовой еще не было моста, а была переправа на паромах. Десятки барж, маленьких и огромных, перебирались на другой берег.
Главный паром взял на свою могучую спину все наши девятнадцать автомобилей со всеми делегациями. Переправа продолжалась долго. Я подошел к черному «ЗИЛу» Назыма Хикмета.
Вера, жена его, дремала па переднем сиденье. А сам он, забившись в угол на заднем диване, что-то шептал и записывал в блокнот. Работал. Удивительный человек! Все время работает. Утром, когда я приходил в номер гостиницы, чтоб звать на завтрак в ресторан, он работал. Во время приемов, дома и в гостях, в поезде и в самолете, он садился куда-нибудь в уголок, шептал и записывал. Писал стихи. Обдумывал пьесы. Или новеллы. Вечером, вернувшись из театра или с заседания, работал.
Вот библиографическая справка. За шестьдесят один год жизни (то есть за сорок семь лет писательской деятельности) им созданы: 25 сборников стихов и поэм, поэтическая эпопея в 60 тысяч строк, 20 пьес, 3 романа, 7 киносценариев, десятки рассказов, сказок и сотни публицистических работ. Его произведения печатаются почти во всех странах мира. Только в Советском Союзе издано около ста его книг.
А в автобиографии: «В моей Турции по-турецки печатать меня запрещено».
Из всех написанных им драм и трагедий это была для него самой тяжелой.
Я не стал его беспокоить, вернулся в свою машину, выключил радио и старался получше все вспомнить, что знал о Назыме Хикмете. Он – Нун Ха, как он подписывал свои пьесы в 1926 году, когда мы познакомились…
Нун Ха – это буквы турецкого алфавита, инициалы Назыма.
В темном зале клуба КУТВ (там сперва учился, а потом работал переводчиком Назым) шла репетиция. Когда-то в этом помещении на Страстной площади (ныне площадь Пушкина) находилось кабаре и кинематограф «Ша нуар» (черный кот). Потом клуб КУТВ. Потом кино «Центральный». Теперь строят новый корпус «Известий».
Актер

В плеяде великих русских трагиков – Мочалов, Каратыгин, Орленев, Качалов – он был младшим. Вся его жизнь прошла при мне. С ним связан самый мой большой провал в театре – самый большой, потому что первый. И самый большой успех. И его уже нет, и довольно давно, а все равно он со мной.
– Что смолкнул веселия глас?
Почему этот стих преследует меня…
Вот он лежит посреди огромной сцены театра, где так часто выст) пал, где раскланивался с публикой, внимательно глядя в зрительный зал. Невидимый оркестр играет Бетховена. Вокруг цветы, венки с лентами… От всех театров Москвы. Почетный караул. Речи. Мне шепчут, чтоб я приготовился… Никак не могу представить себе, о чем буду говорить. Все время наплывает фраза. Почему эта? Откуда она? Да и не подходит она теперь, совсем не подходит…
Что смолкнул веселия глас?
С чего начать?
Меня выталкивают к микрофону.
– Он был БОЛЬШОЙ, – говорю я.
И тут сразу приходит на ум тема моего выступления.
– Он был Большой. Во всем: в отношении к театру, к товарищам, к жизни. Срочно нужно издать книгу о нем, выпустить фильм, рассказывать молодежи. Чтоб люди на его примере учились быть большими.
На этой сцене, где и я раскланивался с публикой после премьер моих пьес и целовался с ним после «Ленинградского проспекта», жал руки актерам, – мне сейчас приходится говорить о нем… А он лежит на сцене, в цветах.
Он был драматический актер, трагик. Как писали о нем в статьях, последний трагик русского театра. При чем же здесь веселье? Он исторгал слезы и вызывал сострадание у зрителей. Его трагическим образам сочувствовали. Над судьбой его героев содрогались. Почему же «веселия глас»?
…Мы познакомились на Сретенке в двадцать девятом году, когда я принес в студию Завадского пьесу «Идут слоны».
Один из персонажей (его играл О. Абдулов) говорил, что остановить наступление нового времени на старый городок – все равно что пытаться остановить стадо слонов, когда оно неудержимо рвется к водопою.
Канувший безвозвратно в Лету один из начальников искусства забраковал название «Идут слоны» (под этим названием пьеса шла в Ленинграде), и мы назвали ее «Нырятин». Руководителем постановки был руководитель студии Ю. Завадский, режиссерами Н. Мордвинов и В. Балюнас.
Пьесу мою то начинали репетировать, то бросали, то опять начинали.
Студийцы жили плохо, бедно. Но все были молоды, энтузиасты. Сами убирали помещение, мыли полы, строили декорации. Исполняли и технические работы. Мордвинов был старшим электротехником. Налаживал прожекторы, освещал сцену. Неожиданно сыграл в инсценировке лавреневского «Рассказа о простой вещи».
Его контрразведчик Соболевский был красив, белозуб, импозантен. Он был сатаной: хитрым, безжалостным, лицемерным. Он был предтечей гитлеровских садистов…
Восхищенный игрой Мордвинова, друг Завадского, режиссер театра-студии Вахтангова и поэт Павел Антокольский, придя на спектакль, воскликнул: «Какой темперамент! Не грешно ли его назначать на роли злодеев? Ведь он же герой! Герой-любовник! Самое недостающее амплуа на театре!…»
…Заканчивалось строительство нового здания в Головиной переулке – подвал под большим домом. Из сберкассы нас (я говорю «нас», потому что тоже считался студийцем и был заведующим литературной частью) выселили. Иногда репетиции происходили на квартире у Марецкой, там, где некогда начинала Вахтанговская студия, а нынче жила Вера Петровна с сестрой и с маленьким сыном Женей (ныне режиссер Театра Моссовета).
Для того чтоб заработать хоть немного денег для переезда в новое помещение, студия поехала на гастроли в Ижевск. Повезли «Пробу» Колосова и Герасимовой, «Простую вещь» и «Любовью не шутят» Мюссе. Там, во время гастрольной поездки, репетировали. Мордвинов работал с Марецкой и Лебедевым. Иосиф Туманов привез письмо: Мордвинов просил посмотреть какую-то сцену по тексту, стеснялся того, что он стал режиссером, извинялся, что редко пишет. Разбирая старые рукописи, я нашел его письмо.
«Репетирую. Редко, но как будто с результатом. Боюсь говорить определенно, скользкое это дело и во многом не от меня зависит, но по намекам, как будто, нечто занятное – разболтался – перегибаю, не выгодно это. Не по-взрослому заниматься голубыми надеждами, не достойно «режиссера»… Шутки в бок. Слушай, Исидор, посмотри, пожалуйста, встречу Паразита со Степкой у Игоря в 5-й сцене. Что-то очень скоропалительно и в одно, у тебя-то нет, но вот Жорж (Лебедев) нуждается в более резкой, вернее, контрастной смене кусков. Не очень-то у него здесь выходит, хотя, может быть, на месте лучше договоримся…»
В письме этом удивительное сочетание серьезности, всегдашней мордвиновской серьезности, профессионального отношения к искусству и, одновременно, какой-то застенчивости, боязни показаться хвастуном, нескромным… Эти качества так у него и остались, сопровождали его всю жизнь. Представьте себе сегодня молодого режиссера, но уже известного Москве актера, пишущего двадцатидвухлетнему автору. Нет, наверно, этот не станет извиняться за вторжение в авторский замысел, не будет так деликатен. Он будет требовать, указывать, предписывать, грозить.
Когда пьеса проваливается, почти всегда (заметьте: «почти») всегда виноват автор. Когда имеет успех, «виноваты» все: актеры, режиссер, художник, композитор. В данном случае в неуспехе был виноват исключительно автор. Замахнувшись на большую, огромную по теме пьесу – маленький захолустный городок превращается в течение нескольких лет в столицу, во вторую Москву, – автор написал ряд не связанных между собою эпизодов. Хам были и смешные и трогательные сценки, а в общем нечто длинное и малоубедительное.
Завадский, выйдя в фойе после второго акта, услышал, как одна старушка говорила другой:
– Ну прямо никуда картинки, прямо никуда!
А на премьере – открывалось новое помещение на Сретенке, в Большом Головиной переулке, – присутствовали Мейерхольд с Зинаидой Райх (один из комсомольцев, как на грех, кричал, подбадривая своих товарищей: «Нe будьте, ребята, есенинскими вдовами!» – дескать, не падайте духом).
Москвин разрезал ленточку на сцене перед началом спектакля. И начался провал.
Нет, Мордвинов ни как актер (а играл он комсомольца Игоря, и играл очень хорошо), ни как режиссер не был повинен в провале.
Дружба наша не прекращалась, всегда радостно встречал он меня и напоминал, что я пред ним в долгу.
Театр Моссовета, куда перед войной вошли Завадский, Мордвинов, Плятт, Марецкая, принял к постановке после войны две мои пьесы. Обе пьесы не пошли, но обе были поставлены в других театрах впоследствии. Так уж вышло.
Но в двух этих непошедших пьесах Мордвинов должен был играть. И даже репетировал. В «Тумане над заливом» роль морского летчика Егорушкина и в «Караване» роль адмирала Щербака. Мы говорили о героях. Я написал несколько реплик, поясняющих биографии персонажей, их «допьесную жизнь».
– Ну ладно, – говорил он мне, – твой Щербак в пьесе уже адмирал, командующий флотом. А мне хочется, чтоб он в сцене с сыном вдруг сбросил с себя адмиральский мундир и поговорил. О Волге, о плесе, о барках. О любви… Ты понял? Идет война, гибнут люди… А тут такая щемящая пота – воспоминания о юности, о волжских просторах. Я ведь там вырос…
Когда он получил роль Щербака, вернее, сам попросил ее, после того как режиссер Шапс прочитал ему пьесу, он от руки переписал всю роль в тетрадочку. Так он всегда делал – переписывал роли рукой в тетрадочку. А на полях множество знаков, восклицаний, вопросов, подчеркиваний. Он, в ту пору уже прославленный артист, знаменитый Арбенин и Отелло, сидел дома и переписывал роль. Звонил телефон. Приглашали сниматься в кино, выступать в концертах. Он не подходил к телефону и писал…
У меня есть письма его, поздравительные с Новым годом, с другими праздниками. Писал он мелким, трудно разбираемым почерком. Боялся употреблять общеизвестные фразы, стертые, стандартные. Искал собственное слово…
Так он работал над всеми своими ролями. Внимательно, скрупулезно, пробуя, отказываясь, опять пробуя. Его Отелло отличался от всех других мавров на всех сценах мира. Он был резок, груб, воинствен, юн, нежен, растерян. Он, привыкший командовать и повелевать, превращался в ребенка, тихого, наивного, шаловливого. И он был страшен, он был оскорблен, он был убийцей. Он был безумен, когда убивал любимую. Он был раздавлен, когда узнавал о ее невиновности. Он был холоден и решителен, когда убивал сам себя. Он был олицетворением справедливости, цельности, бескомпромиссности.
Были люди, которые смотрели его в Отелло по много десятков раз. И каждый раз удивлялись богатству его эмоций, разнообразию его выразительных средств, голосу, движениям. Я был среди этих зрителей.
После спектакля он сидел на стуле в своей гримировочной комнате, изможденный, похудевший, с красными глазами… Долго не мог вернуться к себе самому.
В трех вариантах он сыграл Арбенина. Один раз в театре, другой раз в кинофильме, третий раз снова в театре. И в каждой постановке он был все лучше, все совершеннее. Целая литература написана о его исполнении Арбенина. А мне кажется – мало. Его бледное лицо, его руки, ловкие, нежные, страшные. Целый мир – мир азарта, гордости, восхищения, разочарования, вызова судьбе, безжалостности и горечи – нес он – Арбенин, с собой. Его партнеры – а все в этом спектакле играли неплохо – рядом с ним были малы, по пояс ему.
Я не видел его в «Короле Лире», о чем очень жалею. Говорят, это была не лучшая его роль, но мне почему-то не верится. Наверно, что-то мешало ему развернуть весь свой могучий талант. И может быть, ему следовало еще раз сыграть Лира и еще раз поставить эту трагедию, как было с «Отелло» и с «Маскарадом».
Он и собирался это сделать. Не успел…
Не успел он сыграть и генерала Хлудова в булгаков-ском «Беге», и Менделя Крика в бабелевском «Закате»… Как бы это обогатило театр и зрителей!
В самом конце пятидесятых годов я принес в театр «Ленинградский проспект» – современную бытовую драму из московской жизни.
Мой друг директор Миша Никонов и Юрий Александрович Завадский уговорили Мордвинова сыграть главную роль – старого рабочего Забродина. Да, кажется, долго уговаривать и не пришлось.
Но во время репетиций он вдруг потребовал от автора целой сцепы, где бы разговор шел о том, ради чего же мы живем. Я написал такую сцену. Он забраковал ее.
– Нет, Исидор, ты не бойся говорить о коммунизме. Прямо, в лоб. Пусть он спросит у сына: «А для чего ты, милый человек, живешь? Веришь ли ты в коммунизм? Или это так просто, болтают». Напиши все, что сейчас думает Забродин. Пиши много – все, что хочешь. Лишнее мы потом вымараем. Но пусть он выскажется. У него же накипело. Он же думает об этом ночами. Пусть все скажет.
– А не будет это сухо, декларативно?
– Нет, почему же, если оно будет идти от сердца…
Я написал. Так оно и осталось в пьесе. Так играли и другие Забродины.
Перед премьерой, на прогоне, не получался финал. Жидко было. Не хватало точки. Сноха Забродина Маша убирала квартиру. Напевала песню, ту самую, которую пела когда-то вместе с покойной Клавдией Петровной, женой Забродина. Маша ждала ребенка от сына Забродина, Бориса… Вот такой элегический, лирический финал. Но на прогоне стало ясно, что героем спектакля получается Забродин. Он был настолько весомее, значительнее, что, когда его не было на сцене, все невольно думали о нем. И когда он появлялся, все становилось на свои места.
Вместе с режиссером спектакля Ириной Сергеевной Анисимовой-Вульф мы думали-гадали, как бы поэффектнее закончить спектакль, что бы такое сделать, чтоб было и завершение, и начало чего-то нового в жизни Забродиных.
Когда закончился прогон, я спросил Мордвинова:
– А если тебе вернуться и сказать Маше: «Вот что… Перебирайтесь-ка вы с Борисом сюда, в большую комнату. А я туда, в маленькую, пойду, в вашу… Вас ведь теперь много будет…»
– Попробую. А ты Ирине говорил?
– Говорил. Она согласна. А ты?
Он никогда сразу не соглашался. Обдумывал. Пробовал.
Поздно вечером позвонил мне по телефону.
– Слушай! А можно я переставлю слова? Скажу: вас теперь будет много. Ты не возражаешь?
– Нет, не возражаю. Если тебе так удобнее.
– Вот послушай.
И он повторил фразу, начав ее словами: «Вот что, доченька…» А последнее слово протянул: «мно-о-ого».
– Вот послушай… Вас теперь будет мно-о-го.
– Да, так хорошо.
– Ну спасибо. Спокойной ночи.
Но его жена Ольга сказала, что он долго не спал, репетировал. Пробовал. Вышло. Так и играл, в такой редакции.
Ну-ка, товарищи молодые актеры, хватит у вас трудолюбия и скромности, честности, полного отсутствия фанаберии, чтоб так удивительно бережно обращаться с замыслом автора?
На генеральной репетиции он вышел на сцену, и у меня, сидящего в зрительном зале, похолодело сердце. Забродин – Мордвинов был удивительно похож на моего отца. Николай не знал его, никогда не видел: отец умер за три года до моего знакомства с Мордвиновым. Это было случайное совпадение. Николай Дмитриевич был мало загримирован. Только седые усы, седые брови. Я сказал ему о сходстве.
– Наверно, это хорошее предзнаменование?
Как все актеры, он был суеверен.
О «Ленинградском проспекте» и о Мордвинове – Забродине много написано. К сожалению, кинофильм снят не с ним. Жалко. Иной раз столько пленки зря изводим, а иной раз, когда надо, экономим. Во всяком случае, образ этот – сильного, самоотверженного, честного старого рабочего – вошел в галерею лучших его ролей.
Множество актеров сыграли эту роль на сценах разных городов и стран. Более двухсот театров – профессиональных, народных, самодеятельных – поставили эту пьесу. Идет она и в его родном театре, артист Жженов отлично играет главную роль. Во всех спектаклях незримо живет образ, впервые созданный Николаем Мордвиновым, звучат слова, придуманные нами вместе.
На открытии памятника на Новодевичьем прозвучали стихи:
Осенью шестьдесят пятого года мы встретились в Алма-Ате, на декаде русского искусства и русской литературы в Казахстане. С местной русской драматической труппой он играл «Ленинградский проспект». Перед спектаклем репетировал. Я зашел к нему в гримировочную. Он махнул рукой:
Здесь тени возле памятника бродят,
Ушел артист, но тени бродяг тут.
Отелло, Лир, Арбенин и Забродин
Навеки в памяти людей. Живут!…
– Ну зачем ты…
Волновался? Да, волновался. И играл очень хорошо, его прямо завалили цветами…
На следующий день читал в концерте «Песню о купце Калашникове». И великолепно разносился по залу филармонии его певучий голос.
В день окончания декады, на приеме, собрались все участники декады и хозяева, когда подносили традиционные бараньи головы, и произносили тосты, и пили казахское вино, слово было предоставлено народному артисту Советского Союза Николаю Мордвинову. Что он скажет? Как перекроет он прекраснейшие, красноречи-вейшие тосты? Что противопоставит он вдохновенным словам писателей, артистов, государственных деятелей? Где найдет слова для того, чтоб выразить наши чувства, рожденные благодарностью за щедрое гостеприимство?
Столы ломились от яств, плодов, цветов, вин.
Мордвинов поднял бокал. Оглядел всех. Улыбнулся широко. И тихо, как бы спрашивая у каждого из нас, сидящих за столом, произнес:
– Что смолкнул веселия глас?
А потом звонко, весело, задорно крикнул:
– Раздайтесь, вакхальны припевы!
Улыбнулся, засмеялся и прочитал сразу, залпом, все стихотворение. Только когда заговорил о ложной мудрости, которая мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума, словно тень пробежала по его лицу. Будто вспомнил что-то подлое, тяжелое. Потом махнул рукой и закончил, как нечто само собой разумеющееся:
– Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Конечно же да здравствует солнце, иначе и быть не может.
Он был образованный и начитанный человек. Прекрасный собеседник. Когда нужно – оратор. Но он не счел возможным закончить этот вечер словами своими. Он избрал Пушкина. Всем известное. Школьное. Хрестоматийное. А прозвучало это стихотворение так, будто произнесено оно впервые. Он был актер. Разве можно было полнее выразить наши чувства? Вряд ли.
Меня словно обожгло открытие – вот в чем причина успеха этого артиста! Он ненавидел уныние. В самых драматических своих образах он нес веселость. Веселость борьбы, жизни, драки. Помните, как в «Богдане Хмельницком» ходит по столу, сбивая бокалы? Помните, как Арбенин бросает карты, словно вызывая на бой судьбу? Помните, как размахивает огромным кнутом восставший против вожака цыган Юдко в «Последнем таборе»? Как держит на руках Дездемону Отелло? Как вспоминает вместе с Скворцом футбольные баталии Василий Забродин? Он же боец! Бесстрашный. Веселый в бою. Есть упоение в бою и в бездне мрачной на краю.
Кто мог написать такие слова и кто мог их произнести? Мужчина, витязь, боец.
В самых трагических ролях своих он был весел. И того же требовал от соратников своих. Погибать, так с музыкой! Что смолкнул веселия глас?!
Вот эта удаль, беззаветность, цельность и целеустремленность были душой его героев.
Есть упоение в бою.
На одном из его творческих вечеров его спросили, какой поэт ему ближе всего. Конечно, Пушкин! И Лермонтов, конечно. Но сначала Пушкин…
– Что смолкнул веселия глас?
Умер он ужасно рано. Не сыграл и половины тех ролей, которые сыграть должен был.
Почему такое темное облако легло на его лицо тогда, там, в Алма-Ате, когда он сказал: «Так ложная мудрость мерцает и тлеет…»
Что он имел в виду? О чем вспомнил?
Как-то мы беседовали у него в актерской уборной в Москве.
– Тебе нужен собственный театр, – сказал я.
– Что я там буду делать?
– Играть. Каждый день играть. Каждые полгода новую роль.
– Что я должен сыграть?
– Принесу тебе список ролей.
Я написал этот список. Там были Сальери, Скупой рыцарь, Борис Годунов, Городничий, Фамусов, Каренин, Хаджи Мурат… Всего более тридцати ролей.
Мордвинов усмехнулся:
– Не успею.
Не успел.
Но и то, что он сыграл, навсегда запомнилось. И его Мурзавецкий. И Сухово-Кобылин (в драме Голичникова и Попаригопуло). О Котовском, Хмельницком, Вожаке, Ученике Дьявола, Лире, Отелло, Забродине знают все. Лучшего Арбенина я не видел. И вряд ли увижу.
Почему Мордвинов не стал режиссером? Ведь он так хорошо относился к молодым, так много с ними всегда возился, так прекрасно знал сцену. Думаю, потому, что был слишком требователен. Требовал от актеров того, что и от себя самого: самоотверженности, непрерывного труда и совершенствования, отказа от мелких радостей жизни, дисциплины во всем. Был придирчив к другим так же, как к самому себе. Свершал подвиг ежедневно. Того же требовал от каждого актера. Крови. Не воды, не лимонада. Крови, Яго, крови!
Ну конечно же это нравилось не всем. Режиссеру, кроме требования подвигов от артистов, необходимо еще и терпение. Ему нужно уметь быть снисходительным к недостаткам. Прощать заблуждения, нерадивость. Мордвинов с этим не мирился!
Если молодой или старый актер не отвечал его непреклонным требованиям, он терял к этому актеру всякий интерес. Становился резким, неприятным, злым.
Он и театры-то из-за этого редко посещал. Посмотрит, посмотрит немного и уходит.
– Что-то я себя плохо чувствую сегодня… Вы уж извините…
– Может быть, вам не нравится?
– Да, в общем, не нравится.
Не любил кривить душой.
На собраниях выступал редко. От интервью отказывался.
– Юбилейный вечер? Нет, это потом как-нибудь…
Зато мог с друзьями ночи напролет беседовать о театре, о литературе, читать стихи, вспоминать… Был падок на смешное, очень ценил юмор, обожал остроумных и легких людей. Мало знавшим его он казался угрюмым, нелюдимым. К новым знакомствам относился с опаской, подозрительно. С друзьями был резок и откровенен. Иногда говорил неприятные слова. Любил петь под гитару. В гости ходить не любил. У меня он никогда не был. Несмотря на тридцатисемилетнее наше знакомство, встречались мы с ним только в театре. Театр был его домом, его профессией, его страстью.
Он терпеть не мог театральных дрязг, а их, увы, всегда хватает. Гнал от себя внутритеатральных и околотеатральных сплетников. Он не был равнодушен к славе своей. Почему же, ведь это неотделимо от искусства. Но у него не было болезненного, завистливого отношения к славе. Дружил со своими дублерами, помогал им. Ему не нужно было завидовать. Да и некому. Слава? Хватит на всех.
Скромных и застенчивых людей много. И талантливые есть. И тружеников множество. И людей, которым претят позерство, фанфаронство, театральная дешевка, – уйма. И деятелей искусства, которые умеют широко, в масштабе своего времени мыслить, хватает. Но в Мордвинове все эти качества соединились. Он был высок, красив, атлетически сложен, умен и обаятелен.
Он был актер. Большой. Огромный. Щедрый. Смелый. Веселый. И ужасно как его не хватает.
– Что смолкнул веселия глас?!
Нун Xа
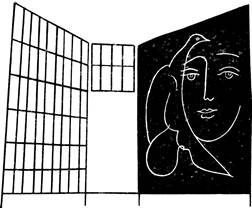
Проехав большую часть пути, вереница машин – их было девятнадцать, по числу делегаций, – остановилась. Делегации приехали из разных стран мира почтить память Караджале в связи с пятидесятилетием со дня его смерти. Память Иона Дуки Караджале, тоже писателя, тоже изгнанника, тоже скитальца.
Остановились на берегу Дуная. Уже приближался финиш прославленной магистрали. Вобрав в себя сотни рек, речушек, притоков, Дунай неудержимо стремился к морю. Он был широк, какого-то удивительно сине-черного цвета. Под Хыршовой еще не было моста, а была переправа на паромах. Десятки барж, маленьких и огромных, перебирались на другой берег.
Главный паром взял на свою могучую спину все наши девятнадцать автомобилей со всеми делегациями. Переправа продолжалась долго. Я подошел к черному «ЗИЛу» Назыма Хикмета.
Вера, жена его, дремала па переднем сиденье. А сам он, забившись в угол на заднем диване, что-то шептал и записывал в блокнот. Работал. Удивительный человек! Все время работает. Утром, когда я приходил в номер гостиницы, чтоб звать на завтрак в ресторан, он работал. Во время приемов, дома и в гостях, в поезде и в самолете, он садился куда-нибудь в уголок, шептал и записывал. Писал стихи. Обдумывал пьесы. Или новеллы. Вечером, вернувшись из театра или с заседания, работал.
Вот библиографическая справка. За шестьдесят один год жизни (то есть за сорок семь лет писательской деятельности) им созданы: 25 сборников стихов и поэм, поэтическая эпопея в 60 тысяч строк, 20 пьес, 3 романа, 7 киносценариев, десятки рассказов, сказок и сотни публицистических работ. Его произведения печатаются почти во всех странах мира. Только в Советском Союзе издано около ста его книг.
А в автобиографии: «В моей Турции по-турецки печатать меня запрещено».
Из всех написанных им драм и трагедий это была для него самой тяжелой.
Я не стал его беспокоить, вернулся в свою машину, выключил радио и старался получше все вспомнить, что знал о Назыме Хикмете. Он – Нун Ха, как он подписывал свои пьесы в 1926 году, когда мы познакомились…
Нун Ха – это буквы турецкого алфавита, инициалы Назыма.
В темном зале клуба КУТВ (там сперва учился, а потом работал переводчиком Назым) шла репетиция. Когда-то в этом помещении на Страстной площади (ныне площадь Пушкина) находилось кабаре и кинематограф «Ша нуар» (черный кот). Потом клуб КУТВ. Потом кино «Центральный». Теперь строят новый корпус «Известий».
