Страница:
Тесейон— большой храм в дорическом стиле;
Пестрый Портик(460 г. до н. э.), украшенный живописью Полигнота с Фасоса и Микона Афинского; дивный
храм Афинына Акрополе;
Парфенон, начатый в 448 г. до н. э. и оконченный в 437–438 гг. до н. э. Иктином и Калликратом;
Пропилеи, воздвигнутые Мнесиклом в 437–433 гг. до н. э.
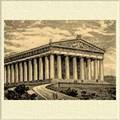 Парфенон. Вид с запада.
Парфенон. Вид с запада.
 Храм Эрехтейон на Акрополе. Реконструкция Ч. Нимана.
Храм Эрехтейон на Акрополе. Реконструкция Ч. Нимана.
Чрезвычайно замечательно описание Афин, хотя и относящееся к гораздо более позднему времени, одним из греческих ученых — Павсанием, жившим во II в. н. э. С любопытством осматривая многочисленные памятники Афин, еще уцелевшие во всей своей красоте со времен Перикла, он с восторгом описывает их, сообщая о каждом все то, что мог собрать от местных жителей, от жрецов при храмах, даже от женщин. Картина, которую он рисует, действительно поразительна. Афины, уже полуразрушенные, но все еще переполненные дивными произведениями искусства и бесчисленными памятниками красноречивой древности, спустя 700 лет после века Перикла все еще производили на ученого эллина чарующее впечатление. По этому впечатлению можно судить о том обаянии, которое производил этот дивный город в период своего полного процветания. Павсаний описывает Афины от самого вступления в город, со стороны Пирея, от гробниц именитых афинских мужей, которые с этой стороны возвышались по обеим сторонам дороги, до великолепных храмов и зданий, окружавших священный холм Акрополя. Он ведет за собой по широким улицам, уставленным бесконечными рядами бронзовых изображений, воздвигнутых в честь героев, полубогов и великих людей древности, описывает Пританей с его серебряными статуями, подробно говорит о фресках, передающих отдельные эпизоды Троянской войны и Марафонской битвы на стенах Пестрого Портика, с изумлением рассказывает о храме Зевса, украшенном ста двадцатью колоннами из фригийского и ливийского мрамора, о превосходных статуях, вставленных в его ниши, украшенных алебастром и золотом.
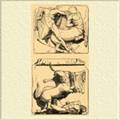 Битва с кентаврами. Барельефы Парфенона.
Битва с кентаврами. Барельефы Парфенона.
 Кариатиды храма Эрехтейон.
Кариатиды храма Эрехтейон.
От Пританея, по пути, окаймленному по обе стороны бронзовыми треножниками, он ведет к древнему храму Диониса и к обширному театру, украшенному мраморными изваяниями авторов трагедий и комедий, дивится громадной позолоченной голове Медузы Горгоны, художественно изображенной на щите, украшающем стену между театром и Акрополем, и затем переходит к описанию этой священной твердыни Афин, заключавшей в себе важнейшие святилища и святыни города и дивные сокровища искусства, принадлежавшие вдохновенному резцу Фидия и Праксителя. Павсаний особенно восторгается входом в Акрополь, украшенным конными статуями неизвестных ему всадников. «Этот вход, — говорит он, — был сделан из белого мрамора и как своими размерами, так и украшениями превосходит все изящнейшее из виденного мною». Чрезвычайно любопытно, что Павсаний подробно описывает знаменитое, причислявшееся тогда к чудесам света, изображение Афины Паллады, изваянное в колоссальном размере Фидием из золота и слоновой кости и бесследно исчезнувшее во время одного из афинских разгромов. «Статуя богини сделана из золота и слоновой кости, посреди ее шлема видно изображение сфинкса, богиня облечена в длинную одежду, покрывающую даже ее ступни. На груди Афины находится голова Медузы, изваянная из слоновой кости. Около богини — статуя Ники, почти четырех локтей в вышину. Афина в руках держит копье; около ее ног поставлен щит, а внизу, рядом с копьем, извивается змея».
 Мраморная статуя Афины, найденная в Афинах в 1880 г. Считается копией знаменитой Афины Парфенонской работы Фидия.
Мраморная статуя Афины, найденная в Афинах в 1880 г. Считается копией знаменитой Афины Парфенонской работы Фидия.
В то же время, что и в Афинах, горячая, неутомимая деятельность проявилась везде: великолепные постройки в Акраганте Сицилийском, храм Аполлона в Фигалии, телестрион в Элевсине относятся к этому же времени, а в 432 г. до н. э. был закончен храм Зевса в Олимпии, для которого величайший из скульпторов того времени, Фидий, изваял статую Зевса, почитаемую за совершеннейшее произведение древней пластики. [21]
 Зал храма Зевса в Олимпии с колоссальной статуей Зевса работы Фидия.
Зал храма Зевса в Олимпии с колоссальной статуей Зевса работы Фидия.
Реконструкция Г. Релендера.
Рядом с ним действовали его ученики — Алкамен, с произведениями которого знакомят раскопки в Олимпии, и Агоракрит; заслуживают упоминания и его соперники: ПоликлетАргосский и Мирониз Элевтер (из Аттики). От Фидия еще сохранились весьма значительные остатки его произведений, некогда украшавших Парфенон. Стоит сравнить совершеннейшие произведения ассирийского и египетского искусств с этими беспощадно изуродованными остатками цветущего периода искусств в Греции, чтобы убедиться в громадном прогрессе, который был сделан греками и особенно ясно бросается в глаза в этой области искусства, хотя и вообще проявился во всех областях творчества, как откровение нового умственного принципа. На глубокое соотношение высшего, идеальнейшего в одной ветви искусства, с высшим в другой указывает рассказ о том, как Фидий, создавая своего Зевса Олимпийского, припоминал те стихи из Илиады, в которых Гомер представляет этого бога в беседе с Фетидой, умоляющей его даровать славу ее сыну Ахиллу, первообразу всех эллинских героев. И вот то, что силой своего творческого таланта поэт воссоздавал в своем воображении задолго до Фидия, было здесь живо представлено Фидиевым резцом. Но в этот блестящий период и сама поэзия, в ином смысле, стала оживотворять свои образы, и этим путем производит такое глубокое впечатление на современное общество, какого никогда не удавалось достигнуть и самому Гомеру.
 Развалины Акрополя с южной стороны. На первом плане остатки здания Одеона и храма Асклепиада.
Развалины Акрополя с южной стороны. На первом плане остатки здания Одеона и храма Асклепиада.
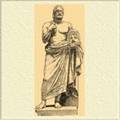 Еврипид. Античная статуя.
Еврипид. Античная статуя.
На самом же деле надо сказать, что и поэты на афинской почве были поставлены чрезвычайно благоприятно. Тот материал, который представляли поэтам сказания об их народных богах и героях, был и неисчерпаем, и удоборастяжим. Этот материал был уже разработан и в живом сказании, и в наивном народном изложении, и в передаче поэтов, и даже в скульптуре настолько, насколько желательно для драматического поэта. В народе этот материал был настолько знаком, что зритель или слушатель уже с полуслова схватывал и усваивал себе мысль поэта. Появление божественных существ в этих драмах никого не могло удивить: автор возвышал значение действия, и не только не оскорблял, но даже не затрагивал нравственного чувства, выводя на сцену Эвменид, Океанид, Аполлона или титана Прометея. Только высшего из богов, самого Зевса, авторы не выводили на сцену по естественному чувству религиозного такта — это также симптом немаловажный. Для диалога была избрана чрезвычайно удобная форма ямбического триметра, мало стеснявшего свободу языка и все же достаточно возвышавшего речь над уровнем обыденной действительности.
Идеальный элемент драмы был еще значительно усилен особенным искусственным средством — участием хора, который, не вникая глубоко в драматическое действие, служил, однако, как бы посредником между действием, происходившим на сцене, и зрителями, заставляя их смотреть на действие глазами действующих лиц и живее испытывать все ощущения, волновавшие их на сцене. Но этот мифологический элемент был, однако, настолько силен, что, увлекая фантазию в сверхъестественный мир, делал возможными на сцене даже такие мотивы (например, в мифе об Эдипе), которые теперь показались бы невыносимыми, а с другой стороны, — дозволял автору (как, например, Эсхилу в его «Персах») облекать в драматическую форму события из самого недавнего прошлого. Мифологическое покрывало, которое легко было накинуть на любой сюжет, до некоторой степени отнимало у сюжета реальную подкладку и как бы одухотворяло его. И театр еще не снизошел до обычной разговорной формы: представления происходили редко, и при Дионисийских празднествах были одной из частей, входивших в состав религиозного обряда. Уже само их значение вызывало в публике такое настроение, о каком невозможно иметь понятия при современных театральных представлениях. К этому еще прибавлялся и интерес, возбуждаемый состязанием авторов, которые иногда вызывали ожесточенную борьбу между зрителями, разделявшимися на партии. Только представив все эти условия, можно постигнуть, как могла публика в афинском театре высидеть все время, нужное для представления многих трилогий, одна за другой являвшихся на сцене, причем для необходимого успокоения и уравновешивания ощущений употребляли довольно наивный, но весьма действенный способ: вслед за трагедиями обыкновенно давали сатировскую драму, шутовскую интермедию с пляской, черпая ее сюжет из того же круга сказаний, к которому принадлежала трилогия.
 Статуэтка, изображающая греческого актера-трагика.
Статуэтка, изображающая греческого актера-трагика.
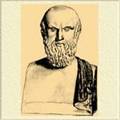 Эсхил. Античный бюст.
Эсхил. Античный бюст.
Эсхил и Софокл достаточно характеризуют богатство драматической литературы этого времени. Более молодой Еврипид показывает, как обыденные таланты пользовались этим богатством, как они его опошляли, как расточали, разбрасывали и как злоупотребляли им. Эсхил — старейший из всех драматургов, один из «марафонских бойцов», как сами греки называли суровых героев этого времени, которое вскоре стало им чуждым и не вполне понятным. Погружаясь в величавый мир богов первобытного времени, с некоторого рода мистическим настроением, Эсхил постоянно борется с мыслью, для которой не всегда находит подходящее выражение; следя за его драмами, невольно спрашиваешь себя: для кого, собственно, были сочинены хоры в его драмах, т. к. большинство зрителей никак не могло их понять, а читающая публика только еще начинала развиваться. По-видимому, этот великий и строгий писатель уже не совсем хорошо себя чувствовал в Афинах времени Перикла; но едва ли его удаление из Афин стояло в связи с появлением на сцене его величавой трилогии — «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды», которая явилась как бы ответом на демократические новшества 460 г. до н. э. В конце этой трилогии он выставляет древний ареопаг в полном значении и величии учреждения, глубоко сросшегося с жизнью народа. Вскоре после этого он покинул Афины и два года спустя умер в Геле, в Сицилии. Его младший современник Софокл всегда представляется более близким, потому что дает прекрасное в более легкой, ясной и доступной форме. Он принадлежал к тем счастливым смертным, которым судьба доставила возможность спокойно излить всю полноту своего гения в своих художественных произведений. Его долгая жизнь совпадает с блестящим периодом в жизни его народа; родившись во времена Марафонской битвы, он умер в глубокой старости, в тот самый год, когда Афины торжествовали свою последнюю победу в гибельной войне. Его драмы понимаются без всякого труда, потому что диалог, действие сделались в его время уже важнейшей частью драмы, а хор был поставлен в гармоническое соотношение с драматическим действием. Вполне ясный язык прекрасно передает идеи Софокла, глубокие, но не заключающие в себе ничего мистического. Ничто не может быть яснее, понятнее и вместе с тем трогательнее, как, например, в «Антигоне» это противопоставление государственного права и дочерней обязанности, писаного и неписаного закона, которое и приводит, наконец, к столкновению. Нельзя не упомянуть о том, что внешние условия, при которых эти пьесы ставились на сцене, были весьма разумны и не слишком уклонялись от естественности.
 Софокл. Античная статуя
Софокл. Античная статуя
Автор сам наблюдал за постановкой своей пьесы, хорами заведовали богатые, именитые граждане, которые принимали на себя почетную обязанность хорегов(руководителей хора), роли в драмах исполнялись хотя и не дилетантами, но тогда еще и не профессиональными актерами, и сцена, и места для зрителей тогда еще были устроены очень просто, и мало способствовали иллюзии, предоставляя воображению зрителей дополнять действие, и публика была не та, что теперь посещает театр, не вся знать и чернь, и не все энтузиасты, любители или люди, не знающие, чем себя развлечь… Публику составлял действительно весь народ, который, однако, обладал в самом широком смысле весьма тонким и естественным аристократизмом. И денежный вопрос, вопрос гонорара, был обойден чрезвычайно деликатно, он сводился к довольно значительному, почетному вознаграждению в виде жалования, которое государство от имени народа выплачивало победителю. Все отлично сознавали, что драматические произведения должны оказывать сильное влияние на дух народа; вот почему, например, на Фриниха был наложен штраф в 1 тысячу драхм за то, что он позволил себе избрать сюжетом трагедии, предназначенной для народа, такое горестное и возмутительное событие, как взятие Милета персами в 494 г. По замечанию одного из тончайших умов этого столь богатого талантами времени, «писатели для взрослых то же, что учителя для юношей»; и если Гомер и Гесиод создали для греков образы божеств, придали форму и определенность их еще грубым религиозным представлениям, то об Эсхиле и Софокле можно сказать, что они этому гомеровско-гесиодовскому миру богов и тем народным представлениям, которые были с ними связаны, придали более глубокое нравственно-религиозное содержание или извлекли из них и развили их нравственную сущность. Эсхил и Софокл и все современные им творческие умы, работавшие в других областях искусства и науки, несомненно имеют то достоинство, что еще несколько задержали развитие критики у этого народа, одаренного необычайно ясным разумением и склонного к скептицизму, и дали ему в период его полной зрелости полезный и целительный противовес в своих произведениях.
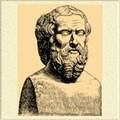 Геродот. Античный бюст.
Геродот. Античный бюст.
Родившись персидским подданным, но эллин по духу и плоти, Геродот умел трезво и серьезно усвоить резкую противоположность эллинства и варварства, и борьбу между эллинами и варварами положил в основу большого исторического сочинения, в котором собрал результаты целой жизни, проведенной в путешествиях и пытливых исследованиях. Он уже вполне ясно сознавал разницу между вымыслом и историей, и поэтому доискивался истины, действительности; что религия персов, в противоположность греческой, придавала важное значение правдивости, было ему известно и произвело на него глубокое впечатление. Он уже пользовался критикой для твердой установки факта и проявил замечательную справедливость в своих заключениях о людях и вещах. Можно сказать, что, в понимании чуждых национальностей (египтян, персов и многих других) он остался единичным явлением и ни один из последующих греческих историков его не только не превзошел, но и не сравнялся с ним в этом отношении. Он нашел себе отечество в Афинах, если только подобный ему исследователь может иметь отечество; умер он в Фуриях (в южной Италии), в младшей из афинских колоний, несколько лет спустя после начала злосчастной Пелопоннесской войны.
Оратор, обращаясь в своей речи к согражданам и родственникам павших, утешает их напоминанием, «за какой город» эти мужи пошли на смерть. «Начну с предков, — так говорит Перикл, — и справедливо, и вполне пристойно в данном случае воздать им честь признательного воспоминания. Предки наши, в непрестанном чередовании друг за другом следующих поколений, жили в этой стране и мужеством, и храбростью своей сумели доныне сохранить нам страну независимой. Итак, они достойны похвалы — и еще более ее достойны наши отцы. Они, ко всему, что от предков получили, приобрели еще то выдающееся политическое положение, которым мы пользуемся, приобрели не без труда, и передали его ныне живущим. …Дальнейшее, — так продолжал он с понятной гордостью, — к их приобретению добавили мы сами, мы, стоящие в расцвете жизни, и эту жизнь во всех отношениях так устроили, что она и в войне, и в мире одинаково находит себе полное удовлетворение. …Город наш не нуждается в подражании другим в своих законах; он сам может служить образцом для всех других. Демократия наша, имеющая в виду не малое количество людей, а всех граждан, каждому дает одинаковые права, в каком бы он ни был положении; свободно живем мы в нашем государстве, как равноправные члены одного целого, и среди ежедневных наших занятий мы не сетуем на того, кто живет для своего удовольствия или устраивает жизнь по своему желанию. Добродушно относясь друг к другу в наших частных отношениях, мы однако же тщательно храним в себе истинную стыдливость, побуждающую избегать всего беззаконного в общественных делах». И далее: «Мы создали весьма много средств для развлечения ума; весь год наш проходит среди празднеств, жертвоприношений и прекрасных, благородных препровождении времени; и город наш велик, к нему притекает отовсюду все, и мы можем одинаково пользоваться всем, что здесь произрастает, и всем, что к нам приводится, как своим собственным».
Затем оратор хвалит свой город за его отношение к чужеземцам, порицает в этом смысле Спарту за ее исключительность и добавляет: «Наш город открыт для всех». И военное дело, по указанию Перикла, ведется в Афинах иначе, нежели в Спарте: «Ничто не делается у нас тайно, и при воспитании юношества не требуется никакого тягостного воздержания: мы сами любим жить и даем жить другим, и, несмотря на это, мы не теряемся в опасности и умеем встретиться с нею лицом к лицу». Весьма подробно распространяется он о военных средствах своего города, его особенности как большой морской державы, и находит, что Афины заслуживают еще удивления и во многих других отношениях: «Ибо мы любим прекрасное, не стараясь блистать им, мы занимаемся и науками, не впадая в изнеженность. Богатство мы затрачиваем там, где оно необходимо на деле, а не ради хвастовства; мы не говорим, что бедность позорит человека — позорит человека только нежелание избавиться от бедности трудом». Иные смелы потому, что не знакомы с делом, что бродят в потемках, а они, афиняне, смелы потому, что постоянно действуют с полным сознанием. «И я, сводя все воедино, скажу так: весь этот город есть школа для Эллады. …Смеем сказать, что потомство будет нами дивиться, и мы не нуждаемся в Гомере, чтобы нас воспевать. Наша смелость открыла нам доступ во все моря и во все земли, и всюду мы оставили другим по себе вековечные памятники».
Так мог обращаться этот гражданин-монарх к своему царственному городу. Он только облекал в слова то, что каждый афинянин про себя думал, что думали даже подчиненные им союзники. «Они не имеют права сказать, — говорит Перикл, — что подчиняются недостойным».
 Терракотовая голова Пана
Терракотовая голова Пана
ГЛАВА ВТОРАЯ
 Греция в V–IV вв. до н. э.
Греция в V–IV вв. до н. э.
1. Афинский морской союз.
2. Спарта и ее союзники.
Основные военные действия.
Афинский союз.
3. 431–421 гг.
4. 415–404 гг.
Спарта и ее союзники.
5. 431–421 гг.
6. 415–404 гг.
7. Места и годы крупных сражений.
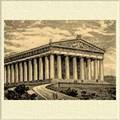

Чрезвычайно замечательно описание Афин, хотя и относящееся к гораздо более позднему времени, одним из греческих ученых — Павсанием, жившим во II в. н. э. С любопытством осматривая многочисленные памятники Афин, еще уцелевшие во всей своей красоте со времен Перикла, он с восторгом описывает их, сообщая о каждом все то, что мог собрать от местных жителей, от жрецов при храмах, даже от женщин. Картина, которую он рисует, действительно поразительна. Афины, уже полуразрушенные, но все еще переполненные дивными произведениями искусства и бесчисленными памятниками красноречивой древности, спустя 700 лет после века Перикла все еще производили на ученого эллина чарующее впечатление. По этому впечатлению можно судить о том обаянии, которое производил этот дивный город в период своего полного процветания. Павсаний описывает Афины от самого вступления в город, со стороны Пирея, от гробниц именитых афинских мужей, которые с этой стороны возвышались по обеим сторонам дороги, до великолепных храмов и зданий, окружавших священный холм Акрополя. Он ведет за собой по широким улицам, уставленным бесконечными рядами бронзовых изображений, воздвигнутых в честь героев, полубогов и великих людей древности, описывает Пританей с его серебряными статуями, подробно говорит о фресках, передающих отдельные эпизоды Троянской войны и Марафонской битвы на стенах Пестрого Портика, с изумлением рассказывает о храме Зевса, украшенном ста двадцатью колоннами из фригийского и ливийского мрамора, о превосходных статуях, вставленных в его ниши, украшенных алебастром и золотом.
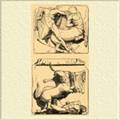

От Пританея, по пути, окаймленному по обе стороны бронзовыми треножниками, он ведет к древнему храму Диониса и к обширному театру, украшенному мраморными изваяниями авторов трагедий и комедий, дивится громадной позолоченной голове Медузы Горгоны, художественно изображенной на щите, украшающем стену между театром и Акрополем, и затем переходит к описанию этой священной твердыни Афин, заключавшей в себе важнейшие святилища и святыни города и дивные сокровища искусства, принадлежавшие вдохновенному резцу Фидия и Праксителя. Павсаний особенно восторгается входом в Акрополь, украшенным конными статуями неизвестных ему всадников. «Этот вход, — говорит он, — был сделан из белого мрамора и как своими размерами, так и украшениями превосходит все изящнейшее из виденного мною». Чрезвычайно любопытно, что Павсаний подробно описывает знаменитое, причислявшееся тогда к чудесам света, изображение Афины Паллады, изваянное в колоссальном размере Фидием из золота и слоновой кости и бесследно исчезнувшее во время одного из афинских разгромов. «Статуя богини сделана из золота и слоновой кости, посреди ее шлема видно изображение сфинкса, богиня облечена в длинную одежду, покрывающую даже ее ступни. На груди Афины находится голова Медузы, изваянная из слоновой кости. Около богини — статуя Ники, почти четырех локтей в вышину. Афина в руках держит копье; около ее ног поставлен щит, а внизу, рядом с копьем, извивается змея».

В то же время, что и в Афинах, горячая, неутомимая деятельность проявилась везде: великолепные постройки в Акраганте Сицилийском, храм Аполлона в Фигалии, телестрион в Элевсине относятся к этому же времени, а в 432 г. до н. э. был закончен храм Зевса в Олимпии, для которого величайший из скульпторов того времени, Фидий, изваял статую Зевса, почитаемую за совершеннейшее произведение древней пластики. [21]

Реконструкция Г. Релендера.
Рядом с ним действовали его ученики — Алкамен, с произведениями которого знакомят раскопки в Олимпии, и Агоракрит; заслуживают упоминания и его соперники: ПоликлетАргосский и Мирониз Элевтер (из Аттики). От Фидия еще сохранились весьма значительные остатки его произведений, некогда украшавших Парфенон. Стоит сравнить совершеннейшие произведения ассирийского и египетского искусств с этими беспощадно изуродованными остатками цветущего периода искусств в Греции, чтобы убедиться в громадном прогрессе, который был сделан греками и особенно ясно бросается в глаза в этой области искусства, хотя и вообще проявился во всех областях творчества, как откровение нового умственного принципа. На глубокое соотношение высшего, идеальнейшего в одной ветви искусства, с высшим в другой указывает рассказ о том, как Фидий, создавая своего Зевса Олимпийского, припоминал те стихи из Илиады, в которых Гомер представляет этого бога в беседе с Фетидой, умоляющей его даровать славу ее сыну Ахиллу, первообразу всех эллинских героев. И вот то, что силой своего творческого таланта поэт воссоздавал в своем воображении задолго до Фидия, было здесь живо представлено Фидиевым резцом. Но в этот блестящий период и сама поэзия, в ином смысле, стала оживотворять свои образы, и этим путем производит такое глубокое впечатление на современное общество, какого никогда не удавалось достигнуть и самому Гомеру.
Драма
Драматические представления были уже в это время главной составной частью Дионисийских празднеств. Заслуживает внимания то, что и к этой области искусства был применен принцип состязания, которого нигде не было на Востоке, между тем как в Греции везде, особенно на народных празднествах, состязания всякого рода занимают главное место. Знаменитые писатели добивались получения наград, которые ежегодно назначались от государства. В 483 г. до н. э. на этом поприще одержал первую свою победу Эсхил(род. в 525 г. до н. э. в Элевсине); в 468 г. до н. э. над ним уже одержал победу более молодой поэт, Софокл; третий, хотя и упоминаемый рядом с ними; но гораздо ниже их стоящий, Еврипид(он родился, кажется, в день Саламинской битвы), одержал первую победу на состязании 441 г. до н. э. Если принять в соображение, что Эсхил оставил 90 пьес, что Софоклу, достигшему глубокой старости, приписывают 113, и что александрийские ученые еще обладали 72 трагедиями Еврипида, то можно представить себе, как то время было богато умственной деятельностью, даже если взять только одну эту сторону афинской духовной жизни.
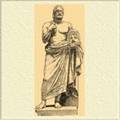
На самом же деле надо сказать, что и поэты на афинской почве были поставлены чрезвычайно благоприятно. Тот материал, который представляли поэтам сказания об их народных богах и героях, был и неисчерпаем, и удоборастяжим. Этот материал был уже разработан и в живом сказании, и в наивном народном изложении, и в передаче поэтов, и даже в скульптуре настолько, насколько желательно для драматического поэта. В народе этот материал был настолько знаком, что зритель или слушатель уже с полуслова схватывал и усваивал себе мысль поэта. Появление божественных существ в этих драмах никого не могло удивить: автор возвышал значение действия, и не только не оскорблял, но даже не затрагивал нравственного чувства, выводя на сцену Эвменид, Океанид, Аполлона или титана Прометея. Только высшего из богов, самого Зевса, авторы не выводили на сцену по естественному чувству религиозного такта — это также симптом немаловажный. Для диалога была избрана чрезвычайно удобная форма ямбического триметра, мало стеснявшего свободу языка и все же достаточно возвышавшего речь над уровнем обыденной действительности.
Идеальный элемент драмы был еще значительно усилен особенным искусственным средством — участием хора, который, не вникая глубоко в драматическое действие, служил, однако, как бы посредником между действием, происходившим на сцене, и зрителями, заставляя их смотреть на действие глазами действующих лиц и живее испытывать все ощущения, волновавшие их на сцене. Но этот мифологический элемент был, однако, настолько силен, что, увлекая фантазию в сверхъестественный мир, делал возможными на сцене даже такие мотивы (например, в мифе об Эдипе), которые теперь показались бы невыносимыми, а с другой стороны, — дозволял автору (как, например, Эсхилу в его «Персах») облекать в драматическую форму события из самого недавнего прошлого. Мифологическое покрывало, которое легко было накинуть на любой сюжет, до некоторой степени отнимало у сюжета реальную подкладку и как бы одухотворяло его. И театр еще не снизошел до обычной разговорной формы: представления происходили редко, и при Дионисийских празднествах были одной из частей, входивших в состав религиозного обряда. Уже само их значение вызывало в публике такое настроение, о каком невозможно иметь понятия при современных театральных представлениях. К этому еще прибавлялся и интерес, возбуждаемый состязанием авторов, которые иногда вызывали ожесточенную борьбу между зрителями, разделявшимися на партии. Только представив все эти условия, можно постигнуть, как могла публика в афинском театре высидеть все время, нужное для представления многих трилогий, одна за другой являвшихся на сцене, причем для необходимого успокоения и уравновешивания ощущений употребляли довольно наивный, но весьма действенный способ: вслед за трагедиями обыкновенно давали сатировскую драму, шутовскую интермедию с пляской, черпая ее сюжет из того же круга сказаний, к которому принадлежала трилогия.

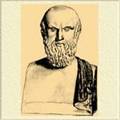
Эсхил и Софокл достаточно характеризуют богатство драматической литературы этого времени. Более молодой Еврипид показывает, как обыденные таланты пользовались этим богатством, как они его опошляли, как расточали, разбрасывали и как злоупотребляли им. Эсхил — старейший из всех драматургов, один из «марафонских бойцов», как сами греки называли суровых героев этого времени, которое вскоре стало им чуждым и не вполне понятным. Погружаясь в величавый мир богов первобытного времени, с некоторого рода мистическим настроением, Эсхил постоянно борется с мыслью, для которой не всегда находит подходящее выражение; следя за его драмами, невольно спрашиваешь себя: для кого, собственно, были сочинены хоры в его драмах, т. к. большинство зрителей никак не могло их понять, а читающая публика только еще начинала развиваться. По-видимому, этот великий и строгий писатель уже не совсем хорошо себя чувствовал в Афинах времени Перикла; но едва ли его удаление из Афин стояло в связи с появлением на сцене его величавой трилогии — «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды», которая явилась как бы ответом на демократические новшества 460 г. до н. э. В конце этой трилогии он выставляет древний ареопаг в полном значении и величии учреждения, глубоко сросшегося с жизнью народа. Вскоре после этого он покинул Афины и два года спустя умер в Геле, в Сицилии. Его младший современник Софокл всегда представляется более близким, потому что дает прекрасное в более легкой, ясной и доступной форме. Он принадлежал к тем счастливым смертным, которым судьба доставила возможность спокойно излить всю полноту своего гения в своих художественных произведений. Его долгая жизнь совпадает с блестящим периодом в жизни его народа; родившись во времена Марафонской битвы, он умер в глубокой старости, в тот самый год, когда Афины торжествовали свою последнюю победу в гибельной войне. Его драмы понимаются без всякого труда, потому что диалог, действие сделались в его время уже важнейшей частью драмы, а хор был поставлен в гармоническое соотношение с драматическим действием. Вполне ясный язык прекрасно передает идеи Софокла, глубокие, но не заключающие в себе ничего мистического. Ничто не может быть яснее, понятнее и вместе с тем трогательнее, как, например, в «Антигоне» это противопоставление государственного права и дочерней обязанности, писаного и неписаного закона, которое и приводит, наконец, к столкновению. Нельзя не упомянуть о том, что внешние условия, при которых эти пьесы ставились на сцене, были весьма разумны и не слишком уклонялись от естественности.

Автор сам наблюдал за постановкой своей пьесы, хорами заведовали богатые, именитые граждане, которые принимали на себя почетную обязанность хорегов(руководителей хора), роли в драмах исполнялись хотя и не дилетантами, но тогда еще и не профессиональными актерами, и сцена, и места для зрителей тогда еще были устроены очень просто, и мало способствовали иллюзии, предоставляя воображению зрителей дополнять действие, и публика была не та, что теперь посещает театр, не вся знать и чернь, и не все энтузиасты, любители или люди, не знающие, чем себя развлечь… Публику составлял действительно весь народ, который, однако, обладал в самом широком смысле весьма тонким и естественным аристократизмом. И денежный вопрос, вопрос гонорара, был обойден чрезвычайно деликатно, он сводился к довольно значительному, почетному вознаграждению в виде жалования, которое государство от имени народа выплачивало победителю. Все отлично сознавали, что драматические произведения должны оказывать сильное влияние на дух народа; вот почему, например, на Фриниха был наложен штраф в 1 тысячу драхм за то, что он позволил себе избрать сюжетом трагедии, предназначенной для народа, такое горестное и возмутительное событие, как взятие Милета персами в 494 г. По замечанию одного из тончайших умов этого столь богатого талантами времени, «писатели для взрослых то же, что учителя для юношей»; и если Гомер и Гесиод создали для греков образы божеств, придали форму и определенность их еще грубым религиозным представлениям, то об Эсхиле и Софокле можно сказать, что они этому гомеровско-гесиодовскому миру богов и тем народным представлениям, которые были с ними связаны, придали более глубокое нравственно-религиозное содержание или извлекли из них и развили их нравственную сущность. Эсхил и Софокл и все современные им творческие умы, работавшие в других областях искусства и науки, несомненно имеют то достоинство, что еще несколько задержали развитие критики у этого народа, одаренного необычайно ясным разумением и склонного к скептицизму, и дали ему в период его полной зрелости полезный и целительный противовес в своих произведениях.
Историческое повествование. Геродот
Они разделяли это достоинство с человеком, который был первым творцом первого исторического труда в Греции. То был Геродот Галикарнасский.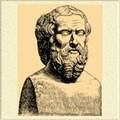
Родившись персидским подданным, но эллин по духу и плоти, Геродот умел трезво и серьезно усвоить резкую противоположность эллинства и варварства, и борьбу между эллинами и варварами положил в основу большого исторического сочинения, в котором собрал результаты целой жизни, проведенной в путешествиях и пытливых исследованиях. Он уже вполне ясно сознавал разницу между вымыслом и историей, и поэтому доискивался истины, действительности; что религия персов, в противоположность греческой, придавала важное значение правдивости, было ему известно и произвело на него глубокое впечатление. Он уже пользовался критикой для твердой установки факта и проявил замечательную справедливость в своих заключениях о людях и вещах. Можно сказать, что, в понимании чуждых национальностей (египтян, персов и многих других) он остался единичным явлением и ни один из последующих греческих историков его не только не превзошел, но и не сравнялся с ним в этом отношении. Он нашел себе отечество в Афинах, если только подобный ему исследователь может иметь отечество; умер он в Фуриях (в южной Италии), в младшей из афинских колоний, несколько лет спустя после начала злосчастной Пелопоннесской войны.
Философия
И философские исследования, впервые начавшиеся в Ионии, не прекращались в это полное независимости время; по самому своему существу, раз зародившись, этого рода исследования уже не могут быть остановлены. Наиболее замечательным из философов в этом веке был АнаксагорКлазоменский. Продолжая работу предшествовавших исследователей и доискиваясь «начала вещей» — вне чувственных ощущений, вне «обманов зрения и слуха» — стараясь определить сущность истинного бытия, он набрел на новое понятие о всеобъемлющем духе, создавшем вселенную — понятие, которое дало ему возможность вступить на новый путь исследования. Насколько смело шли этим путем исследователи того времени, проникая до последних границ человеческого сознания, доказывается не только множеством великих мужей, прославившихся в период 560–430 гг. до н. э. (Пифагор, Зенон, Демокрит, Эмпедокл, Парменид, Гераклит), но еще и тем, что тотчас по окончании этого периода и даже еще в конце его явилось весьма оригинальное философское движение — софистика, учение радикальное, отвергающее все религиозные традиции и гипотезы. Первые представители этого учения — Горгий Леонтинскийи Продик Кеосский— еще принадлежали веку Перикла.Речь Перикла
Все эти столь разнообразные стремления отражались в Афинах как в общем фокусе. Анаксагор был учителем, Фидий другом Перикла, и Геродот, читавший в Афинах в 445 г. до н. э. свой исторический труд или, скорее, некоторые его части и подготовительные работы, тоже принадлежал к числу горячих поклонников знаменитого государственного мужа. Одновременно с ними были живы и находились во цвете сил Эсхил и Софокл, и множество выдающихся людей, второстепенных и третьестепенных, во всех областях искусства и знания; а среди подрастающего поколения было опять-таки немало высокоталантливых людей. Афины того времени действительно были умственным центром Греции, а все красоты города, все художественные сооружения, великолепие театральных и музыкальных представлений, праздничных шествий и процессий — все служило могущественным средством к объединению эллинского народа, для которого Афины должны были стать столицей. Его политические мысли дошли в виде той речи, которую он держал несколько лет спустя, после начала решительной борьбы со Спартой, давно ожидавшейся Периклом. Своей речью он почтил первенцев между павшими в этой войне. Но его речь стоит в таком полном соответствии с политическим сознанием современных Периклу Афин, так полно выражает сущность всего, приобретенного человечеством до этого периода, что здесь нужно привести важнейшие места из нее.Оратор, обращаясь в своей речи к согражданам и родственникам павших, утешает их напоминанием, «за какой город» эти мужи пошли на смерть. «Начну с предков, — так говорит Перикл, — и справедливо, и вполне пристойно в данном случае воздать им честь признательного воспоминания. Предки наши, в непрестанном чередовании друг за другом следующих поколений, жили в этой стране и мужеством, и храбростью своей сумели доныне сохранить нам страну независимой. Итак, они достойны похвалы — и еще более ее достойны наши отцы. Они, ко всему, что от предков получили, приобрели еще то выдающееся политическое положение, которым мы пользуемся, приобрели не без труда, и передали его ныне живущим. …Дальнейшее, — так продолжал он с понятной гордостью, — к их приобретению добавили мы сами, мы, стоящие в расцвете жизни, и эту жизнь во всех отношениях так устроили, что она и в войне, и в мире одинаково находит себе полное удовлетворение. …Город наш не нуждается в подражании другим в своих законах; он сам может служить образцом для всех других. Демократия наша, имеющая в виду не малое количество людей, а всех граждан, каждому дает одинаковые права, в каком бы он ни был положении; свободно живем мы в нашем государстве, как равноправные члены одного целого, и среди ежедневных наших занятий мы не сетуем на того, кто живет для своего удовольствия или устраивает жизнь по своему желанию. Добродушно относясь друг к другу в наших частных отношениях, мы однако же тщательно храним в себе истинную стыдливость, побуждающую избегать всего беззаконного в общественных делах». И далее: «Мы создали весьма много средств для развлечения ума; весь год наш проходит среди празднеств, жертвоприношений и прекрасных, благородных препровождении времени; и город наш велик, к нему притекает отовсюду все, и мы можем одинаково пользоваться всем, что здесь произрастает, и всем, что к нам приводится, как своим собственным».
Затем оратор хвалит свой город за его отношение к чужеземцам, порицает в этом смысле Спарту за ее исключительность и добавляет: «Наш город открыт для всех». И военное дело, по указанию Перикла, ведется в Афинах иначе, нежели в Спарте: «Ничто не делается у нас тайно, и при воспитании юношества не требуется никакого тягостного воздержания: мы сами любим жить и даем жить другим, и, несмотря на это, мы не теряемся в опасности и умеем встретиться с нею лицом к лицу». Весьма подробно распространяется он о военных средствах своего города, его особенности как большой морской державы, и находит, что Афины заслуживают еще удивления и во многих других отношениях: «Ибо мы любим прекрасное, не стараясь блистать им, мы занимаемся и науками, не впадая в изнеженность. Богатство мы затрачиваем там, где оно необходимо на деле, а не ради хвастовства; мы не говорим, что бедность позорит человека — позорит человека только нежелание избавиться от бедности трудом». Иные смелы потому, что не знакомы с делом, что бродят в потемках, а они, афиняне, смелы потому, что постоянно действуют с полным сознанием. «И я, сводя все воедино, скажу так: весь этот город есть школа для Эллады. …Смеем сказать, что потомство будет нами дивиться, и мы не нуждаемся в Гомере, чтобы нас воспевать. Наша смелость открыла нам доступ во все моря и во все земли, и всюду мы оставили другим по себе вековечные памятники».
Так мог обращаться этот гражданин-монарх к своему царственному городу. Он только облекал в слова то, что каждый афинянин про себя думал, что думали даже подчиненные им союзники. «Они не имеют права сказать, — говорит Перикл, — что подчиняются недостойным».

ГЛАВА ВТОРАЯ
Распад эллинской нации. Пелопоннесская война
Города-государства
Приступая к изложению ближайшего периода, необходимо упомянуть о борьбе двух важнейших государств эллинского мира — Спарты и Афин за политическое преобладание. По этому поводу следует заметить, что, называя Спарту и Афины государствами, нужно сознавать, в какой степени это слово оказывается неудобным для передачи той идеи, которую хотелось бы выразить. Тот политический организм, весьма сложный и мудреный и весьма разнообразно устроенный, который в настоящее время называется государством, вовсе не соответствует простому и несложному понятию греков об их небольших, тесно сплоченных и цельно сложившихся политических организмах. Не было в то раннее время понятия о государстве, о державе как политической единице, не было и слова для несуществующего понятия. Поскольку все греческие государства развивались из того или другого политического центра, из города (полис по-гречески), то и сложившаяся в одно целое страна, которая тяготела к этому городу и почитала его центром, тоже носила название полиса, но уже не в смысле города, а именно в смысле маленького государственного организма. Вследствие этого всюду, под именами Афины, Спарта, Фивы и т. д. разумеется, в большей части случаев, вся совокупность граждан города и внегородского населения, которая этим городом олицетворялась, составляя с ним одно целое.
1. Афинский морской союз.
2. Спарта и ее союзники.
Основные военные действия.
Афинский союз.
3. 431–421 гг.
4. 415–404 гг.
Спарта и ее союзники.
5. 431–421 гг.
6. 415–404 гг.
7. Места и годы крупных сражений.
