Страница:
торжки (mercatura), посещаемые и римскими гражданами, и поселянами. Предметы роскоши привозились с Востока, через посредство греков. Но средства обмена были еще очень первобытными, ограничивались рогатым скотом и овцами, а настоящая торговля, подобная той, что была у этрусков и привела тех к обогащению и роскоши, была еще совсем не развита. Меры и числа были внесены в Италию уже древнейшими поселенцами; весьма древними были и некоторые условные знаки, как, например, вытянутый палец, обозначавший единицу, рука с пятью пальцами, обозначавшая
пять, две сложенные руки —
десяток. Есть основание, по некоторым выражениям (например, древнейшее название плебеев
приписными (conscripti)), что и само звуковое письмо, по утверждению некоторых исследователей появившееся к 1300 г. до н. э., здесь было введено очень рано. Понятия о законе были очень строги, более же всего строги в тех случаях, где речь шла о нарушении прав собственности. Взыскание долгов, в конце концов, приводило к тому, что кредиторам приходилось делить между собой «самого должника», или точнее вырученную от его продажи сумму. Все гражданские отношения совершались на широкой и либеральной основе: собственность свободно переходила из рук в руки и договоры заключались без особых формальностей. Исполнительная власть была очень сурова, расправа производилась быстро. Каждый пользовался своим правом без снисхождения, но зато и произвол был невозможен. Искусство и поэзия еще не украшали жизнь в эту отдаленную эпоху, и во время празднеств пляски предпочитались пению, как это можно видеть из одного драгоценного отрывка древней римской песни, которая состоит из простейших взываний к ларам и Марсу и заканчивается триумпом («прыжком» — triumpe).
Главным украшением жизни, главной прелестью и оживлением ее простейших форм была религия. В круг религиозных понятий, однако, не вносилось еще ничего ни поэтического, ни художественного, и духовная деятельность в создании мифов и образов выражалась очень слабо. Даже в названии месяцев или в подыскании имен детям не хватало изобретательности, и после четырех первых начинались уже повторения: Quintilis, Quintus, Sextilis, Sextus. Будничная трудовая жизнь поселянина прерывалась только жертвоприношениями и празднествами: в честь Юпитера, Марса и его, быть может, сабинского — двойника Квирина; богини Земли (Теллус), богини жатвы (Цереры), богини домашнего очага (Палее); сатурналии— празднества сева, терминалии— празднества межевых камней, луперкалии— празднества волков, и другие подобные.
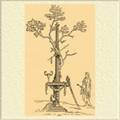 Жертвоприношение перед священным деревом (смоковницей, по преданию, посаженной Ромулом).
Жертвоприношение перед священным деревом (смоковницей, по преданию, посаженной Ромулом).
Один из новейших историков очень верно отмечает «отчасти весьма почтенную, отчасти же очень странную прямолинейность римской теологии», которая доходит даже до того, что создает «бога всяких начинаний, бога отверзающего» — Януса — и, придавая ему значение божества, соблюдающего вхождение в дом, с него и начинает придавать пластические изображения богам, изображая его двуликим. Служение этим богам, во главе которых стоит «высший и превосходнейший Юпитер» (Jupiter Optimus Maximus), носило на себе преимущественно веселый, светлый, не мрачный характер.
 Храм Юпитера Статора в Риме.
Храм Юпитера Статора в Риме.
Едва ли правы те, которые в некоторых обрядах римского богослужения видят остатки будто бы существовавших некогда человеческих жертвоприношений. В служении богам видна чрезвычайная точность в соблюдении мелочных обрядовых подробностей с некоторой примесью наивного страха, причем, однако, довольно ясно выказывается желание провести, перехитрить божество. Чтобы выполнять все сопряженные с богослужением обряды правильно, необходимо было прибегать к посредству сведущих людей, и потому в жрецах не было недостатка. Первоначально существовало два разряда таких сведущих людей: пятеро священнослужителей- понтификов(pontifices) с одним высшим представителем во главе (pontifex Maximus), и авгуры, умевшие отгадывать волю богов по полету и крику птиц. К этим двум разрядам жрецов примыкал еще третий — фециалыили вестники, на которых было возложено решение вопросов о войне и мире, а также любые внешние отношения; им до тонкости были известны те точные формы, в которых, согласно исконному обычаю, следовало требовать или давать соседям удовлетворение, объявлять войну или заключать мирные договоры между государствами. Несмотря на то значение, которым жрецы пользовались в римской жизни, они никогда не достигали в римском государстве значения самостоятельной силы, и даже частные лица — при всем своем желании и готовности всегда и везде воздавать «божье богу», не подпадали в зависимость от жрецов. Религиозные потребности большинства вполне удовлетворялись служением домашним богам — пенатамили ларам, благоволение которых приобреталось простыми жертвоприношениями: горстью муки, щепоткой соли, небольшим количеством вина, которое выплескивалось на огонь очага.
 Алтарь римского домашнего храма со стоящими на нем фигурками богов.
Алтарь римского домашнего храма со стоящими на нем фигурками богов.
Найден в Помпеях в 1882 г.
Замечательно было то, что именно этот недостаток в творческой, образной жизни фантазии, который не давал латинянам возможности создать свой яркий и вполне определенный мир богов, делал их чрезвычайно восприимчивыми ко всяким религиозным влияниям из чужбины и ко всяким иноземным богослужениям. Так, например, вполне чуждаясь и не понимая жизни этрусков в ее различных проявлениях, латиняне, однако, до некоторой степени поддались влиянию их мрачных и запутанных религиозных обрядов: они заимствовали от этрусков различные способы предсказания будущего или предупреждения всякого рода бедствий, например, ауспиции, или искусство гадания по внутренностям животных, и умение отклонять молнии при посредстве особых ям или колодцев, выложенных камнем. Но уже издревле гораздо более глубокое впечатление производили греческие религиозные воззрения, занесенные в Лаций греческими купцами и корабельщиками. Эллины прекрасно понимали свою выгоду: они вместе со своими товарами заносили сюда и рассказы о дивных прорицаниях и откровениях своих оракулов, и вероятно, что к знаменитейшему из них — Аполлону Дельфийскому — уже во времена царей правительством отправлялись посольства.
У римлян этой отдаленной эпохи не было, конечно, той глубокомысленной и благородной житейской мудрости, которая сквозит в каждом отдельном изречении дельфийского оракула, которым местное греческое сословие умело придавать формы, соответствующие религиозным верованиям народа. Древняя римская религия не была нравственной силой в высшем значении этого слова, хотя, конечно, и она, точно так же, как и другие, менее ее развитые религии, противоставляла пошлой действительности идеальный мир, хотя и она освещала своими скудными лучами душу человека и делала ее восприимчивой к откровениям из круга более чистой духовной жизни.
Несомненно то, что во времена двух последних царей, следовательно, в III в. от так называемого основания Рима, жизнь в столице Лация уже была не та, какой жили латиняне полтора века назад: она была и богаче, и привольнее. На это влияла, конечно, быстро распространившаяся колонизация эллинов, которая именно в этот период времени дала такой сильный толчок развитию народной жизни в Сицилии и Южной Италии, да и вообще во всем западном мире. Может быть, некоторое значение в этом оживлении имело и то соревнование, которое проявилось между эллинами и преобладавшими на западе этрусками и финикийцами, которые в своем «новом городе», Карфагене, в северной Африке, тоже заняли выдающееся положение.
 Так называемая гробница Тарквиниев.
Так называемая гробница Тарквиниев.
Предполагаемый склеп Тарквиниев найден в конце XIX в. в Цере. На его стенах 35 раз выбито имя Тарквиниев по-этрусски: «Тархна». Но этого еще недостаточно для утверждения, что это гробница римских Тарквиниев.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Прежде всего, в среде этих людей находились естественные вожди всего того слоя населения, к которому они сами принадлежали, а этот слой не имел поводов радоваться тому перевороту, который вместо насильственной травли отдельных неугодных лиц навязывал гнетущую и бессердечную тиранию целого сословия патрициев. Само их участие в куриях и даже право подачи голосов по центуриям не приносили им существенной пользы, т. к. в центуриях все вопросы в сущности решались голосами крупных землевладельцев, а курии не пользовались почти никаким политическим значением. Во всяком случае, участие плебеев и тут и там не облегчало той материальной нужды, которая очень быстро охватила большинство плебеев. Этот чисто экономический вопрос и придал вскоре политической жизни Рима более быстрое и более бурное течение. Общая воинская повинность и частые войны со своими неизбежными опустошениями постепенно привели многих плебеев к такому положению, что они должны были прибегать к займам у богатых людей, а эти долги при высоких процентах и строгом праве взыскания скоро совсем одолели бедняков. Даже счастливо кончавшиеся войны не помогали им, т. к. отвоеванная у неприятеля земля хоть и носила название общественной земли(ager publicus), в сущности же попадала исключительно в руки аристократов и ими обрабатывалась, за что они вносили в казну самый ничтожный и причем очень туго выплачиваемый налог. Такое положение дел, нередко выражавшееся в возмутительных частных случаях — в засаживании должника в темницу кредитором, в продаже его жены и детей в рабство, когда уже все остальное имущество должника распродано — привело вскоре после изгнания царей (около 494 г. до н. э.) к весьма важным событиям.
 Церера.
Церера.
Богиня земледелия, покровительница плебеев. Статуя, найденная в Остии в 1856 г.
Ватиканский музей.
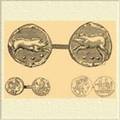 Монета вольсков (вверху).
Монета вольсков (вверху).
Изображение свиней, видимо, связано с тем, что на мысе близ города вольсков Цирцеи якобы некогда жила легендарная волшебница Цирцея, превращавшая людей в свиней.
Монета рода Фабиев (слева). Монета плебейских эдилов (справа).
АВЕРС. Голова Цереры и надпись: AED(elis) PL(ebis).
РЕВЕРС. Фигуры эдилов и надпись: M(arcus) FAN(nius) L(ucius) CR(i)T(onius) (Марк Фанний и Луций Критоний).
Известно и о происках патрициев, которые в течение шести лет (485–479 гг. до н. э.) предоставляют почти диктаторскую власть одному из своих родов, роду Фабиев, постоянно выбирая одного из них в консулы. Известно также об убийстве одного из трибунов, Гнея Генуция (473 г. до н. э.) с политической целью. И, несмотря на все подобные колебания, плебеи все же начинают понемногу приобретать все большее и большее значение. Особенно важен 471 г. в истории развития плебейских вольностей. Трибун Публилий Волеронв предшествовавшем году внес такого рода предложение: плебейские власти, т. е. народные трибуны и плебейские эдилыдолжны выбираться в собраниях плебеев по округам, а не в куриях, где перевес влияния всегда был на стороне патрициев. В 471 г. до н. э., когда Волерон вновь был выбран в трибуны, ему удалось провести этот закон. Несмотря на это, общее положение дел было неутешительным, потому что патриции со своим консулом и плебеи с трибунами относились друг к другу враждебно и эта внутренняя усобица должна была, конечно, в значительной степени ослаблять государство по отношению к его внешней политике.
 Этрусский лучник.
Этрусский лучник.
С рисунка в этрусской гробнице в Цере.
 Этрусский Марс. Бронзовая статуэтка.
Этрусский Марс. Бронзовая статуэтка.
Наступило время великого столкновения между Востоком и Западом, выразившегося в Персидских войнах, и исход этих войн до некоторой степени отразился и на этих отдаленных западных странах. В то же время, когда у аттических берегов персидская армада потерпела поражение при Саламине (480 г. до н. э.), карфагенское войско было разбито при Гимере в западной Сицилии армией знаменитого сиракузского тирана Гелона. Это поражение карфагенян навлекло грозу и на их союзников, этрусков, и наследник Гелона, Гиерон, шесть лет спустя одержал большую победу при Кимах над этрусским флотом (474 г. до н. э.). В это же время римляне начали вести на суше войну против самого южного из этрусских городов, могущественного г. Вейи— войну, которая длилась очень долго. Одновременно с этой войной из года в год упоминается о непрерывной борьбе против сабиняни эквов, производивших хищнические набеги из-за гор, с востока, и против вольсковна юге (племен, родственных между собой). Эти часто повторяющиеся набеги, вероятно, не представляли собой ничего особенно важного, и война против вольсков тоже тянулась долго без всяких решающих событий. Постоянная борьба привела к тому, что римляне, латиняне и небольшое племя герников заключили между собой тесный оборонительный союз для отпора общего врага (493–486 гг. до н. э.), но при этом Рим не занимал того преобладающего и гордого положения, какое приписывается римскими преданиями последнему из потомков царей в его отношениях к латинянам. Кроме того, нескончаемые войны доставили политическим партиям в Риме полнейшую возможность для обоюдных обвинений и подозрений и внушили наконец государственным людям и патриотам мысль о необходимости так или иначе закончить несчастную внутреннюю распрю, которая выражалась с одной стороны в деятельности консулов, с другой — в деятельности трибунов.
Главным украшением жизни, главной прелестью и оживлением ее простейших форм была религия. В круг религиозных понятий, однако, не вносилось еще ничего ни поэтического, ни художественного, и духовная деятельность в создании мифов и образов выражалась очень слабо. Даже в названии месяцев или в подыскании имен детям не хватало изобретательности, и после четырех первых начинались уже повторения: Quintilis, Quintus, Sextilis, Sextus. Будничная трудовая жизнь поселянина прерывалась только жертвоприношениями и празднествами: в честь Юпитера, Марса и его, быть может, сабинского — двойника Квирина; богини Земли (Теллус), богини жатвы (Цереры), богини домашнего очага (Палее); сатурналии— празднества сева, терминалии— празднества межевых камней, луперкалии— празднества волков, и другие подобные.
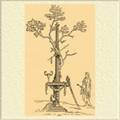
Один из новейших историков очень верно отмечает «отчасти весьма почтенную, отчасти же очень странную прямолинейность римской теологии», которая доходит даже до того, что создает «бога всяких начинаний, бога отверзающего» — Януса — и, придавая ему значение божества, соблюдающего вхождение в дом, с него и начинает придавать пластические изображения богам, изображая его двуликим. Служение этим богам, во главе которых стоит «высший и превосходнейший Юпитер» (Jupiter Optimus Maximus), носило на себе преимущественно веселый, светлый, не мрачный характер.

Едва ли правы те, которые в некоторых обрядах римского богослужения видят остатки будто бы существовавших некогда человеческих жертвоприношений. В служении богам видна чрезвычайная точность в соблюдении мелочных обрядовых подробностей с некоторой примесью наивного страха, причем, однако, довольно ясно выказывается желание провести, перехитрить божество. Чтобы выполнять все сопряженные с богослужением обряды правильно, необходимо было прибегать к посредству сведущих людей, и потому в жрецах не было недостатка. Первоначально существовало два разряда таких сведущих людей: пятеро священнослужителей- понтификов(pontifices) с одним высшим представителем во главе (pontifex Maximus), и авгуры, умевшие отгадывать волю богов по полету и крику птиц. К этим двум разрядам жрецов примыкал еще третий — фециалыили вестники, на которых было возложено решение вопросов о войне и мире, а также любые внешние отношения; им до тонкости были известны те точные формы, в которых, согласно исконному обычаю, следовало требовать или давать соседям удовлетворение, объявлять войну или заключать мирные договоры между государствами. Несмотря на то значение, которым жрецы пользовались в римской жизни, они никогда не достигали в римском государстве значения самостоятельной силы, и даже частные лица — при всем своем желании и готовности всегда и везде воздавать «божье богу», не подпадали в зависимость от жрецов. Религиозные потребности большинства вполне удовлетворялись служением домашним богам — пенатамили ларам, благоволение которых приобреталось простыми жертвоприношениями: горстью муки, щепоткой соли, небольшим количеством вина, которое выплескивалось на огонь очага.

Найден в Помпеях в 1882 г.
Замечательно было то, что именно этот недостаток в творческой, образной жизни фантазии, который не давал латинянам возможности создать свой яркий и вполне определенный мир богов, делал их чрезвычайно восприимчивыми ко всяким религиозным влияниям из чужбины и ко всяким иноземным богослужениям. Так, например, вполне чуждаясь и не понимая жизни этрусков в ее различных проявлениях, латиняне, однако, до некоторой степени поддались влиянию их мрачных и запутанных религиозных обрядов: они заимствовали от этрусков различные способы предсказания будущего или предупреждения всякого рода бедствий, например, ауспиции, или искусство гадания по внутренностям животных, и умение отклонять молнии при посредстве особых ям или колодцев, выложенных камнем. Но уже издревле гораздо более глубокое впечатление производили греческие религиозные воззрения, занесенные в Лаций греческими купцами и корабельщиками. Эллины прекрасно понимали свою выгоду: они вместе со своими товарами заносили сюда и рассказы о дивных прорицаниях и откровениях своих оракулов, и вероятно, что к знаменитейшему из них — Аполлону Дельфийскому — уже во времена царей правительством отправлялись посольства.
У римлян этой отдаленной эпохи не было, конечно, той глубокомысленной и благородной житейской мудрости, которая сквозит в каждом отдельном изречении дельфийского оракула, которым местное греческое сословие умело придавать формы, соответствующие религиозным верованиям народа. Древняя римская религия не была нравственной силой в высшем значении этого слова, хотя, конечно, и она, точно так же, как и другие, менее ее развитые религии, противоставляла пошлой действительности идеальный мир, хотя и она освещала своими скудными лучами душу человека и делала ее восприимчивой к откровениям из круга более чистой духовной жизни.
Несомненно то, что во времена двух последних царей, следовательно, в III в. от так называемого основания Рима, жизнь в столице Лация уже была не та, какой жили латиняне полтора века назад: она была и богаче, и привольнее. На это влияла, конечно, быстро распространившаяся колонизация эллинов, которая именно в этот период времени дала такой сильный толчок развитию народной жизни в Сицилии и Южной Италии, да и вообще во всем западном мире. Может быть, некоторое значение в этом оживлении имело и то соревнование, которое проявилось между эллинами и преобладавшими на западе этрусками и финикийцами, которые в своем «новом городе», Карфагене, в северной Африке, тоже заняли выдающееся положение.
Устранение царской власти
По весьма маловероятному и позднее сложившемуся сказанию кроткому и правдивому царю Сервию Туллию наследовал жестокий Тарквиний Гордый, который будто бы заставил трепетать и этрусков, живших по ту сторону Тибра, и равно теснил под игом своей власти и латинян, и некоторые соседские племена (герников и вольсков на юге), и даже собственный народ, в лице патрициев и плебеев. Далее предание гласит, что около 510 г. до н. э. дерзкое насилие, совершенное сыном Тарквиния над благородной римлянкой, послужило поводом к восстанию, которое в один день покончило с жестоким правлением Тарквиния и обратило римскую общину в свободное государство — в республику.
Предполагаемый склеп Тарквиниев найден в конце XIX в. в Цере. На его стенах 35 раз выбито имя Тарквиниев по-этрусски: «Тархна». Но этого еще недостаточно для утверждения, что это гробница римских Тарквиниев.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Внутренний и внешний рост Римской республики до законодательства Лициния (510–367 гг. до н. э.)
Отмена царской власти. 510 г.
Падение царской власти в Риме было в том историческом мире не единичным явлением: во многих местностях Греции и Италии в это же время совершился подобный переворот, сопровождавшийся где большими, где меньшими насилиями. Судя по различным и весьма многословным рассказам о том, какие попытки делал изгнанный римский царь, стараясь возвратить себе власть путем то открытых переговоров, то тайных заговоров, то вооруженной рукой, при помощи латинян и этрусков, можно прийти к заключению, что переворот совершился не так быстро, и не разом, как сообщает предание. «Изгнание царей» — ему даже была придана известного рода законная форма в виде приговора об изгнании из Рима всего «рода Тарквиниев» (gens Tarquinia) на вечные времена — послужило в римской истории эрой, с которой была введена республиканская форма правления. Эта эра начинается с 510 г. до н. э.Консулы. Правление патрициев
Переворот был совершен, очевидно, высшими классами, патрициями, и поэтому ближайшая эпоха, последовавшая за переворотом, носит несомненно аристократический характер. Пожизненная власть царей была заменена властью двоих сановников, консулов, которые избирались и сменялись ежегодно. Но правящее сословие, для некоторых чрезвычайных случаев, вынуждено было сохранить некоторую тень царского полновластия в виде власти выборного диктатора, который избирался не более чем на 6 месяцев; и во время такой диктатуры все остальные сановники уже бездействовали или вполне подчинялись воле диктатора. Консулы (как и цари в былое время) назначали себе преемников, но при этом выборы должны были ограничиваться только тем кружком лиц, который им был указан гражданами; следовательно, в действительности эти высшие представители власти были избираемы, да еще в комициях центуриатных, которые именно в данное время и приобрели первенствующее значение. А в этих комициях перевес был на стороне высших, наиболее зажиточных классов. Таким образом, и консульства, и диктатура оказывались доступными только патрициям.Положение плебеев
Сенат, на долю которого после устранения царской власти, естественно, выпадало наиболее важное и наиболее влиятельное положение в государстве, несколько изменился в своем составе, когда к нему были присоединены, в качестве приписных членов, некоторые наиболее именитые плебеи. Однако этим приписным членам не были даны ни одежда, ни внешние почетные права «отцов», и даже право на участие в прениях сената они получали только тогда, когда председатель обращался к ним с вопросом и требовал их мнения. Более того, на консулов была возложена обязанность каждые четыре года проверять список членов сената, и они легко могли производить эту проверку в духе своего патрицианского сословия, т. к. были проникнуты его узкими, эгоистическими стремлениями. Тем не менее, однако, этим учреждением приписным членам было положено основание плебейской аристократии, наравне со старинной патрицианской, и этим людям, вышедшим из именитых плебейских семей, будущее принадлежало в гораздо большей степени, чем того могла предполагать близорукая знать.Прежде всего, в среде этих людей находились естественные вожди всего того слоя населения, к которому они сами принадлежали, а этот слой не имел поводов радоваться тому перевороту, который вместо насильственной травли отдельных неугодных лиц навязывал гнетущую и бессердечную тиранию целого сословия патрициев. Само их участие в куриях и даже право подачи голосов по центуриям не приносили им существенной пользы, т. к. в центуриях все вопросы в сущности решались голосами крупных землевладельцев, а курии не пользовались почти никаким политическим значением. Во всяком случае, участие плебеев и тут и там не облегчало той материальной нужды, которая очень быстро охватила большинство плебеев. Этот чисто экономический вопрос и придал вскоре политической жизни Рима более быстрое и более бурное течение. Общая воинская повинность и частые войны со своими неизбежными опустошениями постепенно привели многих плебеев к такому положению, что они должны были прибегать к займам у богатых людей, а эти долги при высоких процентах и строгом праве взыскания скоро совсем одолели бедняков. Даже счастливо кончавшиеся войны не помогали им, т. к. отвоеванная у неприятеля земля хоть и носила название общественной земли(ager publicus), в сущности же попадала исключительно в руки аристократов и ими обрабатывалась, за что они вносили в казну самый ничтожный и причем очень туго выплачиваемый налог. Такое положение дел, нередко выражавшееся в возмутительных частных случаях — в засаживании должника в темницу кредитором, в продаже его жены и детей в рабство, когда уже все остальное имущество должника распродано — привело вскоре после изгнания царей (около 494 г. до н. э.) к весьма важным событиям.

Богиня земледелия, покровительница плебеев. Статуя, найденная в Остии в 1856 г.
Ватиканский музей.
Удаление плебеев из Рима
Случилось, что понадобилось набрать войско против вольсков, и масса плебеев при этом отказалась нести военную службу. Консулу удалось различными обещаниями сломить их сопротивление. Дважды выводили войска в поле и бились с врагом счастливо, но когда после возвращения из второго похода обещания, подтвержденные дружественным народу диктатором Манием Валерием Волузом, не были приведены сенатом в исполнение, плебеи решились на весьма смелый шаг. Построившись в воинские ряды, в полном боевом порядке они переправились через реку Анио, впадающую в Тибр на несколько часов пути выше Рима, и заняли возвышенность, которая позднее получила название Священной горы (Mons Sacer). Там они стали готовиться к постройке собственного плебейского города. Эта внушительная демонстрация вынудила сенат вступить с ними в переговоры. Менений Агриппа, человек доброжелательный, сумел подействовать на плебеев известной притчей о споре членов тела с головой и желудком, убедил их в крайнем вреде междоусобия, и плебеи обусловили свое возвращение из Рима формальным договором, на основании которого была учреждена новая и весьма важная должность народных трибунов(tribuni plebis). Таким образом, у сословия плебеев в государстве появились свои представители, свой, и притом весьма деятельный, орган для выражения их дальнейших желаний и происков.Политическая борьба плебеев с патрициями
Эти народные трибуны (сначала двое, а потом уже пятеро) избирались ежегодно, имели право защищать каждого из плебеев против любого распоряжения правительственного чиновника, и тем самым кассировать его исполнение. Из этого права трибунов и из неприкосновенности их особы, которая по закону считалась «священной», развились впоследствии самые нежелательные результаты: трибун мог созывать народ и влиять на его решения, на подготовку выборов; он присутствовал на сенатских заседаниях в курии и никто не смел отогнать его от порога. Само право защиты каждого плебея от распоряжений правительства, в сущности, было равносильно праву избавлять народ от тягостей военной службы и взыскания налогов. Такой результат оказался опасным даже с точки зрения общественного блага, и внутренняя борьба трибунов против консулов, чиновников-плебеев против чиновников-патрициев по-прежнему продолжалась с большим ожесточением. Способствовало раздражению и то, что вопрос об общественной земле все еще оставался нерешенным, хотя весьма видный государственный деятель, Спурий Кассий, во время своего третьего консульства (486 г. до н. э.) пытался решить его посредством первого аграрного закона. Об этом времени сохранилось много рассказов, довольно запутанных и украшенных вымыслом, однако характеризующих общее положение дел в республике в это смутное время. Из них можно узнать об изгнании патриция, лютого врага плебеев, Гая Марция Кориолана, который возвращается под стены Рима с войском вольсков, приютивших его у себя, и осаждает родной город; о сабинском выходце Аппии Гердонии, который, предводительствуя шайкой изгнанников и поддерживаемый своими приверженцами в Риме, во время ночного нападения захватывает Капитолий, и о том, что граждане должны были изгонять его оттуда вооруженной рукой.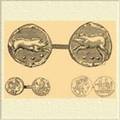
Изображение свиней, видимо, связано с тем, что на мысе близ города вольсков Цирцеи якобы некогда жила легендарная волшебница Цирцея, превращавшая людей в свиней.
Монета рода Фабиев (слева). Монета плебейских эдилов (справа).
АВЕРС. Голова Цереры и надпись: AED(elis) PL(ebis).
РЕВЕРС. Фигуры эдилов и надпись: M(arcus) FAN(nius) L(ucius) CR(i)T(onius) (Марк Фанний и Луций Критоний).
Известно и о происках патрициев, которые в течение шести лет (485–479 гг. до н. э.) предоставляют почти диктаторскую власть одному из своих родов, роду Фабиев, постоянно выбирая одного из них в консулы. Известно также об убийстве одного из трибунов, Гнея Генуция (473 г. до н. э.) с политической целью. И, несмотря на все подобные колебания, плебеи все же начинают понемногу приобретать все большее и большее значение. Особенно важен 471 г. в истории развития плебейских вольностей. Трибун Публилий Волеронв предшествовавшем году внес такого рода предложение: плебейские власти, т. е. народные трибуны и плебейские эдилыдолжны выбираться в собраниях плебеев по округам, а не в куриях, где перевес влияния всегда был на стороне патрициев. В 471 г. до н. э., когда Волерон вновь был выбран в трибуны, ему удалось провести этот закон. Несмотря на это, общее положение дел было неутешительным, потому что патриции со своим консулом и плебеи с трибунами относились друг к другу враждебно и эта внутренняя усобица должна была, конечно, в значительной степени ослаблять государство по отношению к его внешней политике.
Внешние враги
Во внешней политике в последние 40 лет, прошедшие со времени падения царской власти, Рим значительно отстал. Все, что известно о внешних отношениях, основывается на сказаниях, которым нельзя доверять в подробностях, но в общем ход внешней политики проследить нетрудно. Опаснейшим врагом являлись этрускина севере и, по преданиям, известно о весьма опустошительном походе этого народа под предводительством царя Ларса Порсены из Клузия, в связи с попытками восстановления царской власти в пользу Тарквиния. Как ни стараются предания выставить на вид различные геройские подвиги, совершенные римскими воинами, нет ни малейшей возможности скрыть то тяжелое поражение, которое было нанесено тогда Риму. Торжествующий враг довел побежденный им город до такого унижения, что римляне должны были обязаться не употреблять железо ни на что другое, кроме земледельческих орудий. Однако это преобладание этрусков в Лации было непродолжительным.
С рисунка в этрусской гробнице в Цере.

Наступило время великого столкновения между Востоком и Западом, выразившегося в Персидских войнах, и исход этих войн до некоторой степени отразился и на этих отдаленных западных странах. В то же время, когда у аттических берегов персидская армада потерпела поражение при Саламине (480 г. до н. э.), карфагенское войско было разбито при Гимере в западной Сицилии армией знаменитого сиракузского тирана Гелона. Это поражение карфагенян навлекло грозу и на их союзников, этрусков, и наследник Гелона, Гиерон, шесть лет спустя одержал большую победу при Кимах над этрусским флотом (474 г. до н. э.). В это же время римляне начали вести на суше войну против самого южного из этрусских городов, могущественного г. Вейи— войну, которая длилась очень долго. Одновременно с этой войной из года в год упоминается о непрерывной борьбе против сабиняни эквов, производивших хищнические набеги из-за гор, с востока, и против вольсковна юге (племен, родственных между собой). Эти часто повторяющиеся набеги, вероятно, не представляли собой ничего особенно важного, и война против вольсков тоже тянулась долго без всяких решающих событий. Постоянная борьба привела к тому, что римляне, латиняне и небольшое племя герников заключили между собой тесный оборонительный союз для отпора общего врага (493–486 гг. до н. э.), но при этом Рим не занимал того преобладающего и гордого положения, какое приписывается римскими преданиями последнему из потомков царей в его отношениях к латинянам. Кроме того, нескончаемые войны доставили политическим партиям в Риме полнейшую возможность для обоюдных обвинений и подозрений и внушили наконец государственным людям и патриотам мысль о необходимости так или иначе закончить несчастную внутреннюю распрю, которая выражалась с одной стороны в деятельности консулов, с другой — в деятельности трибунов.
