Страница:
Знала, доподлинно многое знала мать Филонилла, бывшая в мирской жизни Федосьей и находясь тогда мамкой да нянькой в царском дворце. Великим чудом убереглась в лихие дни от расправы за приверженность к мятежной царевне Софье, не желавшей подчиняться царю Петру. Посчастливилось ей, Федосье, убежать из Москвы да укрыться в заволжских лесах близко Керженца, где и приняла свое иночество в старообрядческом скиту. А теперь вот и оттуда пришлось бежать в полунощный этот край.
– Грех ходит кругом. Разбой, распутство, жить страшно, – ужасалась мать Филонилла. – Истомила людей холодная, бессонная, многотрудная жизни ночь. Нищие под оконцем мирских жителей одолевают. Из последних сил надрываются горе-горькие люди.
Правды в таких словах много. Помнит он, Флегонт-Гервасий, галерную каторгу. Шла и продолжает идти сумятица в жизни. Тьма в сердцах и тьма в умах. Не хотят властные вершители людских судеб добра подчиненным потому, что сами добра не знают, а злом живут, постоянным людским притеснением. И виновником тяжкой жизни народной он, антихрист, царь Петр. Сколько же людей на Руси каждодневно о царе, на его пагубу, молится, сколько свечек вниз фитилями жгут! Знай царь об этом – вовсе бы молиться запретил под страхом наказания смертью.
– Одна надёжа, – всхлипывала мать Филонилла, – одно людям спасение от антихристовых мук, и придет оно от истинно христианского царя-царевича Алексея Петровича, рожденного страдалицей государыней Евдокией Федоровной, принявшей монастырское иночество. На царевича Алексея наше все упование. Ведомо, что он первый нежелатель жизни родителя, не признает его за отца, а считает злейшим врагом своим. Говорит, что от царя Петра всем людям зло, а когда на царское великое сидение взойдет он, Алексей, то благодать на народ сойдет. Надо его, царевича Алексея, на царство ставить.
Словно откровением явились отцу Флегонту-Гервасию эти слова, и многодумно провел он не одну бессонную ночь, приходя к непреклонному решению, и молитва в том его утверждала. Он, Флегонт, принявший на себя имя мученика Гервасия, совершит великий подвиг, учиня справедливый свой суд над царем Петром, и казнит его смертью за бесчисленное множество бед людских, виновником коих был и есть он, антихрист, скрывающий под видом царя подлинный свой лик. Надо убить его. Клятвенное обещание исполнить это нашептал Флегонт богу в ночной темноте. Может, царь когда-нибудь сам сюда на железный завод прибудет, а нет – так придется уйти из Выговской пустыни и искать встречи с ним.
С радостью, с просветленным лицом свершит Флегонт-поп задуманное и не устрашится мук, кои придется претерпеть за содеянное, с легким сердцем отдаст свою жизнь за избавление тысяч и тысяч людей от тирана-антихриста. И пусть под ласковой десницей царевича Алексея облегченно вздохнет многострадальный русский народ.
Да свершится так!
Глава вторая
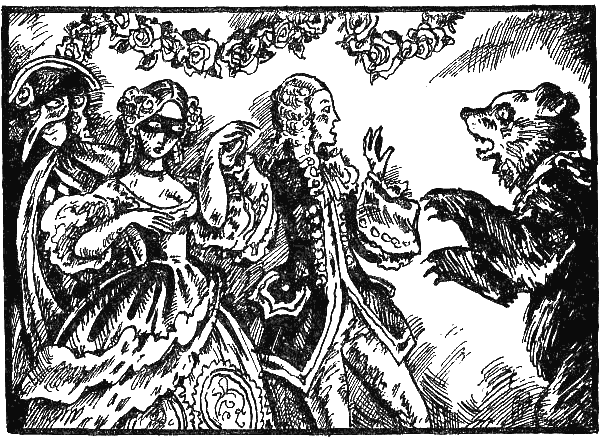
I
II
– Грех ходит кругом. Разбой, распутство, жить страшно, – ужасалась мать Филонилла. – Истомила людей холодная, бессонная, многотрудная жизни ночь. Нищие под оконцем мирских жителей одолевают. Из последних сил надрываются горе-горькие люди.
Правды в таких словах много. Помнит он, Флегонт-Гервасий, галерную каторгу. Шла и продолжает идти сумятица в жизни. Тьма в сердцах и тьма в умах. Не хотят властные вершители людских судеб добра подчиненным потому, что сами добра не знают, а злом живут, постоянным людским притеснением. И виновником тяжкой жизни народной он, антихрист, царь Петр. Сколько же людей на Руси каждодневно о царе, на его пагубу, молится, сколько свечек вниз фитилями жгут! Знай царь об этом – вовсе бы молиться запретил под страхом наказания смертью.
– Одна надёжа, – всхлипывала мать Филонилла, – одно людям спасение от антихристовых мук, и придет оно от истинно христианского царя-царевича Алексея Петровича, рожденного страдалицей государыней Евдокией Федоровной, принявшей монастырское иночество. На царевича Алексея наше все упование. Ведомо, что он первый нежелатель жизни родителя, не признает его за отца, а считает злейшим врагом своим. Говорит, что от царя Петра всем людям зло, а когда на царское великое сидение взойдет он, Алексей, то благодать на народ сойдет. Надо его, царевича Алексея, на царство ставить.
Словно откровением явились отцу Флегонту-Гервасию эти слова, и многодумно провел он не одну бессонную ночь, приходя к непреклонному решению, и молитва в том его утверждала. Он, Флегонт, принявший на себя имя мученика Гервасия, совершит великий подвиг, учиня справедливый свой суд над царем Петром, и казнит его смертью за бесчисленное множество бед людских, виновником коих был и есть он, антихрист, скрывающий под видом царя подлинный свой лик. Надо убить его. Клятвенное обещание исполнить это нашептал Флегонт богу в ночной темноте. Может, царь когда-нибудь сам сюда на железный завод прибудет, а нет – так придется уйти из Выговской пустыни и искать встречи с ним.
С радостью, с просветленным лицом свершит Флегонт-поп задуманное и не устрашится мук, кои придется претерпеть за содеянное, с легким сердцем отдаст свою жизнь за избавление тысяч и тысяч людей от тирана-антихриста. И пусть под ласковой десницей царевича Алексея облегченно вздохнет многострадальный русский народ.
Да свершится так!
Глава вторая
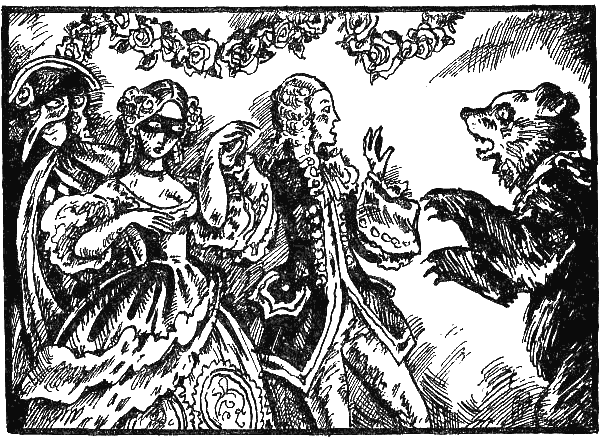
I
Через все петербургские заставы шли в город подводы, груженные камнем, коего с избытком было на окрестной чухонской земле. Временные земляные укрепления и многие деревянные строения заменялись в Петербурге каменными. Хозяевам и работным их людям приказано было строить дома прочные и приглядные. На некоторых пустырях стали разбивать сады.
Царь Петр доволен ходом застройки города и в письме звал находившегося в Польше Меншикова поскорее уладить дела и возвратиться в «парадиз», земной рай.
Язык без костей, любое слово может произнести, но только позабыв, что непохвально и даже грех разносить по людям заведомое вранье, и лишь бессовестно кривя душой можно сопоставить с божьим раем приневское это болото. Бога надо бояться и не говорить, что его небесный рай такой же, как злосчастный сей Петербург. Но вздыхай не вздыхай опечаленно, а угождай царю полным согласием с его словами, а еще лучше – добавляй еще что-нибудь от себя похвальное новому городу и потому приятное государю. А что может быть хорошего хотя бы в том, что в летнюю пору на день по пять-шесть раз дожди принимаются, сырые и холодные ветры в озноб кидают, туманы, мгла, хмурь да пасмурь виснут над «парадизом». Солнышка сколько дней уже не видать, будто его на небе и не бывает. Хотя июнь на дворе, а впору из овчинного кожуха так и не вылезать. Ох, парадиз, парадиз, провалиться бы в тартарары всему этому месту в допрежние времена, чтоб его и не было никогда!
– Хорошо, все приглядней кругом становится. Дюже славно! – нахваливал боярин-москвич свое новое жительство, угождая царю, а сам еще за час до того вытирал повлажневшие от слез глаза, вспоминая Москву-матушку и свою подмосковную вотчину. – Добро приятственно глазу глядеть, царское ваше величество.
– Проще меня называй, не так по-парадному… Фасад, значит, будешь статуями украшать?
– Статуем, батюшка-государь, статуем. У ворот по льву сидеть станут, а балкон геркулесты, как бы раздетые мужики, на плечах держать.
– На бумаге, смотрю, приглядно выведено, – рассматривал Петр чертеж.
– Должно и на деле так быть, государь.
– Ну, а ежели какую-нибудь еще Афродиту либо Миневру к геркулесам в придачу, а?.. Как считаешь?
– Срамно, государь, получится. Они ведь, как бабы, в голом виде бывают.
– А ты отколь про вид их наслышан? – с веселым удивлением вскинул Петр ко лбу брови.
– И наслышаны и навиданы, государь. Алхитектор картинки показывал, и мы с ним тогда геркулестов для дома выбрали.
– Ну, ладно. И с ними хорошо, – соглашался Петр.
– На новоселье тогда милости просим, батюшка государь.
– У-у, брат, ежели мне тут по всем новосельям ходить, то я и не просплюсь никогда. Ты, чать, большой кубок мне поднесешь, да и не однова разу.
– Без того обойтись нельзя, государь. Углы сбрызнуть надобно.
– Все может статься. Ежели во ту пору не отлучусь куда, то, глядишь, и наведаюсь.
– Превеликая память и честь будет нам оказана вашим царским величеством, батюшка государь.
– Ну, завеличал совсем, – смеется Петр, будучи в хорошем душевном настрое.
А хозяин возводимого дома с каменными фигурными украшениями, проводив взглядом царя, опять завздыхал. Сколько денег потрачено, и навек теперь неразлучен будет он с этим домом, как с пожизненной своей петербургской тюрьмой. И прости-прощай сердцу милая Москва-матушка с дорогой подмосковной усадьбою. Любуйся тут ненавистной Невой-рекой, забывай свою речку Пахру… Во! Опять дождь пошел. Опять слякоть и под ногами и на душе. За что, за какие грехи непрощеные на боярскую его судьбу лихо это петербургское выпало?.. Неприглядна, печальна будет тут жизнь, хоть и геркулесты станут дом сей держать. А главный, самый сильный тут геркулест – царь Петр. Потрафляй ему во всем и не бычься.
Сносить деревянные строения петербургским градожителям помогали участившиеся пожары. То в одном, то в другом месте вдруг полыхнет домишко или лавчонка, а под ветерок и целый порядок домов снесет начисто, высвобождая места для постройки новых, каменных, не в пример более приглядных построек. А недавно вечером сразу с двух концов загорелся на Троицкой площади мазанковый гостиный двор. Ясно было, что какие-то лиходеи подожгли его, чтобы в суматохе, неминуемой при пожаре, пограбить что под руку попадется. Большой переполох был. Царь Петр сам принимал участие в тушении того пожара, но и его старания отстоять гостиный двор ни к чему не привели. Воды в реке Неве много, но ведрами ее черпать да к пожару бегом носить – половина расплещется, а остатки огонь своим языком слижет да загудит еще пуще, перекидываясь дальше вдоль длинного помещения. Да и то сказать, что вместо пожаро-тушителей сбежалось больше любопытных зевак, не больно-то охочих купецкое богатство спасать, – пускай, дескать, горит-полыхает, со стороны любо на то посмотреть. А другим, которые и желали бы постараться, к огню близко подступиться нельзя, и вода только зря проливалась.
Сильно беспокоилась царица Прасковья, подворье которой было недалеко от пожара. Ну как горящая головешка огненной галкой к ней залетит! Всю свою дворню, вместе с немногими уцелевшими от минувшей бескормицы дурками, карлицами и карлами, – всех взбулгачила, на ноги подняла, охала, ахала, а что делать – не знала.
Слава богу, дальше огонь не пошел, и к утру дотла гостиный двор догорел. Пожар, конечно, не обошелся без грабежа, и двенадцать лихоимцев удалось словить. Они говорили, что кидались в лавки товары спасать, но не могли как следует пояснить, для чего от пожара с тем добром больно далеко убегали. Петербургский полицмейстер решил, что вешать всех, пожалуй, не стоит, а пускай они между собой жребий кинут, кому четверым смертный ответ держать за содеянное воровство, и на другой день, покачиваясь на веревках, четыре висельника украшали собой пепелище.
В гостином двору был из всех пожаров пожар. Хорошо еще, что случился он в тихую ночь, а если бы ветер, то горящие «галки», конечно, могли бы разлететься по соседним подворьям.
Гром не грянет – мужик не перекрестится, – воистину так. Надобно на каждом городском острову завести хотя бы по одной заливной трубе. Больше полутора тысяч рублей придется потратить на это. Петр поскреб в затылке всей пятерней и, скривив рот, досадливо дернул шеей. И указ надобно подновить, чтобы чаще у жителей печи осматривали. Лето наступило, а потому пускай топят кухни и бани не чаще раза в неделю. Да повелеть еще, чтобы крестьянам, привозящим на продажу дрова и сено, отводились бы на рынках места, а не становились бы они где попало на улицах, как это издавна водится на Руси. Петербург – столица не прежней сермяжной да бородатой Руси, а обновленной, преобразованной России.
Лето выдалось для Петра счастливое. Царский штандарт взметнулся над покоренной Ригой. Не дожидаясь решительного штурма, сдался Выборг. В Эстляндии и Карелии шведов больше нет. Дольше всех сопротивлялась Рига, осада которой велась всю зиму, весну и начало лета, но, как шутейно писал фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, «княжества Лифляндского столичный город Рига, которая никогда никоторым способом взята не бывала и называется во всей Европе нерушимою, с которою мне, сироте, бог благоволил обручиться и взять в невесту на честный акорд». Пала Рига, и фельдмаршал со своим войском торжественно вступил в нее, приняв поднесенные ему ключи города.
Празднично было отмечено это событие в Петербурге. На площади перед Адмиралтейством горожане, работные люди и заезжие крестьяне, подгуляв в кружалах, пели песни, плясали, а потом, разделившись на две стенки, шумно и весело повели кулачный бой – давнюю эту потеху русских людей. Впору бы и самому Петру поддержать какую-нибудь стенку, да ведь расстроится бой. Не осмелятся с противной стороны надавать тумаков его царскому величеству из опасения зашибить его невзначай.
В тот день пришло из Варшавы письмо от Меншикова с извещением о житье-бытье польского короля Августа. Меншиков писал: «Королевское величество зело скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал: пришло так, что есть нечего. Видя его скудность, я дал ему своих денег 10000 ефимков».
– А ведь врет, поди, Алексашка! – вырвалось вслух у Петра. – Дал ему одну тысячу, а приписал десять.
Так догадка об этом в голове Петра и осела: наметил, наверно, светлейший князь, чтобы ему из казны в десятикратном размере потрату ту возместить, вот о десяти тысячах и написал. И, может, даже не давал ничего королю, а получит деньги. На то хитрец и рассчитывал, что не станет, мол, царь у Августа спрашивать, брал деньги он или нет. Ох уж этот светлейший! Не пришлось бы его в темнейшие переименовать. До сего времени остается нечистым на руку, хотя уж с большим избытком осыпан почестями и богатством. Слов нет, многое заслужил. Во все баталии первым кидался, не страшась ничего. Уже генерал-фельдмаршалом был, а в этому году еще и в контр-адмиралы произведен.
Петр высоко ценил ум и заслуги того или другого из своих приближенных и в то же время знал общий их низкий нравственный уровень, но считал, что лучше держать около себя умного мошенника, нежели бесхитростного глупца, не умеющего прятать свои грешки. Много лет терпел всю бестолковщину, исходившую от управляющего почтой Виниуса, пока не убедился, что тот приносил государству вреда больше, чем это могло быть допускаемо. Отстранил его, заявив:
– У меня нет и не может быть таких любимцев, чтобы им дозволял водить меня за нос.
Не пришлось бы однажды отстранить от всех дел и светлейшего.
Но полученное от Меншикова письмо не испортило хорошего настроения Петра. В знак одержанной победы в Лифляндии подарил он своей лифляндке, «любезному дружку Катеринушке», шесть мыз под Петербургом, из них лучшую мызу – Саарскую, зная, какой любовью Катеринушка ответит ему за такой подарок.
Все было хорошо. На досуге он вычертил план башни наподобие Родосского колосса, чтобы поставить ее с подзорной светлицей и фонарем над фарватером между Кронштадтом и Кроншлотом, где под ней проходили бы военные корабли с развевающимися на них российскими морскими флагами.
Все было хорошо… Нет, не все. Омрачало Петра поведение сына-царевича. Двадцать лет уже Алексею, а он ни к какому делу все еще не приставлен, ничего знать не хочет, ни к чему у него нет ни склонности, ни любопытства. И в кого он такой уродился?.. Женить его, что ли?..
Царь Петр доволен ходом застройки города и в письме звал находившегося в Польше Меншикова поскорее уладить дела и возвратиться в «парадиз», земной рай.
Язык без костей, любое слово может произнести, но только позабыв, что непохвально и даже грех разносить по людям заведомое вранье, и лишь бессовестно кривя душой можно сопоставить с божьим раем приневское это болото. Бога надо бояться и не говорить, что его небесный рай такой же, как злосчастный сей Петербург. Но вздыхай не вздыхай опечаленно, а угождай царю полным согласием с его словами, а еще лучше – добавляй еще что-нибудь от себя похвальное новому городу и потому приятное государю. А что может быть хорошего хотя бы в том, что в летнюю пору на день по пять-шесть раз дожди принимаются, сырые и холодные ветры в озноб кидают, туманы, мгла, хмурь да пасмурь виснут над «парадизом». Солнышка сколько дней уже не видать, будто его на небе и не бывает. Хотя июнь на дворе, а впору из овчинного кожуха так и не вылезать. Ох, парадиз, парадиз, провалиться бы в тартарары всему этому месту в допрежние времена, чтоб его и не было никогда!
– Хорошо, все приглядней кругом становится. Дюже славно! – нахваливал боярин-москвич свое новое жительство, угождая царю, а сам еще за час до того вытирал повлажневшие от слез глаза, вспоминая Москву-матушку и свою подмосковную вотчину. – Добро приятственно глазу глядеть, царское ваше величество.
– Проще меня называй, не так по-парадному… Фасад, значит, будешь статуями украшать?
– Статуем, батюшка-государь, статуем. У ворот по льву сидеть станут, а балкон геркулесты, как бы раздетые мужики, на плечах держать.
– На бумаге, смотрю, приглядно выведено, – рассматривал Петр чертеж.
– Должно и на деле так быть, государь.
– Ну, а ежели какую-нибудь еще Афродиту либо Миневру к геркулесам в придачу, а?.. Как считаешь?
– Срамно, государь, получится. Они ведь, как бабы, в голом виде бывают.
– А ты отколь про вид их наслышан? – с веселым удивлением вскинул Петр ко лбу брови.
– И наслышаны и навиданы, государь. Алхитектор картинки показывал, и мы с ним тогда геркулестов для дома выбрали.
– Ну, ладно. И с ними хорошо, – соглашался Петр.
– На новоселье тогда милости просим, батюшка государь.
– У-у, брат, ежели мне тут по всем новосельям ходить, то я и не просплюсь никогда. Ты, чать, большой кубок мне поднесешь, да и не однова разу.
– Без того обойтись нельзя, государь. Углы сбрызнуть надобно.
– Все может статься. Ежели во ту пору не отлучусь куда, то, глядишь, и наведаюсь.
– Превеликая память и честь будет нам оказана вашим царским величеством, батюшка государь.
– Ну, завеличал совсем, – смеется Петр, будучи в хорошем душевном настрое.
А хозяин возводимого дома с каменными фигурными украшениями, проводив взглядом царя, опять завздыхал. Сколько денег потрачено, и навек теперь неразлучен будет он с этим домом, как с пожизненной своей петербургской тюрьмой. И прости-прощай сердцу милая Москва-матушка с дорогой подмосковной усадьбою. Любуйся тут ненавистной Невой-рекой, забывай свою речку Пахру… Во! Опять дождь пошел. Опять слякоть и под ногами и на душе. За что, за какие грехи непрощеные на боярскую его судьбу лихо это петербургское выпало?.. Неприглядна, печальна будет тут жизнь, хоть и геркулесты станут дом сей держать. А главный, самый сильный тут геркулест – царь Петр. Потрафляй ему во всем и не бычься.
Сносить деревянные строения петербургским градожителям помогали участившиеся пожары. То в одном, то в другом месте вдруг полыхнет домишко или лавчонка, а под ветерок и целый порядок домов снесет начисто, высвобождая места для постройки новых, каменных, не в пример более приглядных построек. А недавно вечером сразу с двух концов загорелся на Троицкой площади мазанковый гостиный двор. Ясно было, что какие-то лиходеи подожгли его, чтобы в суматохе, неминуемой при пожаре, пограбить что под руку попадется. Большой переполох был. Царь Петр сам принимал участие в тушении того пожара, но и его старания отстоять гостиный двор ни к чему не привели. Воды в реке Неве много, но ведрами ее черпать да к пожару бегом носить – половина расплещется, а остатки огонь своим языком слижет да загудит еще пуще, перекидываясь дальше вдоль длинного помещения. Да и то сказать, что вместо пожаро-тушителей сбежалось больше любопытных зевак, не больно-то охочих купецкое богатство спасать, – пускай, дескать, горит-полыхает, со стороны любо на то посмотреть. А другим, которые и желали бы постараться, к огню близко подступиться нельзя, и вода только зря проливалась.
Сильно беспокоилась царица Прасковья, подворье которой было недалеко от пожара. Ну как горящая головешка огненной галкой к ней залетит! Всю свою дворню, вместе с немногими уцелевшими от минувшей бескормицы дурками, карлицами и карлами, – всех взбулгачила, на ноги подняла, охала, ахала, а что делать – не знала.
Слава богу, дальше огонь не пошел, и к утру дотла гостиный двор догорел. Пожар, конечно, не обошелся без грабежа, и двенадцать лихоимцев удалось словить. Они говорили, что кидались в лавки товары спасать, но не могли как следует пояснить, для чего от пожара с тем добром больно далеко убегали. Петербургский полицмейстер решил, что вешать всех, пожалуй, не стоит, а пускай они между собой жребий кинут, кому четверым смертный ответ держать за содеянное воровство, и на другой день, покачиваясь на веревках, четыре висельника украшали собой пепелище.
В гостином двору был из всех пожаров пожар. Хорошо еще, что случился он в тихую ночь, а если бы ветер, то горящие «галки», конечно, могли бы разлететься по соседним подворьям.
Гром не грянет – мужик не перекрестится, – воистину так. Надобно на каждом городском острову завести хотя бы по одной заливной трубе. Больше полутора тысяч рублей придется потратить на это. Петр поскреб в затылке всей пятерней и, скривив рот, досадливо дернул шеей. И указ надобно подновить, чтобы чаще у жителей печи осматривали. Лето наступило, а потому пускай топят кухни и бани не чаще раза в неделю. Да повелеть еще, чтобы крестьянам, привозящим на продажу дрова и сено, отводились бы на рынках места, а не становились бы они где попало на улицах, как это издавна водится на Руси. Петербург – столица не прежней сермяжной да бородатой Руси, а обновленной, преобразованной России.
Лето выдалось для Петра счастливое. Царский штандарт взметнулся над покоренной Ригой. Не дожидаясь решительного штурма, сдался Выборг. В Эстляндии и Карелии шведов больше нет. Дольше всех сопротивлялась Рига, осада которой велась всю зиму, весну и начало лета, но, как шутейно писал фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, «княжества Лифляндского столичный город Рига, которая никогда никоторым способом взята не бывала и называется во всей Европе нерушимою, с которою мне, сироте, бог благоволил обручиться и взять в невесту на честный акорд». Пала Рига, и фельдмаршал со своим войском торжественно вступил в нее, приняв поднесенные ему ключи города.
Празднично было отмечено это событие в Петербурге. На площади перед Адмиралтейством горожане, работные люди и заезжие крестьяне, подгуляв в кружалах, пели песни, плясали, а потом, разделившись на две стенки, шумно и весело повели кулачный бой – давнюю эту потеху русских людей. Впору бы и самому Петру поддержать какую-нибудь стенку, да ведь расстроится бой. Не осмелятся с противной стороны надавать тумаков его царскому величеству из опасения зашибить его невзначай.
В тот день пришло из Варшавы письмо от Меншикова с извещением о житье-бытье польского короля Августа. Меншиков писал: «Королевское величество зело скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал: пришло так, что есть нечего. Видя его скудность, я дал ему своих денег 10000 ефимков».
– А ведь врет, поди, Алексашка! – вырвалось вслух у Петра. – Дал ему одну тысячу, а приписал десять.
Так догадка об этом в голове Петра и осела: наметил, наверно, светлейший князь, чтобы ему из казны в десятикратном размере потрату ту возместить, вот о десяти тысячах и написал. И, может, даже не давал ничего королю, а получит деньги. На то хитрец и рассчитывал, что не станет, мол, царь у Августа спрашивать, брал деньги он или нет. Ох уж этот светлейший! Не пришлось бы его в темнейшие переименовать. До сего времени остается нечистым на руку, хотя уж с большим избытком осыпан почестями и богатством. Слов нет, многое заслужил. Во все баталии первым кидался, не страшась ничего. Уже генерал-фельдмаршалом был, а в этому году еще и в контр-адмиралы произведен.
Петр высоко ценил ум и заслуги того или другого из своих приближенных и в то же время знал общий их низкий нравственный уровень, но считал, что лучше держать около себя умного мошенника, нежели бесхитростного глупца, не умеющего прятать свои грешки. Много лет терпел всю бестолковщину, исходившую от управляющего почтой Виниуса, пока не убедился, что тот приносил государству вреда больше, чем это могло быть допускаемо. Отстранил его, заявив:
– У меня нет и не может быть таких любимцев, чтобы им дозволял водить меня за нос.
Не пришлось бы однажды отстранить от всех дел и светлейшего.
Но полученное от Меншикова письмо не испортило хорошего настроения Петра. В знак одержанной победы в Лифляндии подарил он своей лифляндке, «любезному дружку Катеринушке», шесть мыз под Петербургом, из них лучшую мызу – Саарскую, зная, какой любовью Катеринушка ответит ему за такой подарок.
Все было хорошо. На досуге он вычертил план башни наподобие Родосского колосса, чтобы поставить ее с подзорной светлицей и фонарем над фарватером между Кронштадтом и Кроншлотом, где под ней проходили бы военные корабли с развевающимися на них российскими морскими флагами.
Все было хорошо… Нет, не все. Омрачало Петра поведение сына-царевича. Двадцать лет уже Алексею, а он ни к какому делу все еще не приставлен, ничего знать не хочет, ни к чему у него нет ни склонности, ни любопытства. И в кого он такой уродился?.. Женить его, что ли?..
II
Теперь стало реже, а то, бывало, сряду несколько дней будто бы слышались Алексею ее вопли. Вскрикивал он среди ночи в неуемной дрожи, пугливо озираясь по сторонам и крестясь.
Снилось, что опять отрывают его от матери, а она, сидя уже в возке, тянет к нему руки и жалобно плачет: «Олешенька… Дитятко ненаглядное…» И крик ее, словно вой.
– Маменкка, милая… – шептал он и не мог сдержать слез.
Перебирал в памяти день за днем, когда она была с ним, вспоминал, о чем говорила, какие нежные и ласковые были у нее руки, как она, углубившись в какие-то свои думы, могла часами держать его у себя на коленях и беспрестанно гладить его голову. Часто он в свои семь-восемь лет так и засыпал у нее на коленях.
Давно уже нет с ним матери, целых двенадцать лет, а в мыслях она неотлучно. Сядет он где-нибудь в уголке в скучный сумеречный час, и – в мальчишескую ли свою пору, став ли отроком или вот уже в юношеской поре – во все эти годы он мысленно с безвинно страдающей маменькой, а порой будто бы даже разговаривает с ней, жалуясь на свою тоску, особенно одолевавшую его в сумерках.
Как только начинал помнить себя Алексей, всегда он слышал от матери ее непрестанные сетования на отца да проклятия немцам, приворожившим русского царя к себе, и осуждение всех его дел и замыслов. Запуганный появлением строгого отца, отчужденный от него, Алексей с нетерпением ждал, когда отец опять удалится в Немецкую ли слободу, на войну ли, – хоть куда, лишь бы поскорей, а еще лучше – не возвращался бы никогда. Вот тогда бы ему, Олешеньке, было бы хорошо!
До восьми лет находился он на попечении матери, и лучше той поры никогда ничего не было для него. Царица Евдокия сама начала было учить сына грамоте, но учительницей оказалась плохой из-за собственной малограмотности и еще потому, что не могла в нужные минуты придать голосу строгость, дабы пресечь баловство сына, и поручила обучать его умелому человеку Никифору Кондратьевичу Вяземскому, прославившемуся на всю Москву отменной грамотностью, знатоку славянской мудрости, умевшему красно говорить и писать.
– Уж ты, батюшка, как следует быть вразуми наше дитятко, – просила его царица Евдокия. – Сделай так, чтобы он нисколь не хуже тебя самого всякой грамотой овладел. И счету, батюшка, его обучи, на самые большие тыщи. Царем станет, и ему надо будет все знать.
Никифор Вяземский обещал не только самым крупным цифрам царевича обучить, но и малым их долям.
– Да малым-то ни к чему, – говорила царица Евдокия. – Не на копейки ему считать.
Никифор Вяземский договорился со своим знакомцем Карионом Истоминым, чтобы тот составил для царевича букварь со славянскими, греческими и латинскими буквами, а чтобы те буквы лучше запоминались, на каждую дал бы рисунки, кои поручить выгравировать самолучшему мастеру-гравировщику Леонтию Бунину.
В букваре была воспета в стихах розга:
Карион Истомин составил еще и другой учебник для царевича Алексея – «Малую грамматику», в коей была изложена орфография, «научающая естеству письма, ударению гласа и препинанию словес». В ней затейливо были разукрашены киноварью все буквы славянского алфавита.
Никифор Вяземский оставался при царевиче и в те горе-слезные дни, когда царицу Евдокию увезли в суздальский монастырь. Царь Петр отдал тогда сына на попечение своей сестре царевне Наталье и под руководящий пригляд Александра Даниловича Меншикова, а в добавление к учителю Никифору Вяземскому, для обучения царевича приставлен был еще немец Мартин Нейгебауер, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендованный царю Петру саксонским посланником Карловичем. Довольный, что сын оставался под надежным присмотром, Петр, занятый многими своими делами, сразу же словно и позабыл о царевиче.
Учитель-немец оказался необычайно честолюбивым и до смехотворности мелочным человеком, заводил споры и ссоры с русскими людьми, прислуживающими царевичу Алексею, и стал открыто враждовать со своим соперником учителем Вяземским, считая его слугой, годным только на побегушки. Требовал, чтобы его, Нейгебауера, называли гофмейстером при цесаревиче, и всем «придворным кавалерам», как он называл русских, находившихся при дворе царевны Натальи и царевича; – всем тем «кавалерам» быть в неукоснительном подчинении у него, гофмейстера. Но такое титулование царевна Наталья отвергла, а русские «кавалеры» в отместку за пренебрежительное отношение неудавшегося господина гофмейстера потешались над ним..
– Собаки, собаки, ферфлюхт, варвары, гундофот! – исступленно кричал Нейгебауер, потрясая кулаками.
Он просил царевну Наталью удалить окружавших царевича русских людей, и прежде всего учителя Вяземского, а принять таких, которые хорошо знают иностранные языки и обычаи.
– Вовсе малого онемечить хочет, – сокрушался Вяземский, и на его радость просьба немца не была исполнена.
Большой скандал произошел во время одного обеда. За столом с царевичем Алексеем сидели боярин Алексей Иванович Нарышкин, Никифор Вяземский, доктор Богдан Клем и Мартин Нейгебауер. Подали жареных кур. Царевич взял куриную ножку и, обглодав ее, положив кость на свою тарелку, потянулся за другим куском, а Нарышкин ему молвил, чтобы он положил лучше кость на то блюдо, на котором лежали еще не тронутые куски курятины, оставляя свою тарелку чистой.
– Царевич лучше знает, что объеденные кости на блюдо не кладут, а мечут их собакам, – возмущенно заметил Нарышкину Нейгебауер.
Царевич что-то шепнул на ухо несколько смутившемуся Нарышкину, а тот так же шепотом сказал что-то Вяземскому.
– Непристойно за столом друг другу тайно говорить при иных людях, – сделал Нейгебауер еще одно замечание.
На это Вяземский усмехнулся и многозначительно произнес:
– Что тайно, то тайно, а что явно, то явно.
Не поняв, что под этим следовало подразумевать, но уловив в тоне Вяземского многозначительность сказанного, немец вспылил.
– Вы ничего в приличии не знаете, и быть вам здесь недостойно, – метал он гневные взгляды на Вяземского и Нарышкина. – Я вас отсюда вытолкаю толчком.
На что Вяземский с усмешкою заметил:
– Хотя бы ты был и гофмейстер, – подчеркнул он последнее слово, – но все равно никого бы из нас вытолкнуть не мог потому, что мы послушные приказу светлейшего князя Александра Даниловича, а не тебе.
– Варвары, собаки, мужики, свиньи! – перечислял Нейгебауер, швырнул нож и вилку, упавшие на тарелку царевича, и схватился за шпагу.
– Что ты делаешь? – повысил на него голос Вяземский. – И хотя бы ты был гофмейстер, – нарочно выделил он опять это слово, уязвляя разбушевавшегося немца, – но и гофмейстер так не швырялся бы за столом и не бранился.
Услышав опять насмешливо сказанное слово «гофмейстер», Нейгебауер еще громче закричал:
– Собаки, собаки!.. Я вам покажу!.. Как бог мой жив, так я вам отомщу!.. – И выбежал из комнаты.
Оскорбленный, он жаловался царю, написав ему: «Гонят они меня ради веры моей и не хотят по постным дням мяса давать, но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня оклеветали, будто я по две недели сидя пью и к царевичу не хожу».
После короткого выяснения происшедшего Петр отказал Нейгебауеру от службы и велел выслать его за то, что он самовольно величал себя гофмейстером, обзывал ближних людей варварами и бранил всякой жестокой бранью.
Алексей видел отца лишь в образе сурового и раздраженного наставника, а упреки, угрозы, иногда и побои мало способствовали укреплению их родственных чувств.
Прислушиваясь к людям, осуждавшим деятельность отца, постоянно тоскуя о матери, Алексей не мог ладить ни с геометрией, ни с фортификацией, приучился скрывать это от отца, обманывать его на случайных экзаменах, говорить не то, что думалось. Когда обман вскрывался, Петр, не терпевший лжи, хватал дубинку, и жестокие побои все больше и больше убеждали сына, что без батюшки жить лучше. И если бы так случилось, чтоб его совсем, совсем не было…
Редко, но все же выпадали такие дни, когда отец садился рядом с Алексеем и, приобняв его, начинал рассказывать что-нибудь из времен своего детства, надеясь приохотить сына к делу.
– Мне о ту пору, как и тебе вот, годов тринадцать было, когда князь Яков Долгорукий на поездку во Францию снаряжался, и он мне между разными разговорами сказывал, что имелся у него такой занятный инструмент, коим можно было измерять расстояние, не доходя до отдаленного места. «Как это так?» – «А так». Я сильно пожелал увидеть такой инструмент, а князь Яков сказал, что у него его украли… Ах, если бы я в моей молодости был выучен как должно! – сожалел Петр. – Ты слушаешь, про что говорю? – спрашивал он сына, заметив, что никакого интереса к его рассказу тот не проявлял.
– Да, слушаю, – вяло отвечал Алексей.
– Ну, так слушай дальше… А мне, говорю, зело захотелось инструмент такой увидеть. Я и сказал князю, чтобы он, будучи во Франции, между другими вещами купил бы мне ту диковину. Возвратился князь и привез то самое, что я пропил. Угломером это называлось, а по-иностранному – астролябией… Никак дремлешь, сынок?
– Нет, нет, нисколь, – вздрагивал, очнувшись от мгновенного забытья, Алексей и спешно вытирал рукой заслюнявившийся рот.
– Инструмент-то я получил, – продолжал рассказывать Петр, – а как им действовать – не знаю. И князь Яков не знал. Что делать нам? Как быть?..
И нисколь, нисколь не любопытно царевичу, как с тем угломером следовало обращаться. Он нетерпеливо ждал, когда кончится для него эта мука сидеть рядом с отцом да еще все время ощущать на своем боку его широкую руку. И зачем он никуда не ушел, не уехал, а задумал вот сидеть и рассказывать.
Досказал отец, как иноземец Франц Тиммерман научил его пользоваться астролябией.
– И с того самого дня, Алешка, пристрастился я учиться геометрии и фортификации, и Франц Тиммерман стал для меня своим человеком.
«Для того, значит, и говорил, чтобы и мне эти фортификации учить, – с неприязнью думал Алексей. – Хоть бы кто его позвал…»
– А несколько времени после того случилось мне побыть в Измайлове на льняном дворе, – к вящему огорчению Алексея, стал рассказывать отец еще о каком-то случае. – И там в одном амбаре увидал я большую иноземную лодку. Спрашиваю Тиммермана: что, мол, это?.. А он говорит – английский бот, ходит на парусах не только по ветру, но и против него, чему я зело был удивлен. Есть ли, спрашиваю, человек, чтобы тот бот привел в порядок и мне весь ход его показал… мачту и паруса, и на Яузе при мне лавировал… и бот у меня не всегда хорошо ворочался, а упирался в берега… узка вода… объявили Переславское озеро, куда я, слышь, Алешка, отправился под видом обещания навестить Троицкий монастырь, – смеясь, рассказывал о своей проделке отец. – А уж потом стал просить ее и явно, чтобы отпускала бывать там… два малые фрегата и три яхты… но ради мелкости не показалось, и уже намерился видеть настоящее море…
Будто плавные волны, накатывались до сознания Алексея слова отца и, как бы в отливе, затихали они, не слышались совсем, чтобы через минуту снова, будто издали, неторопливо наплывать, и тогда опять слышал он голос отца и старался уяснить, о чем он говорил. Но вот опять, как бы отлив и ничего не слыша, Алексей сильно клюнул носом и что-то промычал сквозь дрему. Петр негодующе дернул шеей и брезгливо оттолкнул его от себя.
– Досыпай иди, несуразная тюха! – отряхнул руку от прикосновения к нему. И порывалось злобное чувство к ненавистной Евдокии: ее это сын, такой выродок!
Петр брал его с собой в Архангельск показать настоящее море и корабли, думая, что захватит мальчишку никогда не виданная новизна.
Море… А что в нем, в этом море? Только воды много, а для пути кораблям такая ширь вовсе не потребна. Ну и корабли… Идут… А ну как потонут?..
Снилось, что опять отрывают его от матери, а она, сидя уже в возке, тянет к нему руки и жалобно плачет: «Олешенька… Дитятко ненаглядное…» И крик ее, словно вой.
– Маменкка, милая… – шептал он и не мог сдержать слез.
Перебирал в памяти день за днем, когда она была с ним, вспоминал, о чем говорила, какие нежные и ласковые были у нее руки, как она, углубившись в какие-то свои думы, могла часами держать его у себя на коленях и беспрестанно гладить его голову. Часто он в свои семь-восемь лет так и засыпал у нее на коленях.
Давно уже нет с ним матери, целых двенадцать лет, а в мыслях она неотлучно. Сядет он где-нибудь в уголке в скучный сумеречный час, и – в мальчишескую ли свою пору, став ли отроком или вот уже в юношеской поре – во все эти годы он мысленно с безвинно страдающей маменькой, а порой будто бы даже разговаривает с ней, жалуясь на свою тоску, особенно одолевавшую его в сумерках.
Как только начинал помнить себя Алексей, всегда он слышал от матери ее непрестанные сетования на отца да проклятия немцам, приворожившим русского царя к себе, и осуждение всех его дел и замыслов. Запуганный появлением строгого отца, отчужденный от него, Алексей с нетерпением ждал, когда отец опять удалится в Немецкую ли слободу, на войну ли, – хоть куда, лишь бы поскорей, а еще лучше – не возвращался бы никогда. Вот тогда бы ему, Олешеньке, было бы хорошо!
До восьми лет находился он на попечении матери, и лучше той поры никогда ничего не было для него. Царица Евдокия сама начала было учить сына грамоте, но учительницей оказалась плохой из-за собственной малограмотности и еще потому, что не могла в нужные минуты придать голосу строгость, дабы пресечь баловство сына, и поручила обучать его умелому человеку Никифору Кондратьевичу Вяземскому, прославившемуся на всю Москву отменной грамотностью, знатоку славянской мудрости, умевшему красно говорить и писать.
– Уж ты, батюшка, как следует быть вразуми наше дитятко, – просила его царица Евдокия. – Сделай так, чтобы он нисколь не хуже тебя самого всякой грамотой овладел. И счету, батюшка, его обучи, на самые большие тыщи. Царем станет, и ему надо будет все знать.
Никифор Вяземский обещал не только самым крупным цифрам царевича обучить, но и малым их долям.
– Да малым-то ни к чему, – говорила царица Евдокия. – Не на копейки ему считать.
Никифор Вяземский договорился со своим знакомцем Карионом Истоминым, чтобы тот составил для царевича букварь со славянскими, греческими и латинскими буквами, а чтобы те буквы лучше запоминались, на каждую дал бы рисунки, кои поручить выгравировать самолучшему мастеру-гравировщику Леонтию Бунину.
В букваре была воспета в стихах розга:
И нарисована была она, спасительная розга.
Розга ум вострит, память возбуждает
И волю злую к благу прелагает.
Карион Истомин составил еще и другой учебник для царевича Алексея – «Малую грамматику», в коей была изложена орфография, «научающая естеству письма, ударению гласа и препинанию словес». В ней затейливо были разукрашены киноварью все буквы славянского алфавита.
Никифор Вяземский оставался при царевиче и в те горе-слезные дни, когда царицу Евдокию увезли в суздальский монастырь. Царь Петр отдал тогда сына на попечение своей сестре царевне Наталье и под руководящий пригляд Александра Даниловича Меншикова, а в добавление к учителю Никифору Вяземскому, для обучения царевича приставлен был еще немец Мартин Нейгебауер, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендованный царю Петру саксонским посланником Карловичем. Довольный, что сын оставался под надежным присмотром, Петр, занятый многими своими делами, сразу же словно и позабыл о царевиче.
Учитель-немец оказался необычайно честолюбивым и до смехотворности мелочным человеком, заводил споры и ссоры с русскими людьми, прислуживающими царевичу Алексею, и стал открыто враждовать со своим соперником учителем Вяземским, считая его слугой, годным только на побегушки. Требовал, чтобы его, Нейгебауера, называли гофмейстером при цесаревиче, и всем «придворным кавалерам», как он называл русских, находившихся при дворе царевны Натальи и царевича; – всем тем «кавалерам» быть в неукоснительном подчинении у него, гофмейстера. Но такое титулование царевна Наталья отвергла, а русские «кавалеры» в отместку за пренебрежительное отношение неудавшегося господина гофмейстера потешались над ним..
– Собаки, собаки, ферфлюхт, варвары, гундофот! – исступленно кричал Нейгебауер, потрясая кулаками.
Он просил царевну Наталью удалить окружавших царевича русских людей, и прежде всего учителя Вяземского, а принять таких, которые хорошо знают иностранные языки и обычаи.
– Вовсе малого онемечить хочет, – сокрушался Вяземский, и на его радость просьба немца не была исполнена.
Большой скандал произошел во время одного обеда. За столом с царевичем Алексеем сидели боярин Алексей Иванович Нарышкин, Никифор Вяземский, доктор Богдан Клем и Мартин Нейгебауер. Подали жареных кур. Царевич взял куриную ножку и, обглодав ее, положив кость на свою тарелку, потянулся за другим куском, а Нарышкин ему молвил, чтобы он положил лучше кость на то блюдо, на котором лежали еще не тронутые куски курятины, оставляя свою тарелку чистой.
– Царевич лучше знает, что объеденные кости на блюдо не кладут, а мечут их собакам, – возмущенно заметил Нарышкину Нейгебауер.
Царевич что-то шепнул на ухо несколько смутившемуся Нарышкину, а тот так же шепотом сказал что-то Вяземскому.
– Непристойно за столом друг другу тайно говорить при иных людях, – сделал Нейгебауер еще одно замечание.
На это Вяземский усмехнулся и многозначительно произнес:
– Что тайно, то тайно, а что явно, то явно.
Не поняв, что под этим следовало подразумевать, но уловив в тоне Вяземского многозначительность сказанного, немец вспылил.
– Вы ничего в приличии не знаете, и быть вам здесь недостойно, – метал он гневные взгляды на Вяземского и Нарышкина. – Я вас отсюда вытолкаю толчком.
На что Вяземский с усмешкою заметил:
– Хотя бы ты был и гофмейстер, – подчеркнул он последнее слово, – но все равно никого бы из нас вытолкнуть не мог потому, что мы послушные приказу светлейшего князя Александра Даниловича, а не тебе.
– Варвары, собаки, мужики, свиньи! – перечислял Нейгебауер, швырнул нож и вилку, упавшие на тарелку царевича, и схватился за шпагу.
– Что ты делаешь? – повысил на него голос Вяземский. – И хотя бы ты был гофмейстер, – нарочно выделил он опять это слово, уязвляя разбушевавшегося немца, – но и гофмейстер так не швырялся бы за столом и не бранился.
Услышав опять насмешливо сказанное слово «гофмейстер», Нейгебауер еще громче закричал:
– Собаки, собаки!.. Я вам покажу!.. Как бог мой жив, так я вам отомщу!.. – И выбежал из комнаты.
Оскорбленный, он жаловался царю, написав ему: «Гонят они меня ради веры моей и не хотят по постным дням мяса давать, но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня оклеветали, будто я по две недели сидя пью и к царевичу не хожу».
После короткого выяснения происшедшего Петр отказал Нейгебауеру от службы и велел выслать его за то, что он самовольно величал себя гофмейстером, обзывал ближних людей варварами и бранил всякой жестокой бранью.
Алексей видел отца лишь в образе сурового и раздраженного наставника, а упреки, угрозы, иногда и побои мало способствовали укреплению их родственных чувств.
Прислушиваясь к людям, осуждавшим деятельность отца, постоянно тоскуя о матери, Алексей не мог ладить ни с геометрией, ни с фортификацией, приучился скрывать это от отца, обманывать его на случайных экзаменах, говорить не то, что думалось. Когда обман вскрывался, Петр, не терпевший лжи, хватал дубинку, и жестокие побои все больше и больше убеждали сына, что без батюшки жить лучше. И если бы так случилось, чтоб его совсем, совсем не было…
Редко, но все же выпадали такие дни, когда отец садился рядом с Алексеем и, приобняв его, начинал рассказывать что-нибудь из времен своего детства, надеясь приохотить сына к делу.
– Мне о ту пору, как и тебе вот, годов тринадцать было, когда князь Яков Долгорукий на поездку во Францию снаряжался, и он мне между разными разговорами сказывал, что имелся у него такой занятный инструмент, коим можно было измерять расстояние, не доходя до отдаленного места. «Как это так?» – «А так». Я сильно пожелал увидеть такой инструмент, а князь Яков сказал, что у него его украли… Ах, если бы я в моей молодости был выучен как должно! – сожалел Петр. – Ты слушаешь, про что говорю? – спрашивал он сына, заметив, что никакого интереса к его рассказу тот не проявлял.
– Да, слушаю, – вяло отвечал Алексей.
– Ну, так слушай дальше… А мне, говорю, зело захотелось инструмент такой увидеть. Я и сказал князю, чтобы он, будучи во Франции, между другими вещами купил бы мне ту диковину. Возвратился князь и привез то самое, что я пропил. Угломером это называлось, а по-иностранному – астролябией… Никак дремлешь, сынок?
– Нет, нет, нисколь, – вздрагивал, очнувшись от мгновенного забытья, Алексей и спешно вытирал рукой заслюнявившийся рот.
– Инструмент-то я получил, – продолжал рассказывать Петр, – а как им действовать – не знаю. И князь Яков не знал. Что делать нам? Как быть?..
И нисколь, нисколь не любопытно царевичу, как с тем угломером следовало обращаться. Он нетерпеливо ждал, когда кончится для него эта мука сидеть рядом с отцом да еще все время ощущать на своем боку его широкую руку. И зачем он никуда не ушел, не уехал, а задумал вот сидеть и рассказывать.
Досказал отец, как иноземец Франц Тиммерман научил его пользоваться астролябией.
– И с того самого дня, Алешка, пристрастился я учиться геометрии и фортификации, и Франц Тиммерман стал для меня своим человеком.
«Для того, значит, и говорил, чтобы и мне эти фортификации учить, – с неприязнью думал Алексей. – Хоть бы кто его позвал…»
– А несколько времени после того случилось мне побыть в Измайлове на льняном дворе, – к вящему огорчению Алексея, стал рассказывать отец еще о каком-то случае. – И там в одном амбаре увидал я большую иноземную лодку. Спрашиваю Тиммермана: что, мол, это?.. А он говорит – английский бот, ходит на парусах не только по ветру, но и против него, чему я зело был удивлен. Есть ли, спрашиваю, человек, чтобы тот бот привел в порядок и мне весь ход его показал… мачту и паруса, и на Яузе при мне лавировал… и бот у меня не всегда хорошо ворочался, а упирался в берега… узка вода… объявили Переславское озеро, куда я, слышь, Алешка, отправился под видом обещания навестить Троицкий монастырь, – смеясь, рассказывал о своей проделке отец. – А уж потом стал просить ее и явно, чтобы отпускала бывать там… два малые фрегата и три яхты… но ради мелкости не показалось, и уже намерился видеть настоящее море…
Будто плавные волны, накатывались до сознания Алексея слова отца и, как бы в отливе, затихали они, не слышались совсем, чтобы через минуту снова, будто издали, неторопливо наплывать, и тогда опять слышал он голос отца и старался уяснить, о чем он говорил. Но вот опять, как бы отлив и ничего не слыша, Алексей сильно клюнул носом и что-то промычал сквозь дрему. Петр негодующе дернул шеей и брезгливо оттолкнул его от себя.
– Досыпай иди, несуразная тюха! – отряхнул руку от прикосновения к нему. И порывалось злобное чувство к ненавистной Евдокии: ее это сын, такой выродок!
Петр брал его с собой в Архангельск показать настоящее море и корабли, думая, что захватит мальчишку никогда не виданная новизна.
Море… А что в нем, в этом море? Только воды много, а для пути кораблям такая ширь вовсе не потребна. Ну и корабли… Идут… А ну как потонут?..
