Страница:
3.
В отмеченных особенностях ханьской культуры, несомненно, отразилась известная неоформленность социального и политического бытия «ученых служилых людей» той эпохи, уповавших не столько на нормы государственной практики, сколько на самостоятельно выработанные неписаные законы и ценности. Рассмотрим внимательно исторические условия, определявшие положение ши в ханьском Китае.
Слой ши возник в период Борющихся царств (V – III вв. до н. э.) в качестве «ученых служилых людей» при ставках правителей отдельных царств и уделов. Они считались «гостями» своих хозяев, добровольно примкнувшими к своим патронам, но всем им обязанными. По существу, только службой и определялось их положение. В обстановке политической раздробленности ши выступали в роли «странствующих ученых», предлагавших свои услуги правителям разных царств, и даже родным братьям ничто не мешало иметь разных царственных покровителей. Политически ши были детищем новой деспотической государственности и без нее потеряли бы смысл своего существования. В социальном плане они были продуктом разложения архаического уклада: в самой теме «исключительности» ши запечатлелась их оторванность от общинно-родовой структуры и пробуждение индивидуального самосознания. Грандиозные амбиции ши находили опору в могучем импульсе имперской организации, подмявшей под себя общество.
В начале правления Хань еще были живы традиции служилых людей доимперской эпохи – стратегов и советников при сильных мира сего. Такие люди составляли костяк военных группировок на рубеже III в. до н. э., воздвигнутых, подобно содружествам «людей долга», на принципе личной преданности их членов своему вожаку 4. Тысячи «гостей», в том числе ученых, содержались во II в. до н. э. удельными правителями – недаром под началом одного из них, хуайнаньского вана Лю Аня, был создан трактат «Хуай Нань-цзы». Служилые, а точнее, «частнослужилые» люди того времени были последними из поколения «странствующих мужей» древности, оторванных от родины и уповавших только на милость хозяина.
Реформы У-ди, заложившие основы централизованной конфуцианской бюрократии, резко изменили социальную природу ши, а вместе с ней их ценностную ориентацию, этос и психологию. Отныне местное общество оказалось тесно вплетенным в систему государственной администрации и получило возможность непосредственно влиять на отбор чиновников. Результат не замедлил сказаться в своеобразном расширении и одновременно конкретизации образа ши как «достойного мужа» определенного уровня административной структуры. По наблюдению Юй Инши, если у Сына Цяня термин «шидафу» относится главным образом к полководцам, то в I в. до н. э. он уже употреблялся для обозначения верхушки чиновничества вообще [Юй Инши, 1956, с. 259].
По мере консолидации провинциальной элиты представители последней также получают звание шидафу, и в позднеханьских источниках встречаются упоминания о «шидафу области» и даже «шидафу округи».
Характер общественного самосознания ханьской элиты неплохо отобразил Хуань Тань, различавший пять категорий «достойных мужей». Тех, кто «заботится о семье и лелеет обычаи деревни», он называл «деревенскими ши»; тех, кто «отличается мудростью и милосердием, печется о словесности и истории», – «уездными ши»; тех, «кто искренен и честен, бескорыстно служит общему делу, добросовестно служит старшим, – ши области и округа; тех, кто глубоко постиг каноны, выделяется добрым поведением, может вершить государственные дела, милосерден и скромен, – ши, достойными блюсти государственные устои; тех, кто обладает исключительным талантом, высоко вознесся над толпой, искусен в политике и может приобрести заслуги на поколения вперед, – ши Поднебесной» [Хуань Тань, с. 7]. Как видим, рассуждение Хуань Таня воспроизводит реальную структуру ханьской элиты, отдельные уровни которой различались по административно-географическим масштабам их влияния.
Новое положение ши засвидетельствовано в популярной с ханьского времени характеристике «достойного мужа», которая гласила: «Достойный муж есть опора государства, надежда народа».В этой формуле сжато выражена двойственная природа ханьских ши, являвшихся одновременно хранителями империи и вождями местного общества. В бюрократической империи находил завершение элитистский пафос ханьских ши, с еще большим усердием, чем их предшественники, стремившихся выказать собственную незаурядность. В их кругах даже талант человека измеряли в понятиях чиновничьей номенклатуры, а рекомендация на службу и предложенная должность, даже если протеже отвечал отказом, все равно закреплялись за ним 5.
Но статус ши не имел формальных критериев; он подтверждался тем, что в раннеимператорском Китае именовали «надеждой людей» (минь ван) или «общей надеждой» (гун ван). Быть «надеждой народа» полагалось каждому облеченному властью лицу, в том числе – для родной округи – и местной элите, искавшей опору в так называемом общем мнении своих земляков. О решающей роли последнего в легитимации статуса ши откровенно говорится в жизнеописании У Чжаня (рубеж II-III вв.). Последний, сообщается там, «родился в незнатной семье, смолоду искал покровителей среди родственников императриц, не ладил со своей округой и потому, хотя он находился на службе, в его родной области ему не давали звания ши» [Саньго чжи, цз. 21, с. 10б].
Целесообразно соотнести общественную позицию ши с описанным в предыдущей главе циклом социально-экономического развития империи. Элитистский пафос культуры ши был, бесспорно, идеологическим выражением высокой социальной мобильности в период хозяйственного подъема имперского общества. В условиях относительного равенства политических возможностей конфуцианская ученость играла для высших слоев роль своеобразного регулятора в их соперничестве. После У-ди служилые семьи следовали девизу: «Лучше оставить детям один канон, чем котел золота»[Хань шу, цз. 73, с. 4б].

Пока длилось процветание империи, провинциальная элита смотрела больше вверх, чем вниз, и не стремилась со всей явственностью осознать себя как особую страту общества. Нарушение баланса между провинциальной верхушкой и имперской бюрократией и обнищание крестьянства к концу династийного цикла способствовали развитию самосознания местной элиты. Сужение каналов отбора чиновников повышало социальную «цену» карьеры, что вело к усилению ригоризма, нормативного начала в жизни местной элиты. Борьба последней за «чистоту» своих рядов сопровождалась ростом ее замкнутости и ужесточением социальной иерархии внутри местного общества. Элита, сложившаяся благодаря рыночным связям и денежному капиталу, теперь утверждала свой статус отношений личной зависимости и личных обязательств.
Трансформация образа ши в период кризиса древней империи запечатлена в культе «славы» (мин) и «благочестия» (цзе) 6, который уже старыми китайскими учеными был подмечен как отличительная черта нравов позднеханьского времени. Слава была достоянием великодушного господина и верного слуги, готовых пожертвовать всем ради близких и преданных им людей. Славу приносила кровная месть, во II в. уже открывавшая мстителям двери чиновничьих канцелярий. Конец правления Хань вообще отмечен резким усилением акцента на родственных и личностных узах. Показательно суждение Сюнь Шуана, который в ответ на просьбу указать ему достойных людей округи перечислил своих братьев и пояснил, что только тот, кто печется в первую очередь о своих родственниках, может претендовать на хорошую репутацию в обществе [Шишо синьюй, с. 16]. Тот же Сюнь Шуан выразил кредо своего поколения в девизе: «Человек должен жить страстно. Как ненавистны те, кто ненавидит меня, и как милы те, кто любит меня!»[Саньго чжи, цз. 13, с. 5б].
Слава в культуре ши – атрибут героя, скреплявшего самопожертвованием круговую поруку социальной жизни. Но это же обстоятельство, делавшее героя уникальным, отделяло его от общества, что запечатлено в самом понятии «славный муж». Впервые оно встречается в разделе «Помесячные указы» трактата «Ли цзи», где говорится, что с приходом весны правитель «призывает славных мужей». Комментарий к этой фразе гласит: «Славные ши – это те, кто не служит. Славными ши зовут тех, чье добродетельное поведение исключительно, праведность совершенна и кого правитель не может сделать чиновником»[Ли цзи, с. 1363]. Таким образом, слава считалась прежде всего атрибутом «ши, не состоявших на службе» (вспомним уже цитировавшееся: «Ши в горах и лесах живут ради славы»).
Воплощая в себе коллизию публичности и уединения в культуре ши, категория славы отобразила двойственную природу служилой элиты ханьского Китая. В ней, как можно заметить, раскрывается противоречивость процесса формирования культуры ши, восходившая к сосуществованию двух противоположных тенденций развития имперского общества. Приобретший во II в. небывалый размах культ «славы» был реакцией на кризис бюрократической системы, который он, в противоположность декларациям поборников «благочестия», только усугублял. Отсюда частые среди верхов позднеханьского общества взаимные обвинения в погоне за «пустой славой» и «пустым блеском». Та же обстановка кризиса империи заставляла провинциальную элиту искать опору в своих внутренних ресурсах и превращаться в предводителей замкнутых, иерархически организованных союзов, скрепленных личной преданностью своему вожаку. Но и эта трансформация элиты была шагом вынужденным, имевшим целью не перестройку, а консервацию сложившегося порядка.
Объект личной верности никогда не заслонял в традиции ши требования служения как такового 7и неразрывно связанного с ним – хотя, по видимости, парадоксальным образом – идеала внутренней неприкосновенности. Возможно, так происходило вследствие структурного подобия локального общества и имперской организации. Во всяком случае при благоприятных условиях местные лидеры с легкостью уходили в ряды центральной бюрократии, сохраняя за собой теперь уже вполне упрочившийся привилегированный социальный статус.
Тенденции, связанные с культом «славы», не обладали достаточной цельностью для того, чтобы породить жизнеспособные институты. Скорее речь идет о тяготении к неопределимому средоточию, равновесию двух начал общественной жизни. Идея такого средоточия выражена в кардинальном для китайской мысли и культуры понятии «перемен всепроницающего единства» (тун бянь) – единства, сокрытого в изменчивом потоке бытия.
Ши стояли на перекрестке двух общественных тенденций, обнимая обе и не отдавая предпочтения ни одной. Оттого их образ столь расплывчат и неоднозначен. Нам остается констатировать наличие в идеологии и общественной позиции ши двух противоположных начал: настойчивой проповеди элитарной исключительности и столь же безоговорочной апелляции к анонимному «общему мнению». Это заставляет вспомнить присущую культуре ши трактовку «феномена человека» как парадоксального сочетания внутренней автономности личности и ее слитности с вселенским движением всего сущего.
Следует принять во внимание и психологические аспекты подобной социокультурной модели. Три столетия существования имперской государственности создали в ханьском Китае многочисленную армию служилых людей, разделявших общие идеалы, ценности, политическую ориентацию. Взращенные империей, добившиеся благодаря ей ключевых позиций в социальной и культурной жизни, новые ши считали имперский порядок верхом совершенства. Но, с готовностью служа империи, они оказывались в плену жестко заданных, безличных регламентов и норм.
Апеллируя к анонимной всеобщности «общего мнения», ши добились самостоятельности как социальная сила ценой потери индивидуальной свободы действия. Подчиненность культурному конформизму с особенной остротой поставила вопрос о субъективной искренности человека и его праве на внутреннюю неприступность. Нараставший кризис империи заставлял наследников традиции ши заново переживать старые альтернативы культуры и делать выбор своего отношения к власти. И если империя заложила основы культуры ши, то ее кризис явился тем внешним толчком, который превращает пассивный культурный материал в активную историческую силу. В идейном движении, рожденном противоречиями позднеханьской действительности, решалась не только судьба наследия древности, но и будущее китайской цивилизации.
Характер культурной общности
В отмеченных особенностях ханьской культуры, несомненно, отразилась известная неоформленность социального и политического бытия «ученых служилых людей» той эпохи, уповавших не столько на нормы государственной практики, сколько на самостоятельно выработанные неписаные законы и ценности. Рассмотрим внимательно исторические условия, определявшие положение ши в ханьском Китае.
Слой ши возник в период Борющихся царств (V – III вв. до н. э.) в качестве «ученых служилых людей» при ставках правителей отдельных царств и уделов. Они считались «гостями» своих хозяев, добровольно примкнувшими к своим патронам, но всем им обязанными. По существу, только службой и определялось их положение. В обстановке политической раздробленности ши выступали в роли «странствующих ученых», предлагавших свои услуги правителям разных царств, и даже родным братьям ничто не мешало иметь разных царственных покровителей. Политически ши были детищем новой деспотической государственности и без нее потеряли бы смысл своего существования. В социальном плане они были продуктом разложения архаического уклада: в самой теме «исключительности» ши запечатлелась их оторванность от общинно-родовой структуры и пробуждение индивидуального самосознания. Грандиозные амбиции ши находили опору в могучем импульсе имперской организации, подмявшей под себя общество.
В начале правления Хань еще были живы традиции служилых людей доимперской эпохи – стратегов и советников при сильных мира сего. Такие люди составляли костяк военных группировок на рубеже III в. до н. э., воздвигнутых, подобно содружествам «людей долга», на принципе личной преданности их членов своему вожаку 4. Тысячи «гостей», в том числе ученых, содержались во II в. до н. э. удельными правителями – недаром под началом одного из них, хуайнаньского вана Лю Аня, был создан трактат «Хуай Нань-цзы». Служилые, а точнее, «частнослужилые» люди того времени были последними из поколения «странствующих мужей» древности, оторванных от родины и уповавших только на милость хозяина.
Реформы У-ди, заложившие основы централизованной конфуцианской бюрократии, резко изменили социальную природу ши, а вместе с ней их ценностную ориентацию, этос и психологию. Отныне местное общество оказалось тесно вплетенным в систему государственной администрации и получило возможность непосредственно влиять на отбор чиновников. Результат не замедлил сказаться в своеобразном расширении и одновременно конкретизации образа ши как «достойного мужа» определенного уровня административной структуры. По наблюдению Юй Инши, если у Сына Цяня термин «шидафу» относится главным образом к полководцам, то в I в. до н. э. он уже употреблялся для обозначения верхушки чиновничества вообще [Юй Инши, 1956, с. 259].
По мере консолидации провинциальной элиты представители последней также получают звание шидафу, и в позднеханьских источниках встречаются упоминания о «шидафу области» и даже «шидафу округи».
Характер общественного самосознания ханьской элиты неплохо отобразил Хуань Тань, различавший пять категорий «достойных мужей». Тех, кто «заботится о семье и лелеет обычаи деревни», он называл «деревенскими ши»; тех, кто «отличается мудростью и милосердием, печется о словесности и истории», – «уездными ши»; тех, «кто искренен и честен, бескорыстно служит общему делу, добросовестно служит старшим, – ши области и округа; тех, кто глубоко постиг каноны, выделяется добрым поведением, может вершить государственные дела, милосерден и скромен, – ши, достойными блюсти государственные устои; тех, кто обладает исключительным талантом, высоко вознесся над толпой, искусен в политике и может приобрести заслуги на поколения вперед, – ши Поднебесной» [Хуань Тань, с. 7]. Как видим, рассуждение Хуань Таня воспроизводит реальную структуру ханьской элиты, отдельные уровни которой различались по административно-географическим масштабам их влияния.
Новое положение ши засвидетельствовано в популярной с ханьского времени характеристике «достойного мужа», которая гласила: «Достойный муж есть опора государства, надежда народа».В этой формуле сжато выражена двойственная природа ханьских ши, являвшихся одновременно хранителями империи и вождями местного общества. В бюрократической империи находил завершение элитистский пафос ханьских ши, с еще большим усердием, чем их предшественники, стремившихся выказать собственную незаурядность. В их кругах даже талант человека измеряли в понятиях чиновничьей номенклатуры, а рекомендация на службу и предложенная должность, даже если протеже отвечал отказом, все равно закреплялись за ним 5.
Но статус ши не имел формальных критериев; он подтверждался тем, что в раннеимператорском Китае именовали «надеждой людей» (минь ван) или «общей надеждой» (гун ван). Быть «надеждой народа» полагалось каждому облеченному властью лицу, в том числе – для родной округи – и местной элите, искавшей опору в так называемом общем мнении своих земляков. О решающей роли последнего в легитимации статуса ши откровенно говорится в жизнеописании У Чжаня (рубеж II-III вв.). Последний, сообщается там, «родился в незнатной семье, смолоду искал покровителей среди родственников императриц, не ладил со своей округой и потому, хотя он находился на службе, в его родной области ему не давали звания ши» [Саньго чжи, цз. 21, с. 10б].
Целесообразно соотнести общественную позицию ши с описанным в предыдущей главе циклом социально-экономического развития империи. Элитистский пафос культуры ши был, бесспорно, идеологическим выражением высокой социальной мобильности в период хозяйственного подъема имперского общества. В условиях относительного равенства политических возможностей конфуцианская ученость играла для высших слоев роль своеобразного регулятора в их соперничестве. После У-ди служилые семьи следовали девизу: «Лучше оставить детям один канон, чем котел золота»[Хань шу, цз. 73, с. 4б].

Для того чтобы управлять страной и служить людям, лучше всего соблюдать воздержание.Это изречение лишний раз выдает истинную подоплеку политического преуспевания в имперском обществе, каковой была коммерческая деятельность и денежное богатство. Именно на базе торговли и денежной экономики сформировались различные страты провинциальной элиты с ее институтом «общего мнения». Переход в ряды центральной бюрократии не вырывал человека из местного общества; знатные служилые кланы по-прежнему пользовались авторитетом среди верхушки их родной области и в свою очередь признавали ее влияние на местах. Возвышение евнухов потому и наделало столько шуму, что они были выскочками в глазах местной верхушки (хотя евнухи были не прочь с ней договориться).
Воздержание должно стать главной заботой. Оно называется усовершенствованием дэ. Совершенное дэ – всепобеждающая сила. Всепобеждающая сила неисчерпаема. Неисчерпаемая сила дает возможность овладеть страной.
Начало, при помощи которого управляется страна, долговечно и называется глубоким и прочным корнем. Оно вечно существующее Дао.
«Дао-дэ цзин»
Пока длилось процветание империи, провинциальная элита смотрела больше вверх, чем вниз, и не стремилась со всей явственностью осознать себя как особую страту общества. Нарушение баланса между провинциальной верхушкой и имперской бюрократией и обнищание крестьянства к концу династийного цикла способствовали развитию самосознания местной элиты. Сужение каналов отбора чиновников повышало социальную «цену» карьеры, что вело к усилению ригоризма, нормативного начала в жизни местной элиты. Борьба последней за «чистоту» своих рядов сопровождалась ростом ее замкнутости и ужесточением социальной иерархии внутри местного общества. Элита, сложившаяся благодаря рыночным связям и денежному капиталу, теперь утверждала свой статус отношений личной зависимости и личных обязательств.
Трансформация образа ши в период кризиса древней империи запечатлена в культе «славы» (мин) и «благочестия» (цзе) 6, который уже старыми китайскими учеными был подмечен как отличительная черта нравов позднеханьского времени. Слава была достоянием великодушного господина и верного слуги, готовых пожертвовать всем ради близких и преданных им людей. Славу приносила кровная месть, во II в. уже открывавшая мстителям двери чиновничьих канцелярий. Конец правления Хань вообще отмечен резким усилением акцента на родственных и личностных узах. Показательно суждение Сюнь Шуана, который в ответ на просьбу указать ему достойных людей округи перечислил своих братьев и пояснил, что только тот, кто печется в первую очередь о своих родственниках, может претендовать на хорошую репутацию в обществе [Шишо синьюй, с. 16]. Тот же Сюнь Шуан выразил кредо своего поколения в девизе: «Человек должен жить страстно. Как ненавистны те, кто ненавидит меня, и как милы те, кто любит меня!»[Саньго чжи, цз. 13, с. 5б].
Слава в культуре ши – атрибут героя, скреплявшего самопожертвованием круговую поруку социальной жизни. Но это же обстоятельство, делавшее героя уникальным, отделяло его от общества, что запечатлено в самом понятии «славный муж». Впервые оно встречается в разделе «Помесячные указы» трактата «Ли цзи», где говорится, что с приходом весны правитель «призывает славных мужей». Комментарий к этой фразе гласит: «Славные ши – это те, кто не служит. Славными ши зовут тех, чье добродетельное поведение исключительно, праведность совершенна и кого правитель не может сделать чиновником»[Ли цзи, с. 1363]. Таким образом, слава считалась прежде всего атрибутом «ши, не состоявших на службе» (вспомним уже цитировавшееся: «Ши в горах и лесах живут ради славы»).
Воплощая в себе коллизию публичности и уединения в культуре ши, категория славы отобразила двойственную природу служилой элиты ханьского Китая. В ней, как можно заметить, раскрывается противоречивость процесса формирования культуры ши, восходившая к сосуществованию двух противоположных тенденций развития имперского общества. Приобретший во II в. небывалый размах культ «славы» был реакцией на кризис бюрократической системы, который он, в противоположность декларациям поборников «благочестия», только усугублял. Отсюда частые среди верхов позднеханьского общества взаимные обвинения в погоне за «пустой славой» и «пустым блеском». Та же обстановка кризиса империи заставляла провинциальную элиту искать опору в своих внутренних ресурсах и превращаться в предводителей замкнутых, иерархически организованных союзов, скрепленных личной преданностью своему вожаку. Но и эта трансформация элиты была шагом вынужденным, имевшим целью не перестройку, а консервацию сложившегося порядка.
Объект личной верности никогда не заслонял в традиции ши требования служения как такового 7и неразрывно связанного с ним – хотя, по видимости, парадоксальным образом – идеала внутренней неприкосновенности. Возможно, так происходило вследствие структурного подобия локального общества и имперской организации. Во всяком случае при благоприятных условиях местные лидеры с легкостью уходили в ряды центральной бюрократии, сохраняя за собой теперь уже вполне упрочившийся привилегированный социальный статус.
Тенденции, связанные с культом «славы», не обладали достаточной цельностью для того, чтобы породить жизнеспособные институты. Скорее речь идет о тяготении к неопределимому средоточию, равновесию двух начал общественной жизни. Идея такого средоточия выражена в кардинальном для китайской мысли и культуры понятии «перемен всепроницающего единства» (тун бянь) – единства, сокрытого в изменчивом потоке бытия.
Ши стояли на перекрестке двух общественных тенденций, обнимая обе и не отдавая предпочтения ни одной. Оттого их образ столь расплывчат и неоднозначен. Нам остается констатировать наличие в идеологии и общественной позиции ши двух противоположных начал: настойчивой проповеди элитарной исключительности и столь же безоговорочной апелляции к анонимному «общему мнению». Это заставляет вспомнить присущую культуре ши трактовку «феномена человека» как парадоксального сочетания внутренней автономности личности и ее слитности с вселенским движением всего сущего.
Следует принять во внимание и психологические аспекты подобной социокультурной модели. Три столетия существования имперской государственности создали в ханьском Китае многочисленную армию служилых людей, разделявших общие идеалы, ценности, политическую ориентацию. Взращенные империей, добившиеся благодаря ей ключевых позиций в социальной и культурной жизни, новые ши считали имперский порядок верхом совершенства. Но, с готовностью служа империи, они оказывались в плену жестко заданных, безличных регламентов и норм.
Апеллируя к анонимной всеобщности «общего мнения», ши добились самостоятельности как социальная сила ценой потери индивидуальной свободы действия. Подчиненность культурному конформизму с особенной остротой поставила вопрос о субъективной искренности человека и его праве на внутреннюю неприступность. Нараставший кризис империи заставлял наследников традиции ши заново переживать старые альтернативы культуры и делать выбор своего отношения к власти. И если империя заложила основы культуры ши, то ее кризис явился тем внешним толчком, который превращает пассивный культурный материал в активную историческую силу. В идейном движении, рожденном противоречиями позднеханьской действительности, решалась не только судьба наследия древности, но и будущее китайской цивилизации.
Характер культурной общности
Культура есть не что иное, как коммуникация, связь человека с себе подобными, осуществляющаяся прежде всего в его собственном сознании. Понятие общности в конечном счете тождественно понятию культуры, хотя «общность в культуре» у каждой цивилизации своя. В культуре служилых людей императорского Китая ввиду отсутствия объективных критериев статуса ши особое значение имеет фактор культурного самосознания.
Очевидным признаком культурной общности элиты ханьской империи является само понятие «славы» и «славного мужа». Были отмечены и некоторые черты диктовавшейся этой общностью альтруистической морали или, как говорили в Китае, нравственной «чистоты». Именно в такой «чистоте» духа ханьские современники видели главное достоинство человека. Дун Чжуншу заявлял: «Чистота мировой пневмы (ци) есть ее тончайший субстрат (цзин); чистота человека есть добродетель мудрости».Ему вторил Ли Гу в одном из докладов трону: «Чистота мировой пневмы создает духовность (шэнь); чистота человека рождает достойных мужей»[Хоу Хань шу, цз. 63, с. 9а].
Упоминания о «чистоте», как правило, имеют отношение к доминировавшим в этосе ши идеалам скромности, целомудрия, нестяжательства, церемониального ригоризма. Так, о сановнике Инь Сюне сообщается, что «в его клане многие находились на почетных должностях, а Сюнь держался чистого образа жизни, не кичился своим происхождением» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 27а]. В биографии Юань Хуаня, сына сановника в ранге гуна, читаем: «В то время дети гунов часто преступали законы, аХуань был чист и скромен, поступал непременно в соответствии с приличиями»[Саньго чжи, цз. 11, с. 1а].
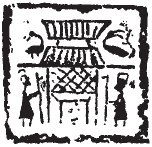
Бань Гу, как историк, следующим образом объяснял происхождение морали «чистоты»: «От цинов и дафу эпохи Чуньцю до высших сановников Хань много было опозоривших себя из-за жажды чинов, погони за наградами. Посему стали ценить ши чистых манер»[Хань шу, цз. 72, с. 31а]. В действительности культ «чистоты» не был, конечно, результатом сознательного выбора ханьских современников. Он был обусловлен внесубъективной силой «чистого мнения» и коренился в конечном счете в противоречиях позиции ши, отразившей противоборство «элитистского» и «коллективистского» начал в ханьском обществе. Нетрудно видеть, что амбиция, предстающая смирением, рождена обществом, в котором отсутствуют гарантии привилегированного статуса, а сами привилегии достаются в острой конкурентной борьбе. Так было на местном уровне, но начиналась «чистота» с семейной жизни, где равноправие наследников подогревало трения между ними. В любом случае стяжание «чистой славы» было делом столь важным, что для этого годился самый незначительный, порой просто курьезный повод. Взять хотя бы пример Кун Жуна, отпрыска именитой семьи и потомка Конфуция. В детстве Кун Жун однажды вместе с шестью старшими братьями ел сливы, выбирая самые маленькие, а родителям пояснил: «Мне, меньшому, полагается брать маленькие». «Тогда в клане особо выделили его», – добавляет клановая хроника [Хоу Хань шу, цз. 70, с. 5а].
Процитированные отрывки позднеханьской биографической литературы свидетельствуют о повышенном внимании «чистых мужей» к социальной среде. Позднеханьским ши действительно присуще обостренное чувство публичности, выражавшееся подчас в самых резких формах. В добропорядочной семье полагалось вести себя, «как на придворной аудиенции», а особенно прилежный в благочестии муж мог, «даже оставаясь в одиночестве, держаться так, словно принимал у себя почетного гостя» [Хоу Хань шу, цз. 80б, с. 21а].
Нормативность поведения, превращающая каждый поступок в жест, не могла не быть зрелищна. Принимая это условие ритуалистического миросознания конфуцианства, ши не могли не обращаться к «общему мнению». И то и другое относится к извечной человеческой потребности в признании со стороны окружающих, наблюдаемой во все времена и во всех обществах, особенно в их привилегированных слоях.
Однако множество сюжетов позднеханьской биографической литературы свидетельствует, что престиж ханьских ши едва ли не целиком зависел от поведения связанных с ними людей и что они, даже оказываясь без вины виноватыми, не имели права защищать свою репутацию. К примеру, правитель уезда спешит встретить проезжающего мимо давнего покровителя, когда-то рекомендовавшего его на службу. Тот, однако, едет своей дорогой, не останавливаясь. Правитель уезда в отчаянии: «Теперь весь мир будет смеяться надо мной!»Он самовольно покидает пост, едет вдогонку за покровителем и, добившись аудиенции, с легким сердцем выходит в отставку [Хоу Хань шу, цз. 39, с. 22б]. В биографии ученого Чоу Ланя помещен следующий эпизод: «Когда [его] жена и дети поступали дурно, он снимал шапку (знак публичного раскаяния.– В. М.) и обвинял себя. Когда же жена и дети приходили с извинениями, они не осмеливались войти в главную залу дома до тех пор, пока Чоу Лань не надевал шапку вновь. Домочадцы никогда не видели на его лице выражения радости или гнева»[Хоу Хань шу, цз. 76, с. 26а-б].
В обоих случаях, как видим, речь идет о настолько тесной взаимозависимости людей, что малейшая небрежность в поведении одной стороны влечет за собой дискредитацию другой. Ошибку «низов» принимают на себя «верхи» (раскаяние в императорском Китае, заметим, было нормативной позицией властей, не исключая императорской персоны), но младшие должны признать свою вину и добиться прощения у старших. Внешнее бесстрастие Чоу Ланя, типичное для исторического портрета ши, – знак не только внутренней отрешенности человека в порыве «воли», но и его самоотчуждения в объективированном социальном образе, имеющем самостоятельную жизнь.
Этот социальный образ, формируемый тем, что можно назвать «полем взаимозависимости людей», в Китае именовали «лицом». Последнее воплощало одновременно социальные претензии индивида и сумму его обязательств перед обществом. Мерой «лица» является признание правомочности его претензий другими. В китайской культуре, замечает Л. Ставер, «лицо» есть «название для действий облеченных властью людей и подлинная основа их власти» [Stover, 1974, с. 247]. Отчужденность «лица» от личности предполагала известный элемент игры, но на карту в ней было поставлено очень многое.
«Лицо» не пустяк, если потеря его заставляла публично биться до крови лбом о землю или кончать жизнь самоубийством, как поступали обвиненные в злоупотреблениях ханьские чиновники. Положение высокопоставленных лиц кажется тем более ненадежным, что на них падала вина за проступки, совершенные их «учениками» и даже подчиненными.
Представлявшее исключительно социальную роль индивида «лицо» не следует путать с выработанным европейским дворянством понятием чести, присущей человеку как члену привилегированного сословия. Честь – неотъемлемое качество дворянина; на нее можно было «покушаться», и ее подобало защищать в открытом поединке с равным себе по статусу. «Лицо» – качество приобретенное, его нужно постоянно «удостоверять», и его можно потерять помимо своей воли. В таком случае обидчику платили местью, совершавшейся порой, как мы знаем, самым недостойным и низким способом. Запечатленное в концепции «лица» требование строжайшей нормативности поведения, направленной на поддержание гармонии верхов и низов, имело своей оборотной стороной полную свободу антисоциального действия вне рамок этой нормативности.
Мы можем наблюдать влияние этики «лица» в известном «оппортунизме» служилых людей императорского Китая. Обратимся, например, к такой разновидности литературного творчества ши, как отцовские наставления детям. Этот нравоучительный жанр китайской литературы появился как раз в ханьское время. Наряду с уже известными нам темами культуры ши – щедростью в отношении родственников и друзей, скромным образом жизни и т. п. – едва ли не первое место в них занимает проповедь политической пассивности, соглашательства, учтивого обращения с каждым, независимо от его положения в обществе.
Столь богатый и знатный человек, как Фань Хун предостерегал потомство от погони за богатством и властью: «Путь людей полон злобы и благоприятствует клевете. Все семьи императриц прошлых поколений ясное тому предостережение. Беречь себя, сохранять свою неприкосновенность – разве это не радость?»[Хоу Хань шу, цз. 32, с. 3а-б].
Ма Юань поучал сыновей в таких словах: «Обсуждать достоинства и недостатки других, судить о правильном и неправильном в политике – мне это более всего ненавистно. Лучше мне умереть, чем услышать о таком вашем поведении»[Хоу Хань шу, цз. 24, с. 19а]. Тот же Ма Юань любил повторять кредо одного из своих братьев: «В своей жизни ши пусть берет одежды и пищи столько, сколько ему хватает, ездит в маленькой коляске, не заставляет лошадей нестись во весь опор, служит в областной управе, охраняет семейные могилы, чтобы в округе хвалили его. Так можно прожить. А требовать лишнего – только обременять себя»[Хоу Хань шу, цз. 24, с. 13а].
В любом случае принцип «сохранения себя» был одним из главных жизненных императивов служилых людей, и человек, который, подобно сановнику Чжо Му (I в.), умел «ставить себя между чистым и грязным, за всю жизнь ни с кем не поссориться», вызывал в их кругах искреннее восхищение [Хоу Х ань шу, цз. 25, с. 1а-б].
Т. Яно объясняет видимый оппортунизм бюрократии ее материальной зависимостью от жалованья [Яно, 1976, с. 251]. Подобное мнение заставляет подозревать служилых людей в цинизме, что не только противоречит идеалам ши, но кажется совершенно неуместным в таком святом деле, как наставление потомков. Скорее в непротивленчестве ши следует видеть знак их общей культурной ориентации, их неспособности даже умозрительно допустить какие-либо иные формы человеческих отношений кроме тех, которые соответствуют идеалу социальной гармонии, выраженной в сверхличном «лице».
Этика «лица», растворявшая индивида в его взаимоотношениях с другими, исключала всякое преследование цели для себя и, следовательно, всякую борьбу. Человек, согласно ее законам, ничего не имел сам, но всем был обязан другим; он оставался передатчиком космической благодатной Силы, даровавшей каждому удовлетворение и уверенность в себе. Патриархи служилых семей, советовавшие детям ладить со всеми людьми, поступали так не из расчета, а просто потому, что не могли иначе смотреть на жизнь.
Очевидным признаком культурной общности элиты ханьской империи является само понятие «славы» и «славного мужа». Были отмечены и некоторые черты диктовавшейся этой общностью альтруистической морали или, как говорили в Китае, нравственной «чистоты». Именно в такой «чистоте» духа ханьские современники видели главное достоинство человека. Дун Чжуншу заявлял: «Чистота мировой пневмы (ци) есть ее тончайший субстрат (цзин); чистота человека есть добродетель мудрости».Ему вторил Ли Гу в одном из докладов трону: «Чистота мировой пневмы создает духовность (шэнь); чистота человека рождает достойных мужей»[Хоу Хань шу, цз. 63, с. 9а].
Упоминания о «чистоте», как правило, имеют отношение к доминировавшим в этосе ши идеалам скромности, целомудрия, нестяжательства, церемониального ригоризма. Так, о сановнике Инь Сюне сообщается, что «в его клане многие находились на почетных должностях, а Сюнь держался чистого образа жизни, не кичился своим происхождением» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 27а]. В биографии Юань Хуаня, сына сановника в ранге гуна, читаем: «В то время дети гунов часто преступали законы, аХуань был чист и скромен, поступал непременно в соответствии с приличиями»[Саньго чжи, цз. 11, с. 1а].
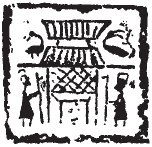
Постигать вещи, не ослепляясь ими, откликаться на звуки, не оглушаясь ими, – это значит понять Небо.Приведенные отзывы далеко не единичны – все именитые служилые семьи позднеханьской империи оправдывали свое положение ссылками на «чистую добродетель» своих удачливых уроженцев. Как показал С. Уэда, на наиболее ответственные посты столичной администрации (в частности, высшие должности в Палате документов, должность дворцового камердинера), согласно распространенному в позднеханьское время мнению, полагалось назначать «чистых мужей», так что во II в. за ними закрепилось наименование «чистых» [Уэда, 1970, с. 117]. «Чистота» была девизом ханьской бюрократии и в широком смысле характерной для раннеимператорского Китая формой легитимации социальных и политических претензий посредством демонстративного отказа от них.
«Хуай Нань-цзы»
Бань Гу, как историк, следующим образом объяснял происхождение морали «чистоты»: «От цинов и дафу эпохи Чуньцю до высших сановников Хань много было опозоривших себя из-за жажды чинов, погони за наградами. Посему стали ценить ши чистых манер»[Хань шу, цз. 72, с. 31а]. В действительности культ «чистоты» не был, конечно, результатом сознательного выбора ханьских современников. Он был обусловлен внесубъективной силой «чистого мнения» и коренился в конечном счете в противоречиях позиции ши, отразившей противоборство «элитистского» и «коллективистского» начал в ханьском обществе. Нетрудно видеть, что амбиция, предстающая смирением, рождена обществом, в котором отсутствуют гарантии привилегированного статуса, а сами привилегии достаются в острой конкурентной борьбе. Так было на местном уровне, но начиналась «чистота» с семейной жизни, где равноправие наследников подогревало трения между ними. В любом случае стяжание «чистой славы» было делом столь важным, что для этого годился самый незначительный, порой просто курьезный повод. Взять хотя бы пример Кун Жуна, отпрыска именитой семьи и потомка Конфуция. В детстве Кун Жун однажды вместе с шестью старшими братьями ел сливы, выбирая самые маленькие, а родителям пояснил: «Мне, меньшому, полагается брать маленькие». «Тогда в клане особо выделили его», – добавляет клановая хроника [Хоу Хань шу, цз. 70, с. 5а].
Процитированные отрывки позднеханьской биографической литературы свидетельствуют о повышенном внимании «чистых мужей» к социальной среде. Позднеханьским ши действительно присуще обостренное чувство публичности, выражавшееся подчас в самых резких формах. В добропорядочной семье полагалось вести себя, «как на придворной аудиенции», а особенно прилежный в благочестии муж мог, «даже оставаясь в одиночестве, держаться так, словно принимал у себя почетного гостя» [Хоу Хань шу, цз. 80б, с. 21а].
Нормативность поведения, превращающая каждый поступок в жест, не могла не быть зрелищна. Принимая это условие ритуалистического миросознания конфуцианства, ши не могли не обращаться к «общему мнению». И то и другое относится к извечной человеческой потребности в признании со стороны окружающих, наблюдаемой во все времена и во всех обществах, особенно в их привилегированных слоях.
Однако множество сюжетов позднеханьской биографической литературы свидетельствует, что престиж ханьских ши едва ли не целиком зависел от поведения связанных с ними людей и что они, даже оказываясь без вины виноватыми, не имели права защищать свою репутацию. К примеру, правитель уезда спешит встретить проезжающего мимо давнего покровителя, когда-то рекомендовавшего его на службу. Тот, однако, едет своей дорогой, не останавливаясь. Правитель уезда в отчаянии: «Теперь весь мир будет смеяться надо мной!»Он самовольно покидает пост, едет вдогонку за покровителем и, добившись аудиенции, с легким сердцем выходит в отставку [Хоу Хань шу, цз. 39, с. 22б]. В биографии ученого Чоу Ланя помещен следующий эпизод: «Когда [его] жена и дети поступали дурно, он снимал шапку (знак публичного раскаяния.– В. М.) и обвинял себя. Когда же жена и дети приходили с извинениями, они не осмеливались войти в главную залу дома до тех пор, пока Чоу Лань не надевал шапку вновь. Домочадцы никогда не видели на его лице выражения радости или гнева»[Хоу Хань шу, цз. 76, с. 26а-б].
В обоих случаях, как видим, речь идет о настолько тесной взаимозависимости людей, что малейшая небрежность в поведении одной стороны влечет за собой дискредитацию другой. Ошибку «низов» принимают на себя «верхи» (раскаяние в императорском Китае, заметим, было нормативной позицией властей, не исключая императорской персоны), но младшие должны признать свою вину и добиться прощения у старших. Внешнее бесстрастие Чоу Ланя, типичное для исторического портрета ши, – знак не только внутренней отрешенности человека в порыве «воли», но и его самоотчуждения в объективированном социальном образе, имеющем самостоятельную жизнь.
Этот социальный образ, формируемый тем, что можно назвать «полем взаимозависимости людей», в Китае именовали «лицом». Последнее воплощало одновременно социальные претензии индивида и сумму его обязательств перед обществом. Мерой «лица» является признание правомочности его претензий другими. В китайской культуре, замечает Л. Ставер, «лицо» есть «название для действий облеченных властью людей и подлинная основа их власти» [Stover, 1974, с. 247]. Отчужденность «лица» от личности предполагала известный элемент игры, но на карту в ней было поставлено очень многое.
«Лицо» не пустяк, если потеря его заставляла публично биться до крови лбом о землю или кончать жизнь самоубийством, как поступали обвиненные в злоупотреблениях ханьские чиновники. Положение высокопоставленных лиц кажется тем более ненадежным, что на них падала вина за проступки, совершенные их «учениками» и даже подчиненными.
Представлявшее исключительно социальную роль индивида «лицо» не следует путать с выработанным европейским дворянством понятием чести, присущей человеку как члену привилегированного сословия. Честь – неотъемлемое качество дворянина; на нее можно было «покушаться», и ее подобало защищать в открытом поединке с равным себе по статусу. «Лицо» – качество приобретенное, его нужно постоянно «удостоверять», и его можно потерять помимо своей воли. В таком случае обидчику платили местью, совершавшейся порой, как мы знаем, самым недостойным и низким способом. Запечатленное в концепции «лица» требование строжайшей нормативности поведения, направленной на поддержание гармонии верхов и низов, имело своей оборотной стороной полную свободу антисоциального действия вне рамок этой нормативности.
Мы можем наблюдать влияние этики «лица» в известном «оппортунизме» служилых людей императорского Китая. Обратимся, например, к такой разновидности литературного творчества ши, как отцовские наставления детям. Этот нравоучительный жанр китайской литературы появился как раз в ханьское время. Наряду с уже известными нам темами культуры ши – щедростью в отношении родственников и друзей, скромным образом жизни и т. п. – едва ли не первое место в них занимает проповедь политической пассивности, соглашательства, учтивого обращения с каждым, независимо от его положения в обществе.
Столь богатый и знатный человек, как Фань Хун предостерегал потомство от погони за богатством и властью: «Путь людей полон злобы и благоприятствует клевете. Все семьи императриц прошлых поколений ясное тому предостережение. Беречь себя, сохранять свою неприкосновенность – разве это не радость?»[Хоу Хань шу, цз. 32, с. 3а-б].
Ма Юань поучал сыновей в таких словах: «Обсуждать достоинства и недостатки других, судить о правильном и неправильном в политике – мне это более всего ненавистно. Лучше мне умереть, чем услышать о таком вашем поведении»[Хоу Хань шу, цз. 24, с. 19а]. Тот же Ма Юань любил повторять кредо одного из своих братьев: «В своей жизни ши пусть берет одежды и пищи столько, сколько ему хватает, ездит в маленькой коляске, не заставляет лошадей нестись во весь опор, служит в областной управе, охраняет семейные могилы, чтобы в округе хвалили его. Так можно прожить. А требовать лишнего – только обременять себя»[Хоу Хань шу, цз. 24, с. 13а].
В любом случае принцип «сохранения себя» был одним из главных жизненных императивов служилых людей, и человек, который, подобно сановнику Чжо Му (I в.), умел «ставить себя между чистым и грязным, за всю жизнь ни с кем не поссориться», вызывал в их кругах искреннее восхищение [Хоу Х ань шу, цз. 25, с. 1а-б].
Т. Яно объясняет видимый оппортунизм бюрократии ее материальной зависимостью от жалованья [Яно, 1976, с. 251]. Подобное мнение заставляет подозревать служилых людей в цинизме, что не только противоречит идеалам ши, но кажется совершенно неуместным в таком святом деле, как наставление потомков. Скорее в непротивленчестве ши следует видеть знак их общей культурной ориентации, их неспособности даже умозрительно допустить какие-либо иные формы человеческих отношений кроме тех, которые соответствуют идеалу социальной гармонии, выраженной в сверхличном «лице».
Этика «лица», растворявшая индивида в его взаимоотношениях с другими, исключала всякое преследование цели для себя и, следовательно, всякую борьбу. Человек, согласно ее законам, ничего не имел сам, но всем был обязан другим; он оставался передатчиком космической благодатной Силы, даровавшей каждому удовлетворение и уверенность в себе. Патриархи служилых семей, советовавшие детям ладить со всеми людьми, поступали так не из расчета, а просто потому, что не могли иначе смотреть на жизнь.
