Страница:
Разумеется, нельзя отрицать давления внешних обстоятельств. Зажатым между жерновами диктата временщиков и требованиями «общего мнения» позднеханьским чиновникам приходилось нередко проявлять недюжинную изворотливость, чтобы сохранить и хорошую репутацию, и хорошее место. К примеру, Ду Ань в молодости приобрел известность в столичном свете и получил немало писем от могущественного тогда семейства Доу с предложениями занять высокий пост. Не осмеливаясь ответить отказом, но и не желая связываться с временщиками, Ду Ань прятал, не вскрывая, эти письма в своем доме. Когда власть Доу рухнула и начались преследования их людей в администрации, Ду Ань предъявил нераспечатанные письма и тем уберег себя для дальнейшей карьеры [Хоу хань шу, цз. 57, с. 1а].
Интересно посмотреть, как реальные жизненные проблемы служилых людей преломлялись в культурной традиции ши. Очевидно, что «лицо», включавшее индивида в поле социальной взаимозависимости, выступало по отношению к нему как внешняя, принудительная сила. Попросту говоря, человек делал не то, что ему хотелось, но то, чего ждали от него другие.
Во всех приведенных выше высказываниях о «чистоте», «общем мнении» и прочих нормах публичной жизни ши эти нормы наделены ярко выраженной репрессивной функцией. Человек обрекался на совершение только нормативных действий, предположительно известных ему. К страху моральной неудачи добавлялся столь же постоянный страх перед непредсказуемыми действиями окружающих, которые могли нанести урон «лицу». Способом нейтрализации угрозы непредсказуемых действий могло стать принятие вины за них на себя. Пример Чоу Ланя, винившего себя за проступки домочадцев, нам уже известен. Но он не единственный в позднеханьской литературе. О сановнике Сюй Цзине, благополучно пережившем владычество «внешних кланов», сообщается, что он «всякое порицание принимал на себя» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 5б-6а]. Далекий от дворцовой политики Чэнь Ши также был известен тем, что «все доброе относил на счет других, все худое принимал на себя» [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 18б]. Та же тема в иной плоскости проявляется в характеристике раннеханьского сановника Гуань Фу, который держался независимо со старшими, но «с теми, кто был ниже его, он обращался как с равными, и чем беднее и худороднее они были, тем больше уважения он выказывал»[Хань шу, цз. 52, с. 5а].
Авторитет в культуре ши скрывался под маской смиренного и покаянного вида. «Лицо» поэтому было не просто воплощенной властью. Присущая ему аура кротости делала его еще и своеобразной защитной реакцией на репрессивный характер социального общения в культуре ши.
Нельзя не указать на важные различия в акцентах, отличающие китайскую и европейскую (индивидуалистическую) концепцию социального поведения. Если в центре европейской мысли стоял индивид, а социальная среда оценивалась скорее лишь с точки зрения ее значимости для субъективных решений, то в Китае руководствовались прежде всего идеей взаимообусловленности индивида и среды. Оттого ши в конечном счете не знали проблемы выбора действия. Выбор альтернатив заменяла им решимость претворять изначально заданное единение зависимости и автономии, следования аксиоматике действия и самоутверждения. В обществе ханьских ши это называлось «стоять в середине». Китайцы, по-своему не без основания, считали такую линию поведения не оппортунизмом, но, напротив, – признаком высшей твердости. О том же Сюй Цзине его биограф писал: «При дворе держался прямо, ни перед кем не склонялся» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 5б].
Акцент на взаимозависимости людей в культуре ши отнюдь не означал оправдания личного диктата и покорности. Заставлять кого бы то ни было рабски прислуживать себе или прислуживать самому было противно ее духу. Социум этой культуры был миром безмолвия, символической коммуникации, где никто не открывал имен власти и свободы.
Формирование идеала «чистоты» нельзя рассматривать в отрыве от политического развития империи. Как известно, с рубежа II в. требование «разделить чистых и грязных» стало главным лозунгом бюрократии, диктовавшимся борьбой между временщиками «внутреннего двора» и регулярным чиновничеством. Стремление поборников «чистоты» выделить себе подобных и отмежеваться от «грязных» элементов обострило интерес к вопросам моральной оценки личности или, как говорили в Китае, «знания людей». Достаточно сказать, что среди двух десятков лиц, названных в позднеханьских источниках «знатоками людей», только трое жили до середины II в., а остальные были свидетелями кризиса и гибели империи.
Обсуждение личных качеств тех или иных личностей становится с того времени респектабельным времяпрепровождением верхов общества. Так, в «Жизнеописаниях прежних достойных мужей Жунани» сообщается о некоем Сюй Цине, который, «обсуждая с друзьями упадок Хань, скорбел и плакал, за что заслужил прозвище „оплакивающий свое время“» [Тайпин юйлань, цз. 253, с. 5б]. О Го Тае сказано, что он умел «искусно рассуждать, красиво говорить». Когда к нему приходил ученый Бянь Жан, тоже «любитель рассуждать», беседа друзей «всегда тянулась целый день и до глубокой ночи» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 6б]. А биограф другого «славного мужа» тех лет, Фу Жуна, помещает беллетризованную зарисовку беседы: когда Фу Жун приходил к Ли Ину, тот «отпускал гостей и слушал его речи. Жун, в головной повязке 8, всплескивал рукавами, и его слова выплывали, подобно облакам. Ин сидел, сложив почтительно руки и затаив дыхание»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 8а].
Историографы того времени, словно зачарованные обаянием «знатоков людей», не удосужились поведать о содержании тех бесед. Судить о них приходится по афористически сжатым и часто невнятным отзывам и цитатам в биографиях деятелей «чистой» критики.
Наиболее примечательна фигура Го Тая, признанного кумира «славных мужей». Он родился в незнатной семье Тайюаня, рано лишился отца. Мать хотела устроить его служащим в уездной управе, но Го Тай заявил, что «великому мужу» негоже тратить силы по мелочам. Оставив свой забитый книгами дом, будущий корифей «чистой» критики отправился в местную школу, а потом в Лоян. Но не перспективой карьеры манила столица честолюбивого юношу. Другу, советовавшему ему пойти на службу, он рассказал о своем пессимистическом (а еще более крамольном) выводе: «Я ночью созерцаю горные образы, днем изучаю мирские события. То, что разрушается Небом, сохранить невозможно».Если Го Тай не был оригинален, отвергая службу, то он по крайней мере с беспрецедентной для ханьского времени решительностью отделил службу от назначения «великого мужа». Подобно Конфуцию и Мэн-цзы, заявлял Го Тай, «я странствую по Китаю, выделяя притаившихся и незаметных» [Хоу Хань цзи, цз. 23, с. 8б].
Поиск «сокрытых талантов» и прославил Го Тая. «Линьцзун (второе имя Го Тая. –В. М .) определял категории ши для всех и повсюду... Впоследствии все выделенные им стали знаменитостями, было их свыше 60 человек», –говорится в одной из версий биографии Го Тая [Эршиуши бубянь, с. 2235]. Данный отзыв является, очевидно, позднейшей легендой, не обязательно полностью соответствующей действительности. Тем не менее авторитет Го Тая как «знатока людей» и при его жизни был чрезвычайно высок, а когда в феврале 169 г. он умер, прожив 42 года, его похороны собрали, по одним данным, свыше тысячи, по другим – свыше десяти тысяч ученых со всей империи [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2б].
Го Тай начинал, конечно, не на пустом месте. Искусство «знания людей» издавна занимало почетное место в культуре служилых людей Древнего Китая. В «Книге Преданий» оно приравнивается к мудрости и умению управлять. Конфуций советовал в отношениях с людьми «вглядываться в мотивы их поведения, смотреть на причины их поступков, узнавать, что приносит им покой. Сможет ли тогда человек скрыть себя?» [Лунь юй, XI, 10]. Мэн-цзы считал возможным угадать натуру человека по его зрачкам и речи.
Физиогномика, несмотря на скептическое отношение к ней некоторых трезвомыслящих философов, например Сюнь-цзы, в Ханьскую эпоху процветала. Существовали, однако, принципиальные различия между практическим ремеслом физиогномистов и политически окрашенной, морализаторской деятельностью Го Тая и его единомышленников. Популярность гаданий о жизненных взлетах и падениях была обусловлена высоким уровнем социальной мобильности в древнекитайской империи. Деятели же «чистой» критики исходили скорее из обратной посылки: оценивая врожденный человеку «талант», они определяли его неизменную «категорию», или, говоря современным языком, подобающий ему статус. Известно, что Го Тай написал специальный трактат о «принципах отбора ши», который был вскоре утерян. Судить о взглядах Го Тая приходится на основании полутора десятков сюжетов, сохранившихся в биографических материалах.
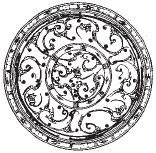
Ряд оценок является простой констатацией соответствия таланта определенному чиновничьему рангу. Так, два брата из клана Ван в Тайюане еще юношами попросили Го Тая «определить их способности», и тот рассудил, что они обладают «талантом ранга двух тысяч даней». Предсказание, разумеется, сбылось [Саньго чжи, цз. 27, с. 6а]. О враге евнухов Ван Юне Го Тай говорил: «Почтенный Ван [в своих успехах] покрывает тысячу ли в день. Это талант, достойный стоять рядом с правителем»[Хоу Хань шу, цз. 66, с. 16б].
Признаки, по которым Го Тай отличал «незаурядных людей», взяты из обыденных ситуаций. Например, он приходит на рынок с двумя юными знакомыми, родными братьями. Один из них покупает, не торгуясь, другой каждый раз просит сбавить цену. Го Тай замечает по этому поводу, что братья различаются между собой, как отец и сын [Саньго чжи, цз. 22, с. 19а]. А вот как обратил на себя внимание некто Мао Жун. Работая в поле, он вместе с товарищами укрылся от дождя под деревом. В то время как все сидели на корточках, Мао Жун, соблюдая принятые в ту эпоху правила этикета, сидел, поджав ноги под себя. Проезжавший мимо Го Тай «увидел и поразился необычайности» Мао Жуна. Пригласив Го Тая в свой дом, Мао Жун накормил его отрубями, как почтительный сын оставив курицу для матери, чем окончательно покорил знатока талантов [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 4а].
Еще один пример. Некий земляк Го Тая уронил кувшин и ушел, не взглянув на него, а на вопрос Го Тая, почему он так поступил, ответил: «Кувшин все равно разбился – к чему теперь смотреть на него?» И Го Тай по этой причине выделил его [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 4б].
Две оценки построены на противопоставлении способностей и добродетели. Так, о своих друзьях Се Чжэне и Бянь Жане Го Тай говорил: «Эти двое имеют с избытком талант героя. Как жаль, что они не следуют правильному пути!»
Впоследствии оба сложили голову на плахе [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 6б]. Наконец, еще два известных нам эпизода, зафиксированных в биографии Го Тая, воспроизводят обычную дидактическую тему: раскаяние дурных людей после воспитательной беседы Го Тая.
Бесспорно, Го Тай смотрел на людей глазами конфуцианского моралиста – позиция, вполне тривиальная для людей его круга. Почему же незамысловатые сентенции и психологические наблюдения «любителя рассуждать» получили столь широкую огласку и стали достоянием истории? Дело, очевидно, в культурной среде, запросы и вкусы которой Го Тай хорошо знал. Оценки способностей и «распознавание талантов» были тогда всеобщим поветрием, и не один Го Тай преуспел на этом поприще. Се Чжэн, например, по отзыву современника, даже превосходил его в способности оценить достоинства человека [Шишо синьюй, с. 108].
Консультации у «знатока людей» стали с того времени обычной практикой среди служилых верхов 9. В таком случае удивительна сама среда, в которой так много значил отзыв самозваных судей и которая заставляла Ли Ина «не принимать у себя никого, кроме выдающихся достойных мужей света», ученого Чжоу Чэна – «поддерживать отношения только с товарищами Чэнь Фаня и Хуан Цюна», а Юань Шао в 70-х годах – «не общаться с теми, чья слава не гремела повсюду в пределах морей» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 1б; Саньго чжи, цз. 12, с. 4б; Шишо синьюй, с. 108].
Подобные явления не объясняют сами себя. Практика личных оценок того времени с ее противопоставлением действительного положения человека и его истинного призвания может быть понята только в свете тогдашней политической обстановки. Она была реакцией служилой элиты на самоуправство дворцовых временщиков, стремившихся превратить администрацию в свою вотчину, и, стало быть, выполняла свою миссию постольку, поскольку отстраненность от власти сознавалась как печальный, но непреложный закон жизни «ученых служилых людей». Вероятно, именно такова подоплека требования искать непременно «притаившиеся таланты», хотя обнаруживались они, как правило, в семьях, авторитетных и влиятельных на местах.
Мерой «чистой славы» в те годы было политическое бессилие поборников «чистоты», перераставшее в отвращение к власти вообще. Не случайно кумиром «славных мужей» был Го Тай – человек, не только не служивший и не имевший охоты служить, но и принципиально сторонившийся политики. Как сказано в его биографии, «хотя Линьцзун любил обсуждать людей, он не произносил острых речей о текущих событиях, и поэтому евнухи, захватившие власть, не смогли причинить ему вреда» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2а-б].
Истории из жизни Го Тая интересно сопоставить с материалами о другом видном «знатоке людей» – уроженце Жунани Сюй Шао (150-195), чье имя ставили рядом с именем Го Тая: «В Поднебесной все, кто рассуждал о выдвижении на службу ши, славили Сюя и Го»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 9б].
Будучи моложе Го Тая на двадцать с лишним лет и родившись в именитой служилой семье, Сюй Шао рано окунулся в атмосферу «чистых суждений». Рассказывают, что в юношестве он и его старший брат встретились с известным деятелем «чистой» критики Юань Чжэном, назвавшим их «двумя драконами». Старшего брата Юань Чжэн сравнил по строгости манер с Чэнь Фанем, а по решимости искоренить зло – с Фань Паном. Сюй Шао он объявил «выдающимся человеком, какие редко рождаются на свете», но, по сообщению другого источника, сам Сюй Шао считал, что он уступает брату [Шишо синьюй, с. 108]. Тем не менее позднее Сюй Шао стал непререкаемым авторитетом для шидафу своей округи, а потом и соседних областей. Он порвал со своими высокопоставленными родичами в столице, связанными с могущественными евнухами, и довольствовался должностью начальника «ведомства заслуг» у себя в Жунани. На службе Сюй Шао, по отзыву его биографа, «поощрял преданных, отбирал справедливых, выдвигал добрых и отвергал злых» и приобрел такой авторитет, что о нем говорили: «Если похвалит, взлетишь, как дракон. Если побранит, словно рухнешь в бездну»[Тайпин юйлань, с. 1235]. Практике личных оценок он придал регулярный характер. Вместе с двоюродным братом Сюй Цзином он «обсуждал достоинства людей округи и каждый месяц выносил им оценку. Так в Жунани возник обычай „ежемесячной критики“» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10б].
Подобно Го Таю, Сюй Шао отбирал «притаившихся и незаметных» мужей: одного встретил на рынке, другого увидел на постоялом дворе, третьего, по выражению хрониста, «извлек из безвестности», четвертого отыскал среди низших служащих и т. д. [Шишо синьюй, с. 108]. Еще один интересный штрих к характеристике взглядов Сюй Шао: возвращавшийся в родную Жунань Юань Шао, отпрыск именитейшего служилого клана области, памятуя о «чистоте Сюй Шао», сменил парадный экипаж на скромную коляску, чтобы не попасться на глаза строгому критику в блеске чиновничьей славы [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10а]. В хрониках сохранилось лишь несколько образцов суждений Сюй Шао. В молодости он, сообщает биограф, посетил всех «достойных мужей» Инчуани и не заехал только к Чэнь Ши, а также не пошел на похороны жены Чэнь Фаня. Кто-то спросил Сюй Шао, почему он так поступил, и тот ответил: «Чэнь Ши в своем поведении широк, а когда широк, трудно быть беспристрастным. Чэнь Фань по натуре узок, а когда узок, мало постигаешь»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10а]. Позднее, когда Цао Цао потребовал у Сюй Шао дать ему оценку, тот нехотя сказал: «Вы – подлый разбойник в спокойные времена и блестящий герой в смутный век»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10б] 10.
Личность Сюй Шао и его оценки приоткрывают новые грани «чистой» критики, не совсем совпадающие с теми, которые запечатлены в облике Го Тая и вожаков «славных мужей» Инчуани.
Различны сферы деятельности и жизненные позиции двух корифеев «чистой» критики: Го Тай «разъезжал по всему Китаю» и предусмотрительно избегал выпадов против дворцовых временщиков. Сюй Шао действовал главным образом в пределах родной области и держался независимо даже по отношению к образцовым поборникам «чистоты». Впрочем, он не поладил даже со своим братом Сюй Цзином и на склоне лет, нажив себе могущественных врагов, был вынужден бежать в Цзяннань.
Неодинаков и стиль оценок двух «знатоков людей». Отзывы Сюй Шао выглядят более индивидуальными и, можно сказать, более конфликтными на фоне прямолинейных похвал и нравоучительных вердиктов Го Тая. Но и тот и другой разделяют нечто общее, свойственное практике «чистых суждений» в целом. Оба отворачиваются от существующего режима и противопоставляют славе официального ранга славу самодеятельных оценок. Оба ищут «незаурядные таланты» вне чиновничьих рядов, а суждения их при всем разнообразии оттенков тяготеют к риторической искусственности.
Мы знаем, среди мастеров «чистых суждений» высоко ценился дар «красиво говорить», и многие сохранившиеся оценки именно «литературно сделаны». Быть может, в риторике личных оценок отобразилась своеобразная противоречивость позиции «славных мужей», рекламировавших себя для политики, отвергая ее. Масштабы их славы были отмерены степенью их отстраненности от власти, и чем надежнее представало дело «чистой» критики, тем больше простора открывалось для словесной игры.
В «Новом изложении рассказов, в свете ходящих» приведен ряд отзывов того времени, выделяющихся претенциозной цветистостью. Перевести их удается лишь приблизительно: «торжественно строг, словно чувствуешь себя под высокими соснами»; «величав и могуч, словно яшмовая гора» (о Ли Ине); «бесподобно велик, словно конь, галопом преодолевающий десять тысяч ли» (о Чэнь Фане); «так возвышен, словно идешь под соснами и кипарисами» (о Чжу Му) [Шишо синьюй, с. 108].
Мы находимся у истоков фундаментальной традиции культуры раннесредневековой эпохи – традиции риторических отзывов, чаще выспренних, иногда шутливых, которыми обменивались в тогдашнем высшем свете. Лучшие из них составили целые главы «Нового изложения рассказов, в свете ходящих». Блистающие изяществом формы, эти оценки крайне отвлеченны, этикетны, чужды представления о психологической глубине личности. Они имеют отношение исключительно к сверхличной персоне. Личность предстает в них неуловимой и непонятной для мира в ее несказанном величии, да и сами авторы оценок нередко заявляют о невозможности выразить в точных формулах ее тайну. В оценках запечатлен характерный для традиции ши пафос безбрежности идеального человека, которая делает его «бесполезным» для суетного мира.
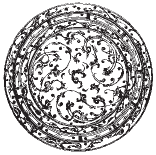
Чэнь Чэнь на вопрос о достоинствах его отца Чэнь Ши ответил: «Господин нашей семьи подобен коричному дереву, растущему у горы Тайшань. Оно устремилось ввысь на десять тысяч чжэней, внизу уходит в непостижимую глубину. Наверху оно увлажняется небесной росой, внизу омывается водами бездны. Если так, то будет ли ведома коричному дереву высота горы Тайшань, глубина вод бездны? Я не знаю, есть ли у него достоинства или нет»[Шишо синьюй, с. 22].
Совсем уже недвусмысленно высказался современник о «славном муже» III в. Шань Тао: «Как будто с вершины горы смотришь вниз. Все так смутно, глубоко и отдаленно» [Шишо синьюй, с. 109].О том же Шань Тао его друг говорил: «Подобен необработанной яшме, черновому золоту. Все люди радуются такому сокровищу, но не знают, как определить его ценность»[Шишо синьюй, с. 109].
При всей нарочитости подобных bons mots не будем забывать, что перед нами не просто игра ума. Эти отзывы служили с III в. своеобразной визитной карточкой представителей служилой элиты, удостоверявшей их политические прерогативы и привилегированный статус. Сама тема «неуловимой возвышенности» подвижников «чистоты» отобразила их стремление отстоять свою самостоятельность перед лицом выродившейся императорской власти. Но эта самобытность утверждалась скорее негативно, в лишенной конкретных качеств «неизъяснимой полноте» сверхличной Персоны.
До сих пор мы говорили больше о содержании тех новых веяний в нравах и духовной жизни верхов позднеханьского общества, которые указывают на рост самосознания хранителей традиции ши.
Существуют и более очевидные признаки этого процесса, запечатленные, например, в появлении новых жанров житийной литературы ши. О взгляде на ши, характерном для раннеханьского периода, можно судить из следующего эпизода. По свидетельству Ван Чуна, при императоре Сюань-ди было приказано нарисовать и выставить во дворце портреты «ши всех категорий». Потомки тех, кто не удостоился этой чести, добавляет Ван Чун, сгорали от стыда [Ван Чун, с. 197]. Неизвестно, чьи портреты появились тогда во дворце, но речь шла, очевидно, о придворных сановниках, и двор сам решал, кто заслуживает подобной награды. Известно, что Лю Сян на рубеже новой эры составил «Жизнеописания всех категорий», но писал он эту книгу как придворный историограф.
С консолидацией провинциальной элиты в позднеханьское время образ ши приобрел и локальную значимость, причем на первый план выдвигались не служебные заслуги, а личные доблести, нередко противопоставлявшиеся удачной карьере. Приведем характерное и едва ли не самое раннее упоминание на этот счет. При Шунь-ди правитель Инчуани Чжу Лун, пируя на новый год с подчиненными, спросил у начальника хозяйственного ведомства управы: «Я слышал, что в вашей драгоценной области горы и воды рождают много выдающихся ши. Нельзя ли услышать о достойных и мудрых былых времен?»В ответ помощник сказал: «Наша захудалая область проникнута высшей духовностьюЧжуншань 12 , вбирает в себя тончайший субстрат Срединного пика, поэтому совершенно мудрые в ней скапливаются, как драконы, великие герои собираются, как фениксы».Затем подчиненный Чжу Луна воздал хвалу нескольким деятелям разных эпох, подчеркнув не их служебные заслуги, даже если таковые были, а их духовную возвышенность, отвращение к почестям и богатству. Первым назван легендарный отшельник древности Сюй Ю, с негодованием отвергнувший предложение царя Яо сменить его на престоле, последним – упомянутый выше Ду Ань, который охарактеризован в следующих словах: «прославился познаниями в канонах, блестяще служил при дворе, в его неутомимой деятельности выразилась его внутренняя чистота, он умалял себя, поддерживал общее, смотрел на славу как на пыль, на богатство и знатность – как тяжкую обузу, жил в соломенной хижине за плетеными воротами» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 4а-б].
Свидетельством пробуждения самосознания местной элиты является распространение в позднеханьский период сборников жизнеописаний «прежних мудрецов» или «почтенных мужей былых времен» той или иной области – прообраз местных хроник средневековой эпохи. Китайские библиографы вели традицию земляческих сборников от Гуан У-ди, приказавшего составить «записи о нравах и обычаях» его родного Наньяна. Затем по примеру этих «записей» появились «Жизнеописания почтенных мужей былых времен удела Пэй» и района Саньфу (Гуаньчжун), «Похвальное слово прежним мудрецам» Лу и Цзянлу [Эршиуши бубянь, с. 2368].
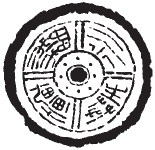
Интересно посмотреть, как реальные жизненные проблемы служилых людей преломлялись в культурной традиции ши. Очевидно, что «лицо», включавшее индивида в поле социальной взаимозависимости, выступало по отношению к нему как внешняя, принудительная сила. Попросту говоря, человек делал не то, что ему хотелось, но то, чего ждали от него другие.
Во всех приведенных выше высказываниях о «чистоте», «общем мнении» и прочих нормах публичной жизни ши эти нормы наделены ярко выраженной репрессивной функцией. Человек обрекался на совершение только нормативных действий, предположительно известных ему. К страху моральной неудачи добавлялся столь же постоянный страх перед непредсказуемыми действиями окружающих, которые могли нанести урон «лицу». Способом нейтрализации угрозы непредсказуемых действий могло стать принятие вины за них на себя. Пример Чоу Ланя, винившего себя за проступки домочадцев, нам уже известен. Но он не единственный в позднеханьской литературе. О сановнике Сюй Цзине, благополучно пережившем владычество «внешних кланов», сообщается, что он «всякое порицание принимал на себя» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 5б-6а]. Далекий от дворцовой политики Чэнь Ши также был известен тем, что «все доброе относил на счет других, все худое принимал на себя» [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 18б]. Та же тема в иной плоскости проявляется в характеристике раннеханьского сановника Гуань Фу, который держался независимо со старшими, но «с теми, кто был ниже его, он обращался как с равными, и чем беднее и худороднее они были, тем больше уважения он выказывал»[Хань шу, цз. 52, с. 5а].
Авторитет в культуре ши скрывался под маской смиренного и покаянного вида. «Лицо» поэтому было не просто воплощенной властью. Присущая ему аура кротости делала его еще и своеобразной защитной реакцией на репрессивный характер социального общения в культуре ши.
Нельзя не указать на важные различия в акцентах, отличающие китайскую и европейскую (индивидуалистическую) концепцию социального поведения. Если в центре европейской мысли стоял индивид, а социальная среда оценивалась скорее лишь с точки зрения ее значимости для субъективных решений, то в Китае руководствовались прежде всего идеей взаимообусловленности индивида и среды. Оттого ши в конечном счете не знали проблемы выбора действия. Выбор альтернатив заменяла им решимость претворять изначально заданное единение зависимости и автономии, следования аксиоматике действия и самоутверждения. В обществе ханьских ши это называлось «стоять в середине». Китайцы, по-своему не без основания, считали такую линию поведения не оппортунизмом, но, напротив, – признаком высшей твердости. О том же Сюй Цзине его биограф писал: «При дворе держался прямо, ни перед кем не склонялся» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 5б].
Акцент на взаимозависимости людей в культуре ши отнюдь не означал оправдания личного диктата и покорности. Заставлять кого бы то ни было рабски прислуживать себе или прислуживать самому было противно ее духу. Социум этой культуры был миром безмолвия, символической коммуникации, где никто не открывал имен власти и свободы.
Формирование идеала «чистоты» нельзя рассматривать в отрыве от политического развития империи. Как известно, с рубежа II в. требование «разделить чистых и грязных» стало главным лозунгом бюрократии, диктовавшимся борьбой между временщиками «внутреннего двора» и регулярным чиновничеством. Стремление поборников «чистоты» выделить себе подобных и отмежеваться от «грязных» элементов обострило интерес к вопросам моральной оценки личности или, как говорили в Китае, «знания людей». Достаточно сказать, что среди двух десятков лиц, названных в позднеханьских источниках «знатоками людей», только трое жили до середины II в., а остальные были свидетелями кризиса и гибели империи.
Обсуждение личных качеств тех или иных личностей становится с того времени респектабельным времяпрепровождением верхов общества. Так, в «Жизнеописаниях прежних достойных мужей Жунани» сообщается о некоем Сюй Цине, который, «обсуждая с друзьями упадок Хань, скорбел и плакал, за что заслужил прозвище „оплакивающий свое время“» [Тайпин юйлань, цз. 253, с. 5б]. О Го Тае сказано, что он умел «искусно рассуждать, красиво говорить». Когда к нему приходил ученый Бянь Жан, тоже «любитель рассуждать», беседа друзей «всегда тянулась целый день и до глубокой ночи» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 6б]. А биограф другого «славного мужа» тех лет, Фу Жуна, помещает беллетризованную зарисовку беседы: когда Фу Жун приходил к Ли Ину, тот «отпускал гостей и слушал его речи. Жун, в головной повязке 8, всплескивал рукавами, и его слова выплывали, подобно облакам. Ин сидел, сложив почтительно руки и затаив дыхание»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 8а].
Историографы того времени, словно зачарованные обаянием «знатоков людей», не удосужились поведать о содержании тех бесед. Судить о них приходится по афористически сжатым и часто невнятным отзывам и цитатам в биографиях деятелей «чистой» критики.
Наиболее примечательна фигура Го Тая, признанного кумира «славных мужей». Он родился в незнатной семье Тайюаня, рано лишился отца. Мать хотела устроить его служащим в уездной управе, но Го Тай заявил, что «великому мужу» негоже тратить силы по мелочам. Оставив свой забитый книгами дом, будущий корифей «чистой» критики отправился в местную школу, а потом в Лоян. Но не перспективой карьеры манила столица честолюбивого юношу. Другу, советовавшему ему пойти на службу, он рассказал о своем пессимистическом (а еще более крамольном) выводе: «Я ночью созерцаю горные образы, днем изучаю мирские события. То, что разрушается Небом, сохранить невозможно».Если Го Тай не был оригинален, отвергая службу, то он по крайней мере с беспрецедентной для ханьского времени решительностью отделил службу от назначения «великого мужа». Подобно Конфуцию и Мэн-цзы, заявлял Го Тай, «я странствую по Китаю, выделяя притаившихся и незаметных» [Хоу Хань цзи, цз. 23, с. 8б].
Поиск «сокрытых талантов» и прославил Го Тая. «Линьцзун (второе имя Го Тая. –В. М .) определял категории ши для всех и повсюду... Впоследствии все выделенные им стали знаменитостями, было их свыше 60 человек», –говорится в одной из версий биографии Го Тая [Эршиуши бубянь, с. 2235]. Данный отзыв является, очевидно, позднейшей легендой, не обязательно полностью соответствующей действительности. Тем не менее авторитет Го Тая как «знатока людей» и при его жизни был чрезвычайно высок, а когда в феврале 169 г. он умер, прожив 42 года, его похороны собрали, по одним данным, свыше тысячи, по другим – свыше десяти тысяч ученых со всей империи [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2б].
Го Тай начинал, конечно, не на пустом месте. Искусство «знания людей» издавна занимало почетное место в культуре служилых людей Древнего Китая. В «Книге Преданий» оно приравнивается к мудрости и умению управлять. Конфуций советовал в отношениях с людьми «вглядываться в мотивы их поведения, смотреть на причины их поступков, узнавать, что приносит им покой. Сможет ли тогда человек скрыть себя?» [Лунь юй, XI, 10]. Мэн-цзы считал возможным угадать натуру человека по его зрачкам и речи.
Физиогномика, несмотря на скептическое отношение к ней некоторых трезвомыслящих философов, например Сюнь-цзы, в Ханьскую эпоху процветала. Существовали, однако, принципиальные различия между практическим ремеслом физиогномистов и политически окрашенной, морализаторской деятельностью Го Тая и его единомышленников. Популярность гаданий о жизненных взлетах и падениях была обусловлена высоким уровнем социальной мобильности в древнекитайской империи. Деятели же «чистой» критики исходили скорее из обратной посылки: оценивая врожденный человеку «талант», они определяли его неизменную «категорию», или, говоря современным языком, подобающий ему статус. Известно, что Го Тай написал специальный трактат о «принципах отбора ши», который был вскоре утерян. Судить о взглядах Го Тая приходится на основании полутора десятков сюжетов, сохранившихся в биографических материалах.
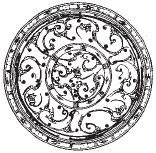
Достойный человек не может не обладать широтой познаний и твердостью духа. Его ноша тяжела, а путь его долог. Человечность – вот ноша, которую несет он: разве не тяжела она? Только смерть завершает его путь: разве не долог он?Большинство дошедших до нас суждений Го Тая заставляет недоумевать, чем этот человек покорял современников. Эти суждения представляют собой лаконичные и довольно бесхитростные отзывы, в которых не видно ни гениальной наблюдательности, ни гениального остроумия. Вот, к примеру, какой характеристикой наградил Го Тай известного противника евнухов Лю Жу: «Жу заикается, но его ум отточен. По натуре своей он – чистая яшма»[Хоу Хань шу, цз. 67, с. 34а].
Конфуций
Ряд оценок является простой констатацией соответствия таланта определенному чиновничьему рангу. Так, два брата из клана Ван в Тайюане еще юношами попросили Го Тая «определить их способности», и тот рассудил, что они обладают «талантом ранга двух тысяч даней». Предсказание, разумеется, сбылось [Саньго чжи, цз. 27, с. 6а]. О враге евнухов Ван Юне Го Тай говорил: «Почтенный Ван [в своих успехах] покрывает тысячу ли в день. Это талант, достойный стоять рядом с правителем»[Хоу Хань шу, цз. 66, с. 16б].
Признаки, по которым Го Тай отличал «незаурядных людей», взяты из обыденных ситуаций. Например, он приходит на рынок с двумя юными знакомыми, родными братьями. Один из них покупает, не торгуясь, другой каждый раз просит сбавить цену. Го Тай замечает по этому поводу, что братья различаются между собой, как отец и сын [Саньго чжи, цз. 22, с. 19а]. А вот как обратил на себя внимание некто Мао Жун. Работая в поле, он вместе с товарищами укрылся от дождя под деревом. В то время как все сидели на корточках, Мао Жун, соблюдая принятые в ту эпоху правила этикета, сидел, поджав ноги под себя. Проезжавший мимо Го Тай «увидел и поразился необычайности» Мао Жуна. Пригласив Го Тая в свой дом, Мао Жун накормил его отрубями, как почтительный сын оставив курицу для матери, чем окончательно покорил знатока талантов [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 4а].
Еще один пример. Некий земляк Го Тая уронил кувшин и ушел, не взглянув на него, а на вопрос Го Тая, почему он так поступил, ответил: «Кувшин все равно разбился – к чему теперь смотреть на него?» И Го Тай по этой причине выделил его [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 4б].
Две оценки построены на противопоставлении способностей и добродетели. Так, о своих друзьях Се Чжэне и Бянь Жане Го Тай говорил: «Эти двое имеют с избытком талант героя. Как жаль, что они не следуют правильному пути!»
Впоследствии оба сложили голову на плахе [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 6б]. Наконец, еще два известных нам эпизода, зафиксированных в биографии Го Тая, воспроизводят обычную дидактическую тему: раскаяние дурных людей после воспитательной беседы Го Тая.
Бесспорно, Го Тай смотрел на людей глазами конфуцианского моралиста – позиция, вполне тривиальная для людей его круга. Почему же незамысловатые сентенции и психологические наблюдения «любителя рассуждать» получили столь широкую огласку и стали достоянием истории? Дело, очевидно, в культурной среде, запросы и вкусы которой Го Тай хорошо знал. Оценки способностей и «распознавание талантов» были тогда всеобщим поветрием, и не один Го Тай преуспел на этом поприще. Се Чжэн, например, по отзыву современника, даже превосходил его в способности оценить достоинства человека [Шишо синьюй, с. 108].
Консультации у «знатока людей» стали с того времени обычной практикой среди служилых верхов 9. В таком случае удивительна сама среда, в которой так много значил отзыв самозваных судей и которая заставляла Ли Ина «не принимать у себя никого, кроме выдающихся достойных мужей света», ученого Чжоу Чэна – «поддерживать отношения только с товарищами Чэнь Фаня и Хуан Цюна», а Юань Шао в 70-х годах – «не общаться с теми, чья слава не гремела повсюду в пределах морей» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 1б; Саньго чжи, цз. 12, с. 4б; Шишо синьюй, с. 108].
Подобные явления не объясняют сами себя. Практика личных оценок того времени с ее противопоставлением действительного положения человека и его истинного призвания может быть понята только в свете тогдашней политической обстановки. Она была реакцией служилой элиты на самоуправство дворцовых временщиков, стремившихся превратить администрацию в свою вотчину, и, стало быть, выполняла свою миссию постольку, поскольку отстраненность от власти сознавалась как печальный, но непреложный закон жизни «ученых служилых людей». Вероятно, именно такова подоплека требования искать непременно «притаившиеся таланты», хотя обнаруживались они, как правило, в семьях, авторитетных и влиятельных на местах.
Мерой «чистой славы» в те годы было политическое бессилие поборников «чистоты», перераставшее в отвращение к власти вообще. Не случайно кумиром «славных мужей» был Го Тай – человек, не только не служивший и не имевший охоты служить, но и принципиально сторонившийся политики. Как сказано в его биографии, «хотя Линьцзун любил обсуждать людей, он не произносил острых речей о текущих событиях, и поэтому евнухи, захватившие власть, не смогли причинить ему вреда» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2а-б].
Истории из жизни Го Тая интересно сопоставить с материалами о другом видном «знатоке людей» – уроженце Жунани Сюй Шао (150-195), чье имя ставили рядом с именем Го Тая: «В Поднебесной все, кто рассуждал о выдвижении на службу ши, славили Сюя и Го»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 9б].
Будучи моложе Го Тая на двадцать с лишним лет и родившись в именитой служилой семье, Сюй Шао рано окунулся в атмосферу «чистых суждений». Рассказывают, что в юношестве он и его старший брат встретились с известным деятелем «чистой» критики Юань Чжэном, назвавшим их «двумя драконами». Старшего брата Юань Чжэн сравнил по строгости манер с Чэнь Фанем, а по решимости искоренить зло – с Фань Паном. Сюй Шао он объявил «выдающимся человеком, какие редко рождаются на свете», но, по сообщению другого источника, сам Сюй Шао считал, что он уступает брату [Шишо синьюй, с. 108]. Тем не менее позднее Сюй Шао стал непререкаемым авторитетом для шидафу своей округи, а потом и соседних областей. Он порвал со своими высокопоставленными родичами в столице, связанными с могущественными евнухами, и довольствовался должностью начальника «ведомства заслуг» у себя в Жунани. На службе Сюй Шао, по отзыву его биографа, «поощрял преданных, отбирал справедливых, выдвигал добрых и отвергал злых» и приобрел такой авторитет, что о нем говорили: «Если похвалит, взлетишь, как дракон. Если побранит, словно рухнешь в бездну»[Тайпин юйлань, с. 1235]. Практике личных оценок он придал регулярный характер. Вместе с двоюродным братом Сюй Цзином он «обсуждал достоинства людей округи и каждый месяц выносил им оценку. Так в Жунани возник обычай „ежемесячной критики“» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10б].
Подобно Го Таю, Сюй Шао отбирал «притаившихся и незаметных» мужей: одного встретил на рынке, другого увидел на постоялом дворе, третьего, по выражению хрониста, «извлек из безвестности», четвертого отыскал среди низших служащих и т. д. [Шишо синьюй, с. 108]. Еще один интересный штрих к характеристике взглядов Сюй Шао: возвращавшийся в родную Жунань Юань Шао, отпрыск именитейшего служилого клана области, памятуя о «чистоте Сюй Шао», сменил парадный экипаж на скромную коляску, чтобы не попасться на глаза строгому критику в блеске чиновничьей славы [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10а]. В хрониках сохранилось лишь несколько образцов суждений Сюй Шао. В молодости он, сообщает биограф, посетил всех «достойных мужей» Инчуани и не заехал только к Чэнь Ши, а также не пошел на похороны жены Чэнь Фаня. Кто-то спросил Сюй Шао, почему он так поступил, и тот ответил: «Чэнь Ши в своем поведении широк, а когда широк, трудно быть беспристрастным. Чэнь Фань по натуре узок, а когда узок, мало постигаешь»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10а]. Позднее, когда Цао Цао потребовал у Сюй Шао дать ему оценку, тот нехотя сказал: «Вы – подлый разбойник в спокойные времена и блестящий герой в смутный век»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10б] 10.
Личность Сюй Шао и его оценки приоткрывают новые грани «чистой» критики, не совсем совпадающие с теми, которые запечатлены в облике Го Тая и вожаков «славных мужей» Инчуани.
Различны сферы деятельности и жизненные позиции двух корифеев «чистой» критики: Го Тай «разъезжал по всему Китаю» и предусмотрительно избегал выпадов против дворцовых временщиков. Сюй Шао действовал главным образом в пределах родной области и держался независимо даже по отношению к образцовым поборникам «чистоты». Впрочем, он не поладил даже со своим братом Сюй Цзином и на склоне лет, нажив себе могущественных врагов, был вынужден бежать в Цзяннань.
Неодинаков и стиль оценок двух «знатоков людей». Отзывы Сюй Шао выглядят более индивидуальными и, можно сказать, более конфликтными на фоне прямолинейных похвал и нравоучительных вердиктов Го Тая. Но и тот и другой разделяют нечто общее, свойственное практике «чистых суждений» в целом. Оба отворачиваются от существующего режима и противопоставляют славе официального ранга славу самодеятельных оценок. Оба ищут «незаурядные таланты» вне чиновничьих рядов, а суждения их при всем разнообразии оттенков тяготеют к риторической искусственности.
Мы знаем, среди мастеров «чистых суждений» высоко ценился дар «красиво говорить», и многие сохранившиеся оценки именно «литературно сделаны». Быть может, в риторике личных оценок отобразилась своеобразная противоречивость позиции «славных мужей», рекламировавших себя для политики, отвергая ее. Масштабы их славы были отмерены степенью их отстраненности от власти, и чем надежнее представало дело «чистой» критики, тем больше простора открывалось для словесной игры.
В «Новом изложении рассказов, в свете ходящих» приведен ряд отзывов того времени, выделяющихся претенциозной цветистостью. Перевести их удается лишь приблизительно: «торжественно строг, словно чувствуешь себя под высокими соснами»; «величав и могуч, словно яшмовая гора» (о Ли Ине); «бесподобно велик, словно конь, галопом преодолевающий десять тысяч ли» (о Чэнь Фане); «так возвышен, словно идешь под соснами и кипарисами» (о Чжу Му) [Шишо синьюй, с. 108].
Мы находимся у истоков фундаментальной традиции культуры раннесредневековой эпохи – традиции риторических отзывов, чаще выспренних, иногда шутливых, которыми обменивались в тогдашнем высшем свете. Лучшие из них составили целые главы «Нового изложения рассказов, в свете ходящих». Блистающие изяществом формы, эти оценки крайне отвлеченны, этикетны, чужды представления о психологической глубине личности. Они имеют отношение исключительно к сверхличной персоне. Личность предстает в них неуловимой и непонятной для мира в ее несказанном величии, да и сами авторы оценок нередко заявляют о невозможности выразить в точных формулах ее тайну. В оценках запечатлен характерный для традиции ши пафос безбрежности идеального человека, которая делает его «бесполезным» для суетного мира.
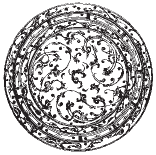
Верша нужна – чтоб поймать рыбу: когда рыба поймана, про вершу забывают. Ловушка нужна – чтоб поймать зайца: когда заяц пойман, про ловушку забывают. Слова нужны – чтоб поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают. Как бы мне найти человека, забывшего про слова, – и поговорить с ним!Фань Пан так восхвалял Го Тая в следующих словах: «Скрытен, но не избегает близости, целомудрен, но не порывает с пошлым светом. Сын Неба не может сделать его своим подданным, правители уделов не могут сделать его своим другом. Я не знаю, что он такое»[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2а] 11. Сам Го Тай так отзывался о своем близком друге Хуан Сяне: «Необъятен, как море в десять тысяч цин. Дайте ему покой – и он не станет чистым. Возмутите его – и он не станет грязным. Его натура глубока и широка, измерить ее трудно»[Шишо синьюй, с. 1].
Чжуан-цзы
Чэнь Чэнь на вопрос о достоинствах его отца Чэнь Ши ответил: «Господин нашей семьи подобен коричному дереву, растущему у горы Тайшань. Оно устремилось ввысь на десять тысяч чжэней, внизу уходит в непостижимую глубину. Наверху оно увлажняется небесной росой, внизу омывается водами бездны. Если так, то будет ли ведома коричному дереву высота горы Тайшань, глубина вод бездны? Я не знаю, есть ли у него достоинства или нет»[Шишо синьюй, с. 22].
Совсем уже недвусмысленно высказался современник о «славном муже» III в. Шань Тао: «Как будто с вершины горы смотришь вниз. Все так смутно, глубоко и отдаленно» [Шишо синьюй, с. 109].О том же Шань Тао его друг говорил: «Подобен необработанной яшме, черновому золоту. Все люди радуются такому сокровищу, но не знают, как определить его ценность»[Шишо синьюй, с. 109].
При всей нарочитости подобных bons mots не будем забывать, что перед нами не просто игра ума. Эти отзывы служили с III в. своеобразной визитной карточкой представителей служилой элиты, удостоверявшей их политические прерогативы и привилегированный статус. Сама тема «неуловимой возвышенности» подвижников «чистоты» отобразила их стремление отстоять свою самостоятельность перед лицом выродившейся императорской власти. Но эта самобытность утверждалась скорее негативно, в лишенной конкретных качеств «неизъяснимой полноте» сверхличной Персоны.
До сих пор мы говорили больше о содержании тех новых веяний в нравах и духовной жизни верхов позднеханьского общества, которые указывают на рост самосознания хранителей традиции ши.
Существуют и более очевидные признаки этого процесса, запечатленные, например, в появлении новых жанров житийной литературы ши. О взгляде на ши, характерном для раннеханьского периода, можно судить из следующего эпизода. По свидетельству Ван Чуна, при императоре Сюань-ди было приказано нарисовать и выставить во дворце портреты «ши всех категорий». Потомки тех, кто не удостоился этой чести, добавляет Ван Чун, сгорали от стыда [Ван Чун, с. 197]. Неизвестно, чьи портреты появились тогда во дворце, но речь шла, очевидно, о придворных сановниках, и двор сам решал, кто заслуживает подобной награды. Известно, что Лю Сян на рубеже новой эры составил «Жизнеописания всех категорий», но писал он эту книгу как придворный историограф.
С консолидацией провинциальной элиты в позднеханьское время образ ши приобрел и локальную значимость, причем на первый план выдвигались не служебные заслуги, а личные доблести, нередко противопоставлявшиеся удачной карьере. Приведем характерное и едва ли не самое раннее упоминание на этот счет. При Шунь-ди правитель Инчуани Чжу Лун, пируя на новый год с подчиненными, спросил у начальника хозяйственного ведомства управы: «Я слышал, что в вашей драгоценной области горы и воды рождают много выдающихся ши. Нельзя ли услышать о достойных и мудрых былых времен?»В ответ помощник сказал: «Наша захудалая область проникнута высшей духовностьюЧжуншань 12 , вбирает в себя тончайший субстрат Срединного пика, поэтому совершенно мудрые в ней скапливаются, как драконы, великие герои собираются, как фениксы».Затем подчиненный Чжу Луна воздал хвалу нескольким деятелям разных эпох, подчеркнув не их служебные заслуги, даже если таковые были, а их духовную возвышенность, отвращение к почестям и богатству. Первым назван легендарный отшельник древности Сюй Ю, с негодованием отвергнувший предложение царя Яо сменить его на престоле, последним – упомянутый выше Ду Ань, который охарактеризован в следующих словах: «прославился познаниями в канонах, блестяще служил при дворе, в его неутомимой деятельности выразилась его внутренняя чистота, он умалял себя, поддерживал общее, смотрел на славу как на пыль, на богатство и знатность – как тяжкую обузу, жил в соломенной хижине за плетеными воротами» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 4а-б].
Свидетельством пробуждения самосознания местной элиты является распространение в позднеханьский период сборников жизнеописаний «прежних мудрецов» или «почтенных мужей былых времен» той или иной области – прообраз местных хроник средневековой эпохи. Китайские библиографы вели традицию земляческих сборников от Гуан У-ди, приказавшего составить «записи о нравах и обычаях» его родного Наньяна. Затем по примеру этих «записей» появились «Жизнеописания почтенных мужей былых времен удела Пэй» и района Саньфу (Гуаньчжун), «Похвальное слово прежним мудрецам» Лу и Цзянлу [Эршиуши бубянь, с. 2368].
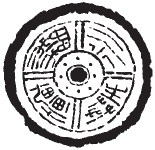
Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого дела начинается с малого, ибо в мире трудное дело образуется из легких, а великое – из маленьких. Поэтому мудрец всегда начинает дело не с великого, тем самым он завершает великое дело.
