Страница:
Неудивительно, что, казалось бы, и фундаментальное различие между свободными и несвободными, или «добрыми» (лян) и «подлыми» (цзянь), выражено в ханьской литературе крайне нечетко. Так, термины «цзянь жэнь» и «цзянь минь», оба означавшие «подлый человек», имели в действительности разный социальный смысл. Первый относился к несвободным слугам, второй – к свободным людям, которые по бедности и за неимением ранга знатности не могли поступить на службу. Категория «добрых людей», способных претендовать на высокое служебное положение, определялась скорее негативно. В нее включали тех, кто не имел в роду от пятого колена рабов и преступников.
Итак, символика власти, как неявленной, но всепокоряющей Силы, символика всеединства гармонии, с одной стороны, и бюрократический рационализм и практицизм, с другой, – вот два основных начала имперского порядка. И то и другое находило почву в формализации жизни, имевшей, правда, неодинаковую природу: ритуально-магическую в первом случае, рассудочную и инструментальную – во втором. За нежеланием имперских властей определить «права состояния» подданных империи скрывалась, надо полагать, определенная политическая стратегия: заставить каждого чувствовать себя обязанным императору как подателю жизни и целиком подчинить его бюрократическому контролю.
Формализм сообщал имперской организации огромную силу, но он же был источником ее слабости. Отсекая частную жизнь от публичной, империя требовала не личной преданности, даже не доверия к ее порядку, но только усердного исполнительства, чреватого безразличием к ее судьбе. Пытаясь втиснуть реальную жизнь в уставы и регламенты, империя невольно благоприятствовала вырождению административных процедур в фальсификацию. Участь каждой империи, появлявшейся на территории Китая, зависела в конечном счете от того, как сложится неизбежный, хотя и негласный, компромисс между имперскими институтами и социальной действительностью.
Деревенская община и «сильные дома»
Итак, символика власти, как неявленной, но всепокоряющей Силы, символика всеединства гармонии, с одной стороны, и бюрократический рационализм и практицизм, с другой, – вот два основных начала имперского порядка. И то и другое находило почву в формализации жизни, имевшей, правда, неодинаковую природу: ритуально-магическую в первом случае, рассудочную и инструментальную – во втором. За нежеланием имперских властей определить «права состояния» подданных империи скрывалась, надо полагать, определенная политическая стратегия: заставить каждого чувствовать себя обязанным императору как подателю жизни и целиком подчинить его бюрократическому контролю.
Формализм сообщал имперской организации огромную силу, но он же был источником ее слабости. Отсекая частную жизнь от публичной, империя требовала не личной преданности, даже не доверия к ее порядку, но только усердного исполнительства, чреватого безразличием к ее судьбе. Пытаясь втиснуть реальную жизнь в уставы и регламенты, империя невольно благоприятствовала вырождению административных процедур в фальсификацию. Участь каждой империи, появлявшейся на территории Китая, зависела в конечном счете от того, как сложится неизбежный, хотя и негласный, компромисс между имперскими институтами и социальной действительностью.
Деревенская община и «сильные дома»
Рассмотрение социального базиса имперской организации – нелегкая задача. Здесь мы уже отходим от подробных, но отвлеченных статусов империи и вступаем на зыбкую почву субъективного и личностного. Социальная идея в императорском Китае сводилась, с одной стороны, к идеалу предельной «всеобщности» (гун), с другой – к сугубо партикуляристскому и ситуативному восприятию социальной практики. Поэтому исторические материалы дают нам не цельный образ общества, но лишь разрозненные и часто противоречивые фрагменты общественной жизни.
Подобное состояние общественного сознания объяснялось прежде всего тем, что понятие социума в Китае так и не вышло за рамки семейно-общинного уклада; патриархальная семья выступала в китайской империи прообразом государства. Настаивая на подобии семьи и государства, имперская политическая доктрина в то же время признавала известный разрыв между ними. Власть главы семьи над его домочадцами считалась столь же полной, как и власть правителя над подданными. Дети не имели права ни доносить о преступлениях отца, ни свидетельствовать против него в суде, хотя в данном случае патриархальный авторитет главы семейства нейтрализовался законом о круговой поруке и наказании за недоносительство. Связь между государством и семьей была скорее условной, идеально постулируемой. Семья была сферой действия ритуала (ли), основанного на исполнении родственниками личного морального долга друг перед другом; деятельность же государственного аппарата подчинялась безличному регламенту, требовавшему сугубо формальной субординации.
Ханьские ученые достаточно четко отделяли принципы семейной жизни и службы государю. Один из них описывает двуединство семьи и государства следующим образом: «Уйдя в семью, отдавай все сердце родственникам. Выйдя на службу, напрягай все силы для государства»[Хань шу, цз. 76, с. 15б]. В другом случае хронист, говоря о заслугах чиновника, отобразил дуализм ритуала и административного контроля: «Служащие были умиротворены его управлением (чжэн), народ полюбил его учтивое обхождение (ли)»[Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 4б]. Последний отзыв позволяет уточнить роль конфуцианства и законничества в политической жизни империи. Если внутренний распорядок имперской бюрократии был составлен по рецептам законников, то конфуцианский ритуализм, скорее, оформлял отношения государства и общества в целом. Недаром именно конфуцианские ценности легли в основу системы отбора служилых людей в китайской империи. В коллизии семейного и служебного долга, доставлявшей волнений современникам той эпохи, но не допускавшей трагической развязки, отобразился способ существования империи как взаимодействия «внутреннего» фактора бюрократии и «внешнего» фактора естественного социального уклада.
Принципы семейных отношений распространялись и на сельскую общину. Последняя с середины первого тысячелетия до н. э. стала фундаментом деспотической государственности. К эпохе Чжаньго имущественное неравенство, частная собственность на пахотную землю, присутствие чужаков являлись нормой жизни древней китайской деревни. От раннеханьского периода дошли упоминания о разделении деревенских жителей на богатых, живших «по правую сторону от деревенских ворот», и бедных, живших на левой стороне [Ёсинами, 1978, с. 33]. В источниках различаются предводители общины – «отцы-старейшины» (фулао) и подчиненные им «сыновья и младшие братья» (цзыди). Несмотря на значительное имущественное расслоение внутри раннеханьской деревни, общинные традиции еще не были до конца подорваны. К концу III в. относится известие о клане Жэнь, члены которого держались следующих правил: «То, что не было получено с собственных полей и от своих домашних животных, нельзя было употреблять в качестве пищи и одежды. До окончания общих работ никто не мог пить вино и есть мясо. Поэтому [клан Жэнь] слыл образцом для всей округи»[Chu T'ung-tzu, 1972, с. 260].
Коллективизм, подобный описанному выше, очевидно, был большой редкостью для своего времени, но упоминания о взаимопомощи и совместных действиях членов общины в ханьских источниках довольно часты. Например, когда жена некоего Ли Чуна (I в.) потребовала, чтобы ее муж отделился от своих братьев, тот предложил, как нечто само собой разумеющееся, «спросить общее мнение мужчин и женщин деревни» [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 23а]. Раннеханьский деятель Чэнь Пин в молодости во время общинных празднеств «делил мясо на строго равные порции», за что заслужил похвалы от старейшин деревни [Хань шу, цз. 40, с. 12б].
Деспотическое государство, узурпировав общинную собственность и эксплуатируя крестьянские общины, само выступало как высшее воплощение общинного единства. Это наглядно отражалось в имперском идеале «великого поравнения» (тай пин), обозначении свободных общинников термином «поравненный народ», в отождествлении подданных с членами верховной государственной общины. Внутриобщинная иерархия получила официальную санкцию в виде системы рангов знатности, причем ханьская династия признавала прерогативы фулао и оказывала им особые знаки внимания. Магия императорской власти, продолжавшая традиции общинно-родовой религии, благотворительные пожалования двора простому народу и даже высшим чиновникам (которые около половины своих доходов получали в качестве личного дара императора) были составной частью имперского мифа.
Роль крестьянской общины как основы деспотического государства и наличие в ней отношений господства и подчинения – очевидные факты. И тем не менее проблема характера общины и степени ее социального расслоения до сих пор остается предметом дискуссии. Часть исследователей находит в ханьской деревне азиатскую общину, где мелкие крестьянские хозяйства, по существу, не имели самостоятельности. Большинство – и с большим основанием – говорят о соседской общине, базировавшейся на мелком крестьянском землевладении [Ёсинами, 1978, с. 155]. Что же касается оценки социального развития ханьской деревни, то она зависит в конечном счете от определения соотношения и взаимодействия мелкокрестьянского уклада с крупным землевладением. Концентрация земельной собственности получила широкий размах еще в доимперскую эпоху. Позднее, в ханьском Китае, приобретение земли было не только надежной и респектабельной, но и выгодной формой помещения капитала благодаря низким ставкам поземельного налога. Формально осуждаемая имперской идеологией жажда умножения земельного богатства была настолько свойственна верхушке ханьского общества, что хронисты писали как о редком образце бескорыстия и скромности о конфуцианском ученом, который «все раздавал родственникам, поля его не расширялись» [Хань шу, цз. 88, с. 14а].
В источниках встречается широкий спектр терминов, обозначающих могущественную верхушку местного общества. Большинство из них выражает идею общности по родственному признаку – таковы понятия «могущественный клан» (хао цзу), «старый клан» (цзю цзу), «большая фамилия» (да син), «именитая фамилия» (чжу син) и т. п. Иногда речь идет о богатых или просто «могущественных и выдающихся» (хао цзе) домах. Расплывчатость приведенных определений – сама по себе примечательный исторический факт, которому еще предстоит дать объяснение. Материалы источников практически не дают четкого представления о социальном лице провинциальной элиты ханьской империи; более того, это лицо может резко, подчас неузнаваемо меняться в разные исторические моменты.
Ввиду отмеченных трудностей изучение «сильных домов» удобнее начать с конкретного свидетельства их организации и быта. Классическое описание «сильного дома», относящееся к рубежу новой эры, содержится в биографии Фань Хуна, уроженца Наньяна. Фани, сообщается там, были «выдающейся фамилией округи. Отец [Фань Хуна] по имени Чжун и прозвищу Цзюньюнь, а также его предки были искусны в земледелии, любили торговать. Чжун по натуре был мягок и добр. [В его семье] держались правила владеть имуществом совместно тремя поколениями. Дети утром и вечером выражали свое почтение старшему, словно в государственной управе. Чжун управлял хозяйством так, что ничего не оставалось неиспользованным. Рабам он дал подходящую для каждого работу. Поэтому он смог добиться, чтобы высшие и низшие усердно трудились, а доходы умножались с каждым годом. Распахав новь, он расширил свои земельные владения от трехсот с лишним цинов (1 цин равнялся 11,4 а. –В. М.). Все построенные им здания имели двойные залы и высокие покои. Были у него озера и оросительные каналы, рыбные пруды и выгоны для скота. В чем бы ни возникла нужда, всего появлялось в достатке. Как-то он захотел изготовлять домашнюю утварь и сначала насадил катальпу и лаковое дерево. Люди насмехались над ним, но через несколько лет он извлек большую пользу из сделанного. Тогда [все насмешники] пришли к нему с извинениями. Богатство его выросло до 100 млн. монет. Он облагодетельствовал родственников и распространил милость на жителей округи. Сыновья его дочери, братья из рода Хэ, поспорили из-за имущества. [Фань Чжун] стыдясь этого, подарил им два цина земли, чтобы уладить ссору. В уезде восхищались им и выдвинули на должность саньлао»[Хоу Хань шу, цз. 32, с. 1а-2а].
Столь подробным описанием хозяйства местного магната мы обязаны счастливой случайности. Будучи земляком основателя позднеханьской династии Лю Сю и дядей его супруги, Фань Хун не мог похвастаться заслугами своих предков, и летописцы решили восполнить этот пробел панегириком хозяйственной сноровке его отца, для конфуцианской агиографии совершенно необычным. Судя по приведенному отрывку, экономически семейство Фаней ориентировалось на самообеспечение и, видимо, продажу излишков 5. Свои усадьбы Фань и ему подобные не стеснялись сравнивать с государством. Предводители «сильных домов», судя по источникам, могут представать одновременно рачительными хозяевами и бессребрениками, добрыми семьянинами и любителями удалых забав вроде лошадиных скачек или петушиных боев, своевольными воинами и учеными-начетчиками 6. Экономическое господство и бескорыстие, авторитаризм и забота о подчиненных являются типичными компонентами образа местного магната в дошедших до нас описаниях. Рассмотрим основные черты организации «сильных домов» на более широком материале.
Термины «большая фамилия», «могущественный клан» предполагают внушительные размеры такого родственного объединения. В качестве ядра «сильных домов» фигурирует патронимическая организация цзунцу, которая формально включала в себя всех имевших общего мужского предка родственников до пятого колена. На практике речь шла о группе семей, имевших общую фамилию, живших по соседству и сознававших свое родство. Численность кланов была различной – от нескольких десятков до ста и более человек. Например, когда Ли Тун, земляк и сподвижник Лю Сю, поднял мятеж против Ван Мана, местный правитель казнил 64 человека из его клана [Хоу Хань шу, цз. 15, с. 3а]. Клан чиновника Лу Кана (конец II в.) насчитывал более 100 человек, клан его современника Ма Чао, по утверждению последнего, – свыше 200 [Саньго чжи, цз. 36, с. 9а; Хоу Хань шу, цз. 31, с. 27а].
Основной ячейкой клана являлась малая семья. Когда сыновья достигали совершеннолетия и женились, происходил раздел семейного имущества, а родители оставались жить с одним из них, обычно старшим сыном. Отсюда, вероятно, существовавшая при Хань практика пожалования рангов знатности старшим сыновьям – единственный случай признания права примогенитуры за пределами царствующего дома. В позднеханьский период на севере Китая распространился тип семьи, основанной на «вертикальных» отношениях отца и взрослых сыновей, ведших совместное хозяйство. По мнению японского синолога С. Оти, экономическим базисом такой семьи стали новые методы коллективной вспашки из расчета трое мужчин на два буйвола [Оти, 1977, с. 10-21].
Тип «вертикальной» семьи запечатлен в таких нормах, как «жить вместе несколькими поколениями» и «тремя поколениями совместно владеть имуществом», ставших с позднеханьского времени идеалом семейного быта конфуцианизированных верхов общества. Выделить семьи, особенно преуспевшие на этом поприще, не упускали случая ни столичные летописцы, ни представители местной элиты. В надписи на каменной стеле в честь некоего Чоу Фу читаем, например: «Чоу Фу, по прозванию Чжунцзэ. В семье несколько поколений жили вместе, по всей округе восторгались его родительской любовью и сыновней почтительностью»[Oti, 1977, с. 18]. Но, как подсказывает сама громогласность похвал героям «сыновней почтительности», такая практика оставалась исключением из правила, и речь шла скорее о символических жестах, призванных поддержать лицо добропорядочного конфуцианского семейства. Лишь единичным поборникам семейной добродетели среди чиновников удавалось убедить часть жителей на подвластной им территории вернуться в отчий дом [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 32б; цз. 76, с. 17а]. Даже в тех случаях, когда братья формально вели общее хозяйство, их жены располагали собственными средствами и могли потребовать от мужей вести отдельное хозяйство [Хоу Хань шу, цз. 81, с. 23а].
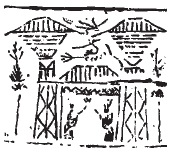
Таким образом, можно утверждать, что представления о семейно-клановом укладе в ханьскую эпоху характеризовались откровенным и сознательно утверждавшимся разрывом между идеальным образцом и реальной действительностью. Сам идеал заимствовался из архаической – чжоуской – эпохи, что превращает семью и клан, как феномены культуры раннеимператорского Китая, в анахронизм, своего рода консервативную фикцию. В конечном счете, касаясь организации «сильных домов», мы должны говорить не о клане, но скорее о номинальном существовании клановой структуры. Аналогичным образом обстоит дело и с представлением о «сильном доме» как одной семье, зиждившемся на псевдородственных отношениях. Патерналистская трактовка «сильного дома» как одной большой семьи традиционна для раннеимператорской эпохи. На деле же такая «семья» охватывала всех, кто подчинился власти ее главы и считался лично ему обязанным. В конце II в. чиновник Сунь Сун, укрывая друга от преследований властей, говорил ему: «Мой дом насчитывает сто человек, и мы достаточно сильны, чтобы помочь тебе» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 23б]. Тогда же служащий провинциальной управы Ян Юн, недовольный вмешательством начальника в его дела, уподоблял канцелярию семье. Если глава семьи, рассуждал Ян Юн, позволит каждому делать положенное ему – слугам пахать землю, служанкам носить хворост, петухам будить по утрам, собакам отпугивать воров, буйволам носить грузы, лошадям скакать по дорогам, то, не утомляя себя, он добьется полного порядка. Если же он лично возьмется за все дела, воцарится хаос, и он «утратит положение главы семьи» [Саньго чжи, цз. 45, с. 13а]. В обоих случаях семья приравнивается к двору или хозяйству, включающему в себя и весь зависимый люд.
Таким образом, уклад «сильных домов» базировался на личностных отношениях патрона и клиента (в Китае говорили «хозяина» и «гостя») с их принципом взаимообразности (бао), реципрокности в рамках асимметричных отношений «старших» и «младших». Соответственно «сильные дома» нередко описываются в литературе как объединение «родственников и гостей».
Принцип личных связей «хозяина» и «гостя» воплощен в этике так называемых людей долга (ся), обычно снабжавшихся эпитетами «своенравный», «лихой» и т. п. Идеографически знак «ся» являет картину одного большого человека в окружении двух маленьких. Поведение «людей долга» определялось особым кодексом чести, предписывавшим им даже ценой жизни мстить за обиды и заботиться о тех, кто им предан; свой союз ся скрепляли клятвой личной верности 7.
Сыма Цянь, положивший начало традиции «человека долга» в китайской литературе, нарисовал довольно романтический образ благородного поборника справедливости, который, «не жалея собственной жизни, помогает попавшим в беду», «всегда держит слово», «стыдится бравировать своей добротой перед людьми». Но Сыма Цянь, и сам, впрочем, признававший, что среди «людей долга» были заурядные разбойники, остался одинок в своих похвалах их образу жизни. Идеологи империи единодушно видели в ся антисоциальный элемент и узурпаторов государственной власти, сеятелей беззакония и анархии, заслуживавших самой суровой кары. Недаром «людьми долга» в ханьском Китае именовали шайки наемных убийц и обыкновенных грабителей [Хань шу, цз. 90, с. 20а-б; Хоу Хань шу, цз. 45, с. 24б].
Между тем в образе ся нетрудно разглядеть фигуру предводителя «сильного дома». Считалось, что господин оказывает «милость» (энь) своим людям, а те служат ему, «воздавая за милость» (бао энь), выполняя свой личный долг. С позднеханьского времени зависимый люд «сильных домов» нередко так и называли – «преданные из чувства долга» (и минь, и ту). В комментариях Жу Шуня (III в.) к труду Бань Гу ся определяются как союз людей, доверяющих друг другу, имеющих общие взгляды на добро и зло, способных властвовать в округе и достаточно сильных, чтобы навязывать свою волю высокопоставленным сановникам [Хань шу, цз. 37, с. 1а]. Могущественный тиран, терроризирующий окрестное население, – стереотипная и едва ли не самая распространенная характеристика вождя «сильного дома».
О жизненном укладе союзов ся сравнительно подробно повествуется в эпизоде, с которого Фань Е начинает историю восстания «краснобровых». В уезде Хайцюэ области Ланъе жила некая матушка Люй, сын которой, мелкий служащий, был казнен за какой-то проступок. Матушка Люй, говорится далее, «жила зажиточно, владела состоянием в несколько миллионов монет. Она наготовила угощения и вина, купила оружие и одежду, и молодцам, приходившим воспользоваться ее щедротами, давала всего в избытке. Тем, кто нуждался, она тут же давала одежду, не спрашивая, много ли требуется». Когда сбережения матушки Люй иссякли, она попросила кормившихся у нее удальцов отомстить за убитого сына, что и было исполнено [Хоу Хань шу, цз. 11, с. 12б].

Вопрос о формах эксплуатации и статусе зависимого люда в хозяйствах «сильных домов» относится к числу фундаментальных в социально-экономической истории раннеимператорского Китая. К сожалению, источники не позволяют дать на него четкий ответ. За исключением рабства, какие бы то ни было формы зависимости между частными лицами официальным законодательством не фиксировались. Зачастую лица, подчиненные домашнему патриарху, именуются просто «толпой», «множеством» (чжун). Для обозначения личнозависимых употреблялся целый ряд терминов: рабы (нубэй, нупу), «домашние мальчики» (цзятун), «зеленые повязки» (цинтоу), наконец, просто «рты» (шэнкоу) и пр. Работники в хозяйствах «сильных домов» звались обычно «арендаторы-гости» (дянькэ), «нанявшиеся гости» (инкэ), «работающие взаймы» (цзяцзо), т. е. работники, получавшие землю и орудия труда от хозяина. Иногда они фигурируют под общим названием «зависимые люди» (туфу). По мнению большинства исследователей, основную массу держателей земли «сильных домов» составляли арендаторы-издольщики, связанные с землевладельцем отношениями кабального должничества и выплачивавшие ему от половины до двух третей урожая (см. [Ebrey,с. 201; 73]).
Несомненно, крупные землевладельцы пользовались неустойчивостью экономического положения простых крестьян, значительная часть которых, если не большинство, не могла свести концы с концами. Доказательств тому немало, но мы ограничимся лишь несколькими. Интересные данные об экономической жизни раннеханьской деревни содержатся в документах, найденных близ Цзянлина (пров. Хубэй) в могиле некоего Чжан Яна, выполнявшего обязанности сельского старосты. Среди них имеются записи о выдаче ссуд семенного зерна 25 крестьянским дворам. Указанных в списках земельных участков крестьян – в среднем по 25 му на семью из 4 – 5 человек – не хватало даже для прокорма, так как с одного му хорошей земли в ханьский период получали около 3 даней зерна, а взрослому человеку для пропитания требовалось в месяц 1,5-2 даня [Ёсинами, 1978, с. 278]. О том, что множество крестьян постоянно не могли дотянуть до нового урожая, свидетельствует Цуй Ши, который в своих «Помесячных указаниях для четырех сословий народа» советует поздней весной «усилить охрану усадьбы, чтобы защититься от набегов разбойников, которые, словно трава, появляются в весеннюю пору, когда голодно» [Хрестоматия, 1980, с. 221].
Подобное состояние общественного сознания объяснялось прежде всего тем, что понятие социума в Китае так и не вышло за рамки семейно-общинного уклада; патриархальная семья выступала в китайской империи прообразом государства. Настаивая на подобии семьи и государства, имперская политическая доктрина в то же время признавала известный разрыв между ними. Власть главы семьи над его домочадцами считалась столь же полной, как и власть правителя над подданными. Дети не имели права ни доносить о преступлениях отца, ни свидетельствовать против него в суде, хотя в данном случае патриархальный авторитет главы семейства нейтрализовался законом о круговой поруке и наказании за недоносительство. Связь между государством и семьей была скорее условной, идеально постулируемой. Семья была сферой действия ритуала (ли), основанного на исполнении родственниками личного морального долга друг перед другом; деятельность же государственного аппарата подчинялась безличному регламенту, требовавшему сугубо формальной субординации.
Ханьские ученые достаточно четко отделяли принципы семейной жизни и службы государю. Один из них описывает двуединство семьи и государства следующим образом: «Уйдя в семью, отдавай все сердце родственникам. Выйдя на службу, напрягай все силы для государства»[Хань шу, цз. 76, с. 15б]. В другом случае хронист, говоря о заслугах чиновника, отобразил дуализм ритуала и административного контроля: «Служащие были умиротворены его управлением (чжэн), народ полюбил его учтивое обхождение (ли)»[Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 4б]. Последний отзыв позволяет уточнить роль конфуцианства и законничества в политической жизни империи. Если внутренний распорядок имперской бюрократии был составлен по рецептам законников, то конфуцианский ритуализм, скорее, оформлял отношения государства и общества в целом. Недаром именно конфуцианские ценности легли в основу системы отбора служилых людей в китайской империи. В коллизии семейного и служебного долга, доставлявшей волнений современникам той эпохи, но не допускавшей трагической развязки, отобразился способ существования империи как взаимодействия «внутреннего» фактора бюрократии и «внешнего» фактора естественного социального уклада.
Принципы семейных отношений распространялись и на сельскую общину. Последняя с середины первого тысячелетия до н. э. стала фундаментом деспотической государственности. К эпохе Чжаньго имущественное неравенство, частная собственность на пахотную землю, присутствие чужаков являлись нормой жизни древней китайской деревни. От раннеханьского периода дошли упоминания о разделении деревенских жителей на богатых, живших «по правую сторону от деревенских ворот», и бедных, живших на левой стороне [Ёсинами, 1978, с. 33]. В источниках различаются предводители общины – «отцы-старейшины» (фулао) и подчиненные им «сыновья и младшие братья» (цзыди). Несмотря на значительное имущественное расслоение внутри раннеханьской деревни, общинные традиции еще не были до конца подорваны. К концу III в. относится известие о клане Жэнь, члены которого держались следующих правил: «То, что не было получено с собственных полей и от своих домашних животных, нельзя было употреблять в качестве пищи и одежды. До окончания общих работ никто не мог пить вино и есть мясо. Поэтому [клан Жэнь] слыл образцом для всей округи»[Chu T'ung-tzu, 1972, с. 260].
Коллективизм, подобный описанному выше, очевидно, был большой редкостью для своего времени, но упоминания о взаимопомощи и совместных действиях членов общины в ханьских источниках довольно часты. Например, когда жена некоего Ли Чуна (I в.) потребовала, чтобы ее муж отделился от своих братьев, тот предложил, как нечто само собой разумеющееся, «спросить общее мнение мужчин и женщин деревни» [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 23а]. Раннеханьский деятель Чэнь Пин в молодости во время общинных празднеств «делил мясо на строго равные порции», за что заслужил похвалы от старейшин деревни [Хань шу, цз. 40, с. 12б].
Деспотическое государство, узурпировав общинную собственность и эксплуатируя крестьянские общины, само выступало как высшее воплощение общинного единства. Это наглядно отражалось в имперском идеале «великого поравнения» (тай пин), обозначении свободных общинников термином «поравненный народ», в отождествлении подданных с членами верховной государственной общины. Внутриобщинная иерархия получила официальную санкцию в виде системы рангов знатности, причем ханьская династия признавала прерогативы фулао и оказывала им особые знаки внимания. Магия императорской власти, продолжавшая традиции общинно-родовой религии, благотворительные пожалования двора простому народу и даже высшим чиновникам (которые около половины своих доходов получали в качестве личного дара императора) были составной частью имперского мифа.
Роль крестьянской общины как основы деспотического государства и наличие в ней отношений господства и подчинения – очевидные факты. И тем не менее проблема характера общины и степени ее социального расслоения до сих пор остается предметом дискуссии. Часть исследователей находит в ханьской деревне азиатскую общину, где мелкие крестьянские хозяйства, по существу, не имели самостоятельности. Большинство – и с большим основанием – говорят о соседской общине, базировавшейся на мелком крестьянском землевладении [Ёсинами, 1978, с. 155]. Что же касается оценки социального развития ханьской деревни, то она зависит в конечном счете от определения соотношения и взаимодействия мелкокрестьянского уклада с крупным землевладением. Концентрация земельной собственности получила широкий размах еще в доимперскую эпоху. Позднее, в ханьском Китае, приобретение земли было не только надежной и респектабельной, но и выгодной формой помещения капитала благодаря низким ставкам поземельного налога. Формально осуждаемая имперской идеологией жажда умножения земельного богатства была настолько свойственна верхушке ханьского общества, что хронисты писали как о редком образце бескорыстия и скромности о конфуцианском ученом, который «все раздавал родственникам, поля его не расширялись» [Хань шу, цз. 88, с. 14а].
В источниках встречается широкий спектр терминов, обозначающих могущественную верхушку местного общества. Большинство из них выражает идею общности по родственному признаку – таковы понятия «могущественный клан» (хао цзу), «старый клан» (цзю цзу), «большая фамилия» (да син), «именитая фамилия» (чжу син) и т. п. Иногда речь идет о богатых или просто «могущественных и выдающихся» (хао цзе) домах. Расплывчатость приведенных определений – сама по себе примечательный исторический факт, которому еще предстоит дать объяснение. Материалы источников практически не дают четкого представления о социальном лице провинциальной элиты ханьской империи; более того, это лицо может резко, подчас неузнаваемо меняться в разные исторические моменты.
Ввиду отмеченных трудностей изучение «сильных домов» удобнее начать с конкретного свидетельства их организации и быта. Классическое описание «сильного дома», относящееся к рубежу новой эры, содержится в биографии Фань Хуна, уроженца Наньяна. Фани, сообщается там, были «выдающейся фамилией округи. Отец [Фань Хуна] по имени Чжун и прозвищу Цзюньюнь, а также его предки были искусны в земледелии, любили торговать. Чжун по натуре был мягок и добр. [В его семье] держались правила владеть имуществом совместно тремя поколениями. Дети утром и вечером выражали свое почтение старшему, словно в государственной управе. Чжун управлял хозяйством так, что ничего не оставалось неиспользованным. Рабам он дал подходящую для каждого работу. Поэтому он смог добиться, чтобы высшие и низшие усердно трудились, а доходы умножались с каждым годом. Распахав новь, он расширил свои земельные владения от трехсот с лишним цинов (1 цин равнялся 11,4 а. –В. М.). Все построенные им здания имели двойные залы и высокие покои. Были у него озера и оросительные каналы, рыбные пруды и выгоны для скота. В чем бы ни возникла нужда, всего появлялось в достатке. Как-то он захотел изготовлять домашнюю утварь и сначала насадил катальпу и лаковое дерево. Люди насмехались над ним, но через несколько лет он извлек большую пользу из сделанного. Тогда [все насмешники] пришли к нему с извинениями. Богатство его выросло до 100 млн. монет. Он облагодетельствовал родственников и распространил милость на жителей округи. Сыновья его дочери, братья из рода Хэ, поспорили из-за имущества. [Фань Чжун] стыдясь этого, подарил им два цина земли, чтобы уладить ссору. В уезде восхищались им и выдвинули на должность саньлао»[Хоу Хань шу, цз. 32, с. 1а-2а].
Столь подробным описанием хозяйства местного магната мы обязаны счастливой случайности. Будучи земляком основателя позднеханьской династии Лю Сю и дядей его супруги, Фань Хун не мог похвастаться заслугами своих предков, и летописцы решили восполнить этот пробел панегириком хозяйственной сноровке его отца, для конфуцианской агиографии совершенно необычным. Судя по приведенному отрывку, экономически семейство Фаней ориентировалось на самообеспечение и, видимо, продажу излишков 5. Свои усадьбы Фань и ему подобные не стеснялись сравнивать с государством. Предводители «сильных домов», судя по источникам, могут представать одновременно рачительными хозяевами и бессребрениками, добрыми семьянинами и любителями удалых забав вроде лошадиных скачек или петушиных боев, своевольными воинами и учеными-начетчиками 6. Экономическое господство и бескорыстие, авторитаризм и забота о подчиненных являются типичными компонентами образа местного магната в дошедших до нас описаниях. Рассмотрим основные черты организации «сильных домов» на более широком материале.
Термины «большая фамилия», «могущественный клан» предполагают внушительные размеры такого родственного объединения. В качестве ядра «сильных домов» фигурирует патронимическая организация цзунцу, которая формально включала в себя всех имевших общего мужского предка родственников до пятого колена. На практике речь шла о группе семей, имевших общую фамилию, живших по соседству и сознававших свое родство. Численность кланов была различной – от нескольких десятков до ста и более человек. Например, когда Ли Тун, земляк и сподвижник Лю Сю, поднял мятеж против Ван Мана, местный правитель казнил 64 человека из его клана [Хоу Хань шу, цз. 15, с. 3а]. Клан чиновника Лу Кана (конец II в.) насчитывал более 100 человек, клан его современника Ма Чао, по утверждению последнего, – свыше 200 [Саньго чжи, цз. 36, с. 9а; Хоу Хань шу, цз. 31, с. 27а].
Основной ячейкой клана являлась малая семья. Когда сыновья достигали совершеннолетия и женились, происходил раздел семейного имущества, а родители оставались жить с одним из них, обычно старшим сыном. Отсюда, вероятно, существовавшая при Хань практика пожалования рангов знатности старшим сыновьям – единственный случай признания права примогенитуры за пределами царствующего дома. В позднеханьский период на севере Китая распространился тип семьи, основанной на «вертикальных» отношениях отца и взрослых сыновей, ведших совместное хозяйство. По мнению японского синолога С. Оти, экономическим базисом такой семьи стали новые методы коллективной вспашки из расчета трое мужчин на два буйвола [Оти, 1977, с. 10-21].
Тип «вертикальной» семьи запечатлен в таких нормах, как «жить вместе несколькими поколениями» и «тремя поколениями совместно владеть имуществом», ставших с позднеханьского времени идеалом семейного быта конфуцианизированных верхов общества. Выделить семьи, особенно преуспевшие на этом поприще, не упускали случая ни столичные летописцы, ни представители местной элиты. В надписи на каменной стеле в честь некоего Чоу Фу читаем, например: «Чоу Фу, по прозванию Чжунцзэ. В семье несколько поколений жили вместе, по всей округе восторгались его родительской любовью и сыновней почтительностью»[Oti, 1977, с. 18]. Но, как подсказывает сама громогласность похвал героям «сыновней почтительности», такая практика оставалась исключением из правила, и речь шла скорее о символических жестах, призванных поддержать лицо добропорядочного конфуцианского семейства. Лишь единичным поборникам семейной добродетели среди чиновников удавалось убедить часть жителей на подвластной им территории вернуться в отчий дом [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 32б; цз. 76, с. 17а]. Даже в тех случаях, когда братья формально вели общее хозяйство, их жены располагали собственными средствами и могли потребовать от мужей вести отдельное хозяйство [Хоу Хань шу, цз. 81, с. 23а].
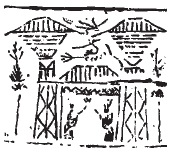
Благородный муж все тяготы взваливает на себя, а другим оставляет легкие дела, в то время как люди из толпы легкое берут себе, трудное оставляя другим. Благородный муж, стремясь вперед, не теряет своей цели.О том, как представляли себе клановый уклад ханьские современники, можно судить по трактату «Боху тунъи» (I в.), где термин «цзунцзу» (клан) разъясняется следующим образом: «Что такое цзун? Цзун – это почитание, почитание людьми цзун их предков во главе с основателем рода... Что такое цзу? Цзу – это единение и согласие, что значит согласие во взаимном милосердии и любви. При жизни по-родственному любят друг друга, по смерти скорбят и печалятся друг о друге, следуют пути единения, потому и называется: цзу»[Боху Тунъи, 1936, цз. 8, с. 5б-6а]. Авторы трактата даже не пытаются разъяснить смысл понятий «цзун» и «цзу» (цзун – главная линия клана, представленная старшими сыновьями, цзу – его боковые ветви). Не дают они и каких-либо рекомендаций, касающихся устройства жизни клана. Все сводится к требованию почитания предков и смутной идее «взаимной любви» его членов. Помимо родовых кладбищ, мы не встречаем в ханьскую эпоху таких осязаемых форм кланового единства, как общий храм предков или особый клин клановых земель. Ханьские ученые, вдохновляясь обычаями чжоуского времени, объявляли идеалом клановой жизни перераспределение средств между членами клана [Ин Шао, 1936, цз. 4, с. 11б]. Но этот идеал не мешал им считать вполне естественной ситуацию, когда «отец знатен, а сын презренен, дед презренен, а внук знатен... отец богат, а сын беден, старший брат беден, а младший богат» [Хэ Чанцюнь, 1964, с. 182]. Столь же естественным считалось неравенство между отдельными семьями клана, засвидетельствованное, помимо прочего, данными эпиграфики. Так, в надписи на каменной стеле, воздвигнутой в 167 г. в связи с осуществленным кланом Чжун ремонтом храма «идеального правителя» древности Яо в Цзиине, читаем: «Все семьи клана Чжун сообща построили каменные ступени перед зданием и оградой. Бедные и богатые равно поддержали предприятие, установили для каждого сумму взноса. Никто не пытался уклониться, в надлежащий срок деньги были собраны»(цит. по [Уэда, 1967, с. 29]).
Мо-цзы
Таким образом, можно утверждать, что представления о семейно-клановом укладе в ханьскую эпоху характеризовались откровенным и сознательно утверждавшимся разрывом между идеальным образцом и реальной действительностью. Сам идеал заимствовался из архаической – чжоуской – эпохи, что превращает семью и клан, как феномены культуры раннеимператорского Китая, в анахронизм, своего рода консервативную фикцию. В конечном счете, касаясь организации «сильных домов», мы должны говорить не о клане, но скорее о номинальном существовании клановой структуры. Аналогичным образом обстоит дело и с представлением о «сильном доме» как одной семье, зиждившемся на псевдородственных отношениях. Патерналистская трактовка «сильного дома» как одной большой семьи традиционна для раннеимператорской эпохи. На деле же такая «семья» охватывала всех, кто подчинился власти ее главы и считался лично ему обязанным. В конце II в. чиновник Сунь Сун, укрывая друга от преследований властей, говорил ему: «Мой дом насчитывает сто человек, и мы достаточно сильны, чтобы помочь тебе» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 23б]. Тогда же служащий провинциальной управы Ян Юн, недовольный вмешательством начальника в его дела, уподоблял канцелярию семье. Если глава семьи, рассуждал Ян Юн, позволит каждому делать положенное ему – слугам пахать землю, служанкам носить хворост, петухам будить по утрам, собакам отпугивать воров, буйволам носить грузы, лошадям скакать по дорогам, то, не утомляя себя, он добьется полного порядка. Если же он лично возьмется за все дела, воцарится хаос, и он «утратит положение главы семьи» [Саньго чжи, цз. 45, с. 13а]. В обоих случаях семья приравнивается к двору или хозяйству, включающему в себя и весь зависимый люд.
Таким образом, уклад «сильных домов» базировался на личностных отношениях патрона и клиента (в Китае говорили «хозяина» и «гостя») с их принципом взаимообразности (бао), реципрокности в рамках асимметричных отношений «старших» и «младших». Соответственно «сильные дома» нередко описываются в литературе как объединение «родственников и гостей».
Принцип личных связей «хозяина» и «гостя» воплощен в этике так называемых людей долга (ся), обычно снабжавшихся эпитетами «своенравный», «лихой» и т. п. Идеографически знак «ся» являет картину одного большого человека в окружении двух маленьких. Поведение «людей долга» определялось особым кодексом чести, предписывавшим им даже ценой жизни мстить за обиды и заботиться о тех, кто им предан; свой союз ся скрепляли клятвой личной верности 7.
Сыма Цянь, положивший начало традиции «человека долга» в китайской литературе, нарисовал довольно романтический образ благородного поборника справедливости, который, «не жалея собственной жизни, помогает попавшим в беду», «всегда держит слово», «стыдится бравировать своей добротой перед людьми». Но Сыма Цянь, и сам, впрочем, признававший, что среди «людей долга» были заурядные разбойники, остался одинок в своих похвалах их образу жизни. Идеологи империи единодушно видели в ся антисоциальный элемент и узурпаторов государственной власти, сеятелей беззакония и анархии, заслуживавших самой суровой кары. Недаром «людьми долга» в ханьском Китае именовали шайки наемных убийц и обыкновенных грабителей [Хань шу, цз. 90, с. 20а-б; Хоу Хань шу, цз. 45, с. 24б].
Между тем в образе ся нетрудно разглядеть фигуру предводителя «сильного дома». Считалось, что господин оказывает «милость» (энь) своим людям, а те служат ему, «воздавая за милость» (бао энь), выполняя свой личный долг. С позднеханьского времени зависимый люд «сильных домов» нередко так и называли – «преданные из чувства долга» (и минь, и ту). В комментариях Жу Шуня (III в.) к труду Бань Гу ся определяются как союз людей, доверяющих друг другу, имеющих общие взгляды на добро и зло, способных властвовать в округе и достаточно сильных, чтобы навязывать свою волю высокопоставленным сановникам [Хань шу, цз. 37, с. 1а]. Могущественный тиран, терроризирующий окрестное население, – стереотипная и едва ли не самая распространенная характеристика вождя «сильного дома».
О жизненном укладе союзов ся сравнительно подробно повествуется в эпизоде, с которого Фань Е начинает историю восстания «краснобровых». В уезде Хайцюэ области Ланъе жила некая матушка Люй, сын которой, мелкий служащий, был казнен за какой-то проступок. Матушка Люй, говорится далее, «жила зажиточно, владела состоянием в несколько миллионов монет. Она наготовила угощения и вина, купила оружие и одежду, и молодцам, приходившим воспользоваться ее щедротами, давала всего в избытке. Тем, кто нуждался, она тут же давала одежду, не спрашивая, много ли требуется». Когда сбережения матушки Люй иссякли, она попросила кормившихся у нее удальцов отомстить за убитого сына, что и было исполнено [Хоу Хань шу, цз. 11, с. 12б].

Единство всей тьмы вещей сосредоточено в одном отверстии; корень сотен дел выходит из одной двери.В годы краха режима Ван Мана и междоусобных войн усадьбы у местных властителей преображались в крепости, куда в поисках убежища стекались окрестные жители. Типичный пример – судьба поместья того же Фань Хуна, который в начале 20-х годов I в. выстроил крепость со рвом, а «примкнувших к нему семей старых и слабых насчитывалось более тысячи» [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 2б]. Тогда же Фэн Фан, земляк Фань Хуна, «собрал гостей, призвал мужей сильных и выдающихся, воздвиг крепость со рвом и стал ждать того, кому он мог бы предложить свою помощь» [Хоу Хань шу, цз. 33, с. 12а]. Уже после реставрации ханьской династии Чжао Ган, глава «большой фамилии» из Цинхэ, построил на границе уезда крепость, обучил латников и творил бесчинства [Хоу Хань шу, цз. 77,с. 6б]. То же самое в еще больших масштабах повторилось после распада ханьской империи.
«Хуай Нань-цзы»
Вопрос о формах эксплуатации и статусе зависимого люда в хозяйствах «сильных домов» относится к числу фундаментальных в социально-экономической истории раннеимператорского Китая. К сожалению, источники не позволяют дать на него четкий ответ. За исключением рабства, какие бы то ни было формы зависимости между частными лицами официальным законодательством не фиксировались. Зачастую лица, подчиненные домашнему патриарху, именуются просто «толпой», «множеством» (чжун). Для обозначения личнозависимых употреблялся целый ряд терминов: рабы (нубэй, нупу), «домашние мальчики» (цзятун), «зеленые повязки» (цинтоу), наконец, просто «рты» (шэнкоу) и пр. Работники в хозяйствах «сильных домов» звались обычно «арендаторы-гости» (дянькэ), «нанявшиеся гости» (инкэ), «работающие взаймы» (цзяцзо), т. е. работники, получавшие землю и орудия труда от хозяина. Иногда они фигурируют под общим названием «зависимые люди» (туфу). По мнению большинства исследователей, основную массу держателей земли «сильных домов» составляли арендаторы-издольщики, связанные с землевладельцем отношениями кабального должничества и выплачивавшие ему от половины до двух третей урожая (см. [Ebrey,с. 201; 73]).
Несомненно, крупные землевладельцы пользовались неустойчивостью экономического положения простых крестьян, значительная часть которых, если не большинство, не могла свести концы с концами. Доказательств тому немало, но мы ограничимся лишь несколькими. Интересные данные об экономической жизни раннеханьской деревни содержатся в документах, найденных близ Цзянлина (пров. Хубэй) в могиле некоего Чжан Яна, выполнявшего обязанности сельского старосты. Среди них имеются записи о выдаче ссуд семенного зерна 25 крестьянским дворам. Указанных в списках земельных участков крестьян – в среднем по 25 му на семью из 4 – 5 человек – не хватало даже для прокорма, так как с одного му хорошей земли в ханьский период получали около 3 даней зерна, а взрослому человеку для пропитания требовалось в месяц 1,5-2 даня [Ёсинами, 1978, с. 278]. О том, что множество крестьян постоянно не могли дотянуть до нового урожая, свидетельствует Цуй Ши, который в своих «Помесячных указаниях для четырех сословий народа» советует поздней весной «усилить охрану усадьбы, чтобы защититься от набегов разбойников, которые, словно трава, появляются в весеннюю пору, когда голодно» [Хрестоматия, 1980, с. 221].
