– Лезут! – кричит солдат. – Лезут, ах, черти!
Шеренги все ближе и ближе, с перекатным треском окутываются дымом; залп по флешам – и вот уже бегут, наклонив штыки, рассыпавшись вширь. Мелькают белые гетры и красные эполеты.
С красными потными лицами, разинутыми ртами кидаются на батарею, лезут на бруствер. С другой стороны с криком «ура!» врываются гренадеры. Флеши превращаются в гладиаторский круг, солдаты смешались в поединках. Артиллеристы дерутся банниками. Лязг штыков и сабель, вопли, проклятия, беспорядочная драка. Французы отодвигаются. С музыкой, ровно, красиво идет батальон. Достигает толпы дерущихся и тоже кидается в схватку. Откуда-то вырываются кавалеристы, рубка с яростным блистанием сабель, храп и ржание лошадей, клубы пыли, но все это дальше и дальше от флешей…
Вторая атака отбита. На батарее растаскивают завалы. Пушка села набок, ее поднимают на руках, ставят новое колесо. Стонут раненые. Офицеры собирают батальоны, прерывисто-напряженно кричит труба. Гренадеры опять строятся в каре, подбегают солдаты из вторых батальонов, впереди много потерь.
– Давай, давай, братцы! Отдыхать дома будем!
У французов тоже бурление, они готовятся к новой атаке. Наши канониры налаживают стрельбу, у них поредели расчеты. Лихо подлетает конная батарея.
– Батарея, стой! С передков долой!
Пушки разворачиваются и начинают бить по французам, а те плотными массами снова надвигаются на флеши. Третья атака!
Что-то есть одуряюще монотонное в этих атаках. Только что шли, отхлынули, засеяв поле телами, и снова идут, будто ничего не случилось. Идут широким фронтом, в несколько колонн, за колоннами кавалерия. Огромный квадрат войск наступает на флеши.
Гренадеры, все сплошь усачи, в белых ремнях крест-накрест, набычившись, исподлобья глядят на французов. Их каре похожи на маленькие крепости: с какой стороны ни подступись – штык и пуля. Первая шеренга дает залп и опускается на колено, стреляет вторая шеренга.
Французы пытаются обойти батальоны. Они развернулись лавой, конница хлынула по бокам, но гренадеры стоят как вкопанные. Все поле снова кишит сражающимися. Конники носятся между пешими. Сзади контратакует наша пехота. Какой-то генерал на коне гарцует в гуще войск. Уж не Багратион ли?
Я бестолково мечусь на Белке между кричащими, дерущимися солдатами. Французский улан промчался рядом, махнув саблей так, что свистнуло в ухе. Два пехотинца катаются по земле, бестолково дергая друг друга за одежду. Мимо бегут в разные стороны. Наконец все сметает волна кавалерии. Это наши кирасиры. С воздетыми палашами, в блестящих касках, они врезаются во фланг подходящим французам, теснят, опрокидывают. Бой начинает отползать к лесу.
– Ох ты маменька родная, – бормочет солдат. – Кажись, отразили.
Издали вижу штабную свиту. Оттуда выскакивает всадник на черной лошади. Это Листов, он забирает ко мне.
– Ну как, погрелись? Я к Тучкову за помощью!
Подъезжает ближе.
– У Тучкова еду просить батальоны. Да он упрямый, раз десять ему скажи. Слушайте, поезжайте за мной с перерывом. На левый фланг, к Тучкову-старшему. Говорите: приказ князя, отрядить дивизию.
– Да разве он вас не послушает?
– Кто его знает! Приказом он Багратиону не подчинен, да еще в плохих отношениях. И вдруг у него самого жарко? Уже посылали, а полков нет. Так вы скачите за мной и просите дивизию на флеши. Вместе, глядишь, уломаем.
Листов дал шпоры и ускакал. Потом поехал и я. Перескакивая через убитых, Белка мчала меня от флешей, где французы, яростно обмолачивая землю ядрами, готовили четвертую атаку.
3
4
Шеренги все ближе и ближе, с перекатным треском окутываются дымом; залп по флешам – и вот уже бегут, наклонив штыки, рассыпавшись вширь. Мелькают белые гетры и красные эполеты.
С красными потными лицами, разинутыми ртами кидаются на батарею, лезут на бруствер. С другой стороны с криком «ура!» врываются гренадеры. Флеши превращаются в гладиаторский круг, солдаты смешались в поединках. Артиллеристы дерутся банниками. Лязг штыков и сабель, вопли, проклятия, беспорядочная драка. Французы отодвигаются. С музыкой, ровно, красиво идет батальон. Достигает толпы дерущихся и тоже кидается в схватку. Откуда-то вырываются кавалеристы, рубка с яростным блистанием сабель, храп и ржание лошадей, клубы пыли, но все это дальше и дальше от флешей…
Вторая атака отбита. На батарее растаскивают завалы. Пушка села набок, ее поднимают на руках, ставят новое колесо. Стонут раненые. Офицеры собирают батальоны, прерывисто-напряженно кричит труба. Гренадеры опять строятся в каре, подбегают солдаты из вторых батальонов, впереди много потерь.
– Давай, давай, братцы! Отдыхать дома будем!
У французов тоже бурление, они готовятся к новой атаке. Наши канониры налаживают стрельбу, у них поредели расчеты. Лихо подлетает конная батарея.
– Батарея, стой! С передков долой!
Пушки разворачиваются и начинают бить по французам, а те плотными массами снова надвигаются на флеши. Третья атака!
Что-то есть одуряюще монотонное в этих атаках. Только что шли, отхлынули, засеяв поле телами, и снова идут, будто ничего не случилось. Идут широким фронтом, в несколько колонн, за колоннами кавалерия. Огромный квадрат войск наступает на флеши.
Гренадеры, все сплошь усачи, в белых ремнях крест-накрест, набычившись, исподлобья глядят на французов. Их каре похожи на маленькие крепости: с какой стороны ни подступись – штык и пуля. Первая шеренга дает залп и опускается на колено, стреляет вторая шеренга.
Французы пытаются обойти батальоны. Они развернулись лавой, конница хлынула по бокам, но гренадеры стоят как вкопанные. Все поле снова кишит сражающимися. Конники носятся между пешими. Сзади контратакует наша пехота. Какой-то генерал на коне гарцует в гуще войск. Уж не Багратион ли?
Я бестолково мечусь на Белке между кричащими, дерущимися солдатами. Французский улан промчался рядом, махнув саблей так, что свистнуло в ухе. Два пехотинца катаются по земле, бестолково дергая друг друга за одежду. Мимо бегут в разные стороны. Наконец все сметает волна кавалерии. Это наши кирасиры. С воздетыми палашами, в блестящих касках, они врезаются во фланг подходящим французам, теснят, опрокидывают. Бой начинает отползать к лесу.
– Ох ты маменька родная, – бормочет солдат. – Кажись, отразили.
Издали вижу штабную свиту. Оттуда выскакивает всадник на черной лошади. Это Листов, он забирает ко мне.
– Ну как, погрелись? Я к Тучкову за помощью!
Подъезжает ближе.
– У Тучкова еду просить батальоны. Да он упрямый, раз десять ему скажи. Слушайте, поезжайте за мной с перерывом. На левый фланг, к Тучкову-старшему. Говорите: приказ князя, отрядить дивизию.
– Да разве он вас не послушает?
– Кто его знает! Приказом он Багратиону не подчинен, да еще в плохих отношениях. И вдруг у него самого жарко? Уже посылали, а полков нет. Так вы скачите за мной и просите дивизию на флеши. Вместе, глядишь, уломаем.
Листов дал шпоры и ускакал. Потом поехал и я. Перескакивая через убитых, Белка мчала меня от флешей, где французы, яростно обмолачивая землю ядрами, готовили четвертую атаку.
3
Через березовый лес я выехал на дорогу. Впереди вой, грохот, правда, потише, чем в центре. У каждого встречного спрашиваю:
– Где штаб третьего корпуса?
– Там, там! – все машут рукой.
Наконец на вершине холмика вижу палатку и генералов. Тучков-старший, узнаю его по портретам, расхаживает впереди. Я прыгаю с Белки.
– Ваше превосходительство!
Он даже не оборачивается. Ядро падает совсем близко и вертится волчком. Тучков задумчиво смотрит на него.
– Ваше превосходительство! Из штаба второй армии! Командующий просит дивизию!
Тучков как бы с изумлением смотрит на меня.
– Опять дивизию? Да у вас одних адъютантов дивизия. Скачут через минуту. Поезжайте, поезжайте, милостивый государь.
– Ваше превосходительство! – снова начинаю я.
– Что-о! – вдруг кричит Тучков, и холеное лицо его передергивается. —Какая дивизия? А я с чем останусь? Кругом марш! – Но тут же добавляет спокойно: – Поезжайте, поезжайте, сами тут разберемся.
Несолоно хлебавши скачу обратно. Целый рой пуль вспархивает со всех сторон. Белка шарахается, и я попадаю в глухой кустарник. Выезжаю, обдираясь об сучья, овраг преграждает путь. Я забираю в сторону и натыкаюсь на повозку, танцующих лошадей и человека, пытающегося протащить их сквозь заросли. Лепихин!
– Берестов! – закричал он яростно и почти раздраженно. – Куда вы пропали, черт побери! – Словно мы только что расстались.
Он продолжал беспорядочно дергать узду, но лошади окончательно запутались. Повозка застряла в лесной канаве.
– Опаздываю! – говорил Лепихин. – Приехал вчера поздно, думал место тут подыскать, а утром встал – безнадежно. Хочу выбраться. Время, время идет! Не позже полудня я должен подняться!
– Куда?
– В воздух, черт побери, в воздух! С большим шаром не вышло, зря только торопили. А с маленьким все готово, осталось место найти.
– Вы хотите подняться в воздух?
– Я поднимусь! Было бы откуда. Нужна поляна с деревьями по бокам, а здесь заросли, да и березы малы. Мне нужно повыше, покрепче.
– Вы здесь один?
– Конечно. Еле сбежал. Позавчера Ростопчин заставил поднимать большой шар, к сражению хотел поспеть. Да, конечно, не вышло, куча недоделок. А маленький я готовил тайно, он мне для опыта нужен.
Шррр! Что-то пробороздило верхушки деревьев и ударило в ствол.
– Ага! Сюда достает. Мне надо место потише.
Лепихин вытер мокрый лоб.
– Давно жду большого сраженья. Все у меня готово, приборы и аппарат. Только подняться, а там…
– Какие у вас приборы?
– Это дети мои. На одну горелку два года ушло. Хрономосы и соляриты, ах да чего там! Сами увидите. В воздух вас не возьму, аппарат на одного. Но вы мне поможете при подъеме. Сейчас вот отсюда отъедем…
– Послушайте, – сказал я, – время ли сейчас для вашей затеи?
– Что? – сказал он. – Затеи? Да, время! Самое время! Другого времени не бывает. Я чувствую его пульс. Вы слышите, как оно напряглось? Как гудит каждая струнка? Сколько решается в эти часы! Пульс времени здесь проступает! Оно убыстрено, сдвинуто, оно обнажилось, и только здесь можно поймать его за хвост.
– Да как вы собираетесь это сделать?
– Сами увидите. У меня десятки приборов, только нужно поднять их повыше, туда, где излом временных пучков. Здесь место горячее, очень горячее. Это как в пустыне мираж. Там света лучи искривляются, а здесь лучи времени. Сегодня или никогда, я вам говорю!
Все это он выкрикивал, бегая вокруг повозки, кидая сучья под колеса, дергая лошадей.
– Ну что же вы стоите! Помогайте!
Кое-как мы вытолкнули повозку из ямы.
– Если поедете вдоль оврага, а потом повернете налево, не доезжая деревни, увидите то, что вам нужно, – сказал я. – Там есть дубовая роща.
– А вы?
– У меня поручение.
– Как? – закричал Лепихин. – Вы не желаете мне помочь?
– Сейчас сраженье.
– Но мне одному неудобно растягивать тросы. – Он смотрел на меня с наивным негодованием.
Я сел на Белку.
– Уезжаете? – изумился Лепихин. – Да как вы… Ах, так? Стыдно вам, Берестов, стыдно!
– Но почему?
– Вы оседлали время и не хотите, чтобы это сделал другой!
– О чем вы говорите? Какое время?
– Такое! – Он говорил запальчиво, чуть не по-детски. – Сами сказали!
– Но неужели вам достаточно простых слов? Мало ли что можно сказать?
– Вы на попятную?! – яростно закричал он. – Испугались? Ладно, я сам! Но про вас я знаю, все знаю! У меня доказательства, сто доказательств, я чувствую, наконец!
– Какие у вас доказательства? Чьи-то слова?
– Слова! Но не с одной стороны!
– Все это фантазия.
– А медальон?
– Какой медальон?
– Эмалевый медальон! Разве не вы рисовали?
– Вы про какой медальон?
– У вашей знакомой! У нее медальон, я видел его. Прелестная девушка, она не играла в прятки! Я помог ей бежать! Ее вы искали, ее! Вы сами сказали, что рисовали ее портрет и подпись на медальоне ваша. Что же, не вы рисовали?
– Но что это доказывает?
– Доказывает! Медальону сто лет!
– Сто лет?
– Сто лет, знаете сами. Он писан еще до Екатерины!
– До Екатерины?
– Это и простым глазом видно, хотя эмаль хорошо сохранилась. Но я не разглядываю чужих медальонов, она сама мне сказала! Это единственное, что ей досталось в наследство. На медальоне мать ее бабушки!
Я похолодел.
– Прабабка! – кричал Лепихин. – Только с ней как две капли воды!
– Ах так… – Я не знал, что сказать.
– Да что вы таитесь? – умоляюще заговорил Лепихин. – Не верите мне? Если не с вами, то с кем мне надежду делить? Кому ни скажи, за безумного принимают. Как тяжело, как трудно!
– Да в чем ваша надежда?
– Я сам не знаю! – сказал он с отчаянием. – Не знаю, не знаю! Но мне бы только начать! Заглянуть туда, приоткрыть завесу!
– Но разве это возможно? Ваши приборы, ваши шары. Время не схватишь простыми щипцами. Да и зачем?
– Да, невозможно… – Лепихин вдруг сел на землю. – Может, и нет… Вы правы. Вы не хотите понять. Вы не желаете. Это ваше право, я понимаю… Ну что ж, я сам. Как всегда…
– Прощайте, – сказал я. – Дай вам бог уцелеть от случайной пули, а после боя, быть может, и поговорим…
Я ускакал.
На флешах отбита четвертая атака. Французы ходили шестью дивизиями, ворвались в укрепления, но гренадеры снова отбросили их до леса.
Что я увидел на флешах? Я увидел, что гренадерской дивизии Воронцова нет. Вернее, она тут, она вся раскинулась перед глазами. Смерть припечатала ее к земле, не сумев рассеять по полю. Из четырех с лишним тысяч на вечерней перекличке не соберут и трех сотен.
А французы готовят новую атаку, пятую. Солдат с рукой, обмотанной грязной окровавленной тряпкой, разговаривает с другим. У того обвязана шея, глаза смотрят страдальчески.
– Сорока, давай в рихмы играть.
– Як це то рихми? – Сорока жмется плечами, ему больно.
– Эх ты, неученый. Рихмы – то чтоб складно было.
– А що ж, давай.
– Например, как твоего отца звали?
– Кузьма.
– Я твоего Кузьму за бороду возьму!
– Так вин без бороды був.
– А, тогда ладно. Ну а деда?
– Опанас.
– Опанас? Хм… А коли Опанас, то кривой на глаз!
– Ни, – возражает Сорока. – Обоими бачил.
Проезжает офицер.
– Ну что, братцы, держитесь?
– Скриготим зубами, а держимся! – отвечает солдат.
Подходит третья пехотная дивизия, Тучков-старший все-таки дал подкрепление. Одной бригадой здесь командует мой теперешний начальник младший Тучков. Я вижу, как он спокойно идет вдоль строящихся батальонов.
Они еще не были в деле. Французские ядра скачут по линии, лопаются гранаты. Быть может, сделать сейчас набросок атаки? Но для этого надо спешиться и выбрать место.
Я прячу Белку за исковерканным лафетом и вынимаю из сумки бумагу. Она пришпилена у меня на картон, грифель заточен.
Солнце уже высоко, сейчас часов десять. Но светить в полную силу ему не удается. Пороховые дымы пять часов рвутся из пушек, ружей и пистолетов. Горит все, что может гореть: деревья, зарядные ящики, уцелевшие избы. Плотная желтоватая дымка растет и растет в вышину над полем, кажется, сам воздух тлеет. Десять пушечных и сто ружейных выстрелов приходится на каждую секунду жарких часов Бородинского боя, это подсчитали потом. А сейчас кажется, что все железные трубы, большие и малые, ревут беспрерывно, прыгая, раскаляясь, выбрасывая за дымом дым.
Тррах! Со страшным звуком разрывается пушка на нашей батарее, она не выдержала беспрерывной стрельбы. Падают изувеченные канониры.
Пылают последние деревья и кусты, вся позиция заставлена большими и малыми факелами. Мимо меня проезжает Багратион с адъютантами. Он останавливается и пристально смотрит в сторону французов. Они тем временем заводят свое пиликанье и начинают маршировать на флеши. Ядра их косят, но французы идут.
– Браво! – Багратион хлопает в ладоши. – Жалко трогать молодцов. Как идут!
– С каждым разом все ближе строятся, – говорит офицер. – Скоро нос к носу будем отдыхать.
– Скажите Шатилову, чтоб встал наискосок, – приказывает Багратион. – Пусть с фланга ударит.
– Не успеет построиться, ваше сиятельство!
– Исполняйте! – резко говорит Багратион. – Браво, ей-богу, браво!
Вся сила французской атаки в первом натиске. Тут, кажется, не удержать.
Уже три раза с наскоку они брали флеши. Но у вдохновенного французского боя не всегда хватает дыхания. Сначала русские отступают, а потом тяжелым ударом возвращают занятые позиции.
В пятой атаке все повторилось. Французы ворвались на флеши и оседлали пушки. Гренадеры второй дивизии кинулись в контратаку, началась бойня. Я не успел сделать ни одного штриха, прорвавшиеся французы набегали с опущенными штыками. Мне пришлось спасаться, Белка так и осталась привязанной у лафета.
Я увидел Тучкова. Стройный, туго затянутый в мундир, он что-то кричал солдатам. Те как завороженные смотрели на промежуток поля перед собой, ядра ложились на нем особенно густо.
– Ах, так! – крикнул Тучков. – Стоите? Тогда я один!
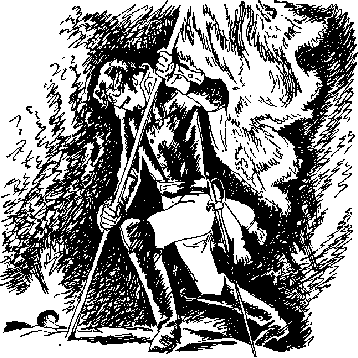 Он выхватил у солдата знамя и прямым шагом пошел навстречу ядрам. Десять шагов, двадцать, и вдруг опустился на колено. Гранаты рвались вокруг, плясали ядра.
Он выхватил у солдата знамя и прямым шагом пошел навстречу ядрам. Десять шагов, двадцать, и вдруг опустился на колено. Гранаты рвались вокруг, плясали ядра.
Что-то толкнуло меня. Может, вид одинокого, засыпанного ядрами генерала, может, склоненное знамя, которое он все еще держал на колене, но я кинулся вперед, ничего не помня. Я добежал до Тучкова. Он, с головой, упавшей на грудь, уже мертвый, все еще стоял на колене и необъяснимым послесмертным усилием держал древко с зеленым полотнищем.
Я наклонился, но тут же меня ударило в затылок, и все потемнело.
– Где штаб третьего корпуса?
– Там, там! – все машут рукой.
Наконец на вершине холмика вижу палатку и генералов. Тучков-старший, узнаю его по портретам, расхаживает впереди. Я прыгаю с Белки.
– Ваше превосходительство!
Он даже не оборачивается. Ядро падает совсем близко и вертится волчком. Тучков задумчиво смотрит на него.
– Ваше превосходительство! Из штаба второй армии! Командующий просит дивизию!
Тучков как бы с изумлением смотрит на меня.
– Опять дивизию? Да у вас одних адъютантов дивизия. Скачут через минуту. Поезжайте, поезжайте, милостивый государь.
– Ваше превосходительство! – снова начинаю я.
– Что-о! – вдруг кричит Тучков, и холеное лицо его передергивается. —Какая дивизия? А я с чем останусь? Кругом марш! – Но тут же добавляет спокойно: – Поезжайте, поезжайте, сами тут разберемся.
Несолоно хлебавши скачу обратно. Целый рой пуль вспархивает со всех сторон. Белка шарахается, и я попадаю в глухой кустарник. Выезжаю, обдираясь об сучья, овраг преграждает путь. Я забираю в сторону и натыкаюсь на повозку, танцующих лошадей и человека, пытающегося протащить их сквозь заросли. Лепихин!
– Берестов! – закричал он яростно и почти раздраженно. – Куда вы пропали, черт побери! – Словно мы только что расстались.
Он продолжал беспорядочно дергать узду, но лошади окончательно запутались. Повозка застряла в лесной канаве.
– Опаздываю! – говорил Лепихин. – Приехал вчера поздно, думал место тут подыскать, а утром встал – безнадежно. Хочу выбраться. Время, время идет! Не позже полудня я должен подняться!
– Куда?
– В воздух, черт побери, в воздух! С большим шаром не вышло, зря только торопили. А с маленьким все готово, осталось место найти.
– Вы хотите подняться в воздух?
– Я поднимусь! Было бы откуда. Нужна поляна с деревьями по бокам, а здесь заросли, да и березы малы. Мне нужно повыше, покрепче.
– Вы здесь один?
– Конечно. Еле сбежал. Позавчера Ростопчин заставил поднимать большой шар, к сражению хотел поспеть. Да, конечно, не вышло, куча недоделок. А маленький я готовил тайно, он мне для опыта нужен.
Шррр! Что-то пробороздило верхушки деревьев и ударило в ствол.
– Ага! Сюда достает. Мне надо место потише.
Лепихин вытер мокрый лоб.
– Давно жду большого сраженья. Все у меня готово, приборы и аппарат. Только подняться, а там…
– Какие у вас приборы?
– Это дети мои. На одну горелку два года ушло. Хрономосы и соляриты, ах да чего там! Сами увидите. В воздух вас не возьму, аппарат на одного. Но вы мне поможете при подъеме. Сейчас вот отсюда отъедем…
– Послушайте, – сказал я, – время ли сейчас для вашей затеи?
– Что? – сказал он. – Затеи? Да, время! Самое время! Другого времени не бывает. Я чувствую его пульс. Вы слышите, как оно напряглось? Как гудит каждая струнка? Сколько решается в эти часы! Пульс времени здесь проступает! Оно убыстрено, сдвинуто, оно обнажилось, и только здесь можно поймать его за хвост.
– Да как вы собираетесь это сделать?
– Сами увидите. У меня десятки приборов, только нужно поднять их повыше, туда, где излом временных пучков. Здесь место горячее, очень горячее. Это как в пустыне мираж. Там света лучи искривляются, а здесь лучи времени. Сегодня или никогда, я вам говорю!
Все это он выкрикивал, бегая вокруг повозки, кидая сучья под колеса, дергая лошадей.
– Ну что же вы стоите! Помогайте!
Кое-как мы вытолкнули повозку из ямы.
– Если поедете вдоль оврага, а потом повернете налево, не доезжая деревни, увидите то, что вам нужно, – сказал я. – Там есть дубовая роща.
– А вы?
– У меня поручение.
– Как? – закричал Лепихин. – Вы не желаете мне помочь?
– Сейчас сраженье.
– Но мне одному неудобно растягивать тросы. – Он смотрел на меня с наивным негодованием.
Я сел на Белку.
– Уезжаете? – изумился Лепихин. – Да как вы… Ах, так? Стыдно вам, Берестов, стыдно!
– Но почему?
– Вы оседлали время и не хотите, чтобы это сделал другой!
– О чем вы говорите? Какое время?
– Такое! – Он говорил запальчиво, чуть не по-детски. – Сами сказали!
– Но неужели вам достаточно простых слов? Мало ли что можно сказать?
– Вы на попятную?! – яростно закричал он. – Испугались? Ладно, я сам! Но про вас я знаю, все знаю! У меня доказательства, сто доказательств, я чувствую, наконец!
– Какие у вас доказательства? Чьи-то слова?
– Слова! Но не с одной стороны!
– Все это фантазия.
– А медальон?
– Какой медальон?
– Эмалевый медальон! Разве не вы рисовали?
– Вы про какой медальон?
– У вашей знакомой! У нее медальон, я видел его. Прелестная девушка, она не играла в прятки! Я помог ей бежать! Ее вы искали, ее! Вы сами сказали, что рисовали ее портрет и подпись на медальоне ваша. Что же, не вы рисовали?
– Но что это доказывает?
– Доказывает! Медальону сто лет!
– Сто лет?
– Сто лет, знаете сами. Он писан еще до Екатерины!
– До Екатерины?
– Это и простым глазом видно, хотя эмаль хорошо сохранилась. Но я не разглядываю чужих медальонов, она сама мне сказала! Это единственное, что ей досталось в наследство. На медальоне мать ее бабушки!
Я похолодел.
– Прабабка! – кричал Лепихин. – Только с ней как две капли воды!
– Ах так… – Я не знал, что сказать.
– Да что вы таитесь? – умоляюще заговорил Лепихин. – Не верите мне? Если не с вами, то с кем мне надежду делить? Кому ни скажи, за безумного принимают. Как тяжело, как трудно!
– Да в чем ваша надежда?
– Я сам не знаю! – сказал он с отчаянием. – Не знаю, не знаю! Но мне бы только начать! Заглянуть туда, приоткрыть завесу!
– Но разве это возможно? Ваши приборы, ваши шары. Время не схватишь простыми щипцами. Да и зачем?
– Да, невозможно… – Лепихин вдруг сел на землю. – Может, и нет… Вы правы. Вы не хотите понять. Вы не желаете. Это ваше право, я понимаю… Ну что ж, я сам. Как всегда…
– Прощайте, – сказал я. – Дай вам бог уцелеть от случайной пули, а после боя, быть может, и поговорим…
Я ускакал.
На флешах отбита четвертая атака. Французы ходили шестью дивизиями, ворвались в укрепления, но гренадеры снова отбросили их до леса.
Что я увидел на флешах? Я увидел, что гренадерской дивизии Воронцова нет. Вернее, она тут, она вся раскинулась перед глазами. Смерть припечатала ее к земле, не сумев рассеять по полю. Из четырех с лишним тысяч на вечерней перекличке не соберут и трех сотен.
А французы готовят новую атаку, пятую. Солдат с рукой, обмотанной грязной окровавленной тряпкой, разговаривает с другим. У того обвязана шея, глаза смотрят страдальчески.
– Сорока, давай в рихмы играть.
– Як це то рихми? – Сорока жмется плечами, ему больно.
– Эх ты, неученый. Рихмы – то чтоб складно было.
– А що ж, давай.
– Например, как твоего отца звали?
– Кузьма.
– Я твоего Кузьму за бороду возьму!
– Так вин без бороды був.
– А, тогда ладно. Ну а деда?
– Опанас.
– Опанас? Хм… А коли Опанас, то кривой на глаз!
– Ни, – возражает Сорока. – Обоими бачил.
Проезжает офицер.
– Ну что, братцы, держитесь?
– Скриготим зубами, а держимся! – отвечает солдат.
Подходит третья пехотная дивизия, Тучков-старший все-таки дал подкрепление. Одной бригадой здесь командует мой теперешний начальник младший Тучков. Я вижу, как он спокойно идет вдоль строящихся батальонов.
Они еще не были в деле. Французские ядра скачут по линии, лопаются гранаты. Быть может, сделать сейчас набросок атаки? Но для этого надо спешиться и выбрать место.
Я прячу Белку за исковерканным лафетом и вынимаю из сумки бумагу. Она пришпилена у меня на картон, грифель заточен.
Солнце уже высоко, сейчас часов десять. Но светить в полную силу ему не удается. Пороховые дымы пять часов рвутся из пушек, ружей и пистолетов. Горит все, что может гореть: деревья, зарядные ящики, уцелевшие избы. Плотная желтоватая дымка растет и растет в вышину над полем, кажется, сам воздух тлеет. Десять пушечных и сто ружейных выстрелов приходится на каждую секунду жарких часов Бородинского боя, это подсчитали потом. А сейчас кажется, что все железные трубы, большие и малые, ревут беспрерывно, прыгая, раскаляясь, выбрасывая за дымом дым.
Тррах! Со страшным звуком разрывается пушка на нашей батарее, она не выдержала беспрерывной стрельбы. Падают изувеченные канониры.
Пылают последние деревья и кусты, вся позиция заставлена большими и малыми факелами. Мимо меня проезжает Багратион с адъютантами. Он останавливается и пристально смотрит в сторону французов. Они тем временем заводят свое пиликанье и начинают маршировать на флеши. Ядра их косят, но французы идут.
– Браво! – Багратион хлопает в ладоши. – Жалко трогать молодцов. Как идут!
– С каждым разом все ближе строятся, – говорит офицер. – Скоро нос к носу будем отдыхать.
– Скажите Шатилову, чтоб встал наискосок, – приказывает Багратион. – Пусть с фланга ударит.
– Не успеет построиться, ваше сиятельство!
– Исполняйте! – резко говорит Багратион. – Браво, ей-богу, браво!
Вся сила французской атаки в первом натиске. Тут, кажется, не удержать.
Уже три раза с наскоку они брали флеши. Но у вдохновенного французского боя не всегда хватает дыхания. Сначала русские отступают, а потом тяжелым ударом возвращают занятые позиции.
В пятой атаке все повторилось. Французы ворвались на флеши и оседлали пушки. Гренадеры второй дивизии кинулись в контратаку, началась бойня. Я не успел сделать ни одного штриха, прорвавшиеся французы набегали с опущенными штыками. Мне пришлось спасаться, Белка так и осталась привязанной у лафета.
Я увидел Тучкова. Стройный, туго затянутый в мундир, он что-то кричал солдатам. Те как завороженные смотрели на промежуток поля перед собой, ядра ложились на нем особенно густо.
– Ах, так! – крикнул Тучков. – Стоите? Тогда я один!
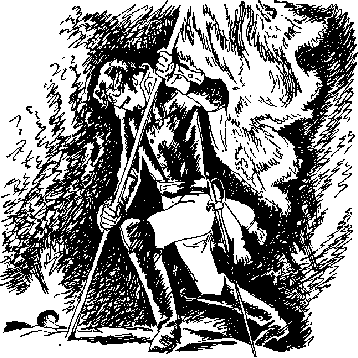
Что-то толкнуло меня. Может, вид одинокого, засыпанного ядрами генерала, может, склоненное знамя, которое он все еще держал на колене, но я кинулся вперед, ничего не помня. Я добежал до Тучкова. Он, с головой, упавшей на грудь, уже мертвый, все еще стоял на колене и необъяснимым послесмертным усилием держал древко с зеленым полотнищем.
Я наклонился, но тут же меня ударило в затылок, и все потемнело.
4
Темнота, темнота… Спокойная, плавающая. Со мной рядом сидит Наташа. Она всхлипывает:
– Ты совсем как мертвый, совсем…
Я шепчу:
– Я не мертвый. Меня ударило. Я хотел поднять знамя, и меня ударило. Где ты была?..
– Я здесь, я все время с тобой.
– Где ты, дай руку.
Она протягивает руку. Я тянусь, тянусь, не достаю. Она говорит:
– Все время с тобой, все время. Я говорю:
– Это неправильно, что мы расстались.
– Это неправильно, – говорит она.
– Мне без тебя трудно.
– И мне.
– Я ищу тебя, я все время ищу тебя. Где ты, Наташа?
– Я здесь, – шепчет она. – Куда тебя ударило?
– Где мне тебя найти?
– Я здесь, – шепчет она. – Я с тобой…
Проясняется. Меня несут два солдата.
– Ничаво, ваше благородие. Маленько гвоздануло, даже дырки не сделало. Ядром причесало. Это совсем ничаво. Красивше будете.
– Где генерал? – говорю я. – Генерала возьмите.
– Их превосходительство? Где там! Вы-то вперед пробежали, а евонного даже места не стало, чугуном позасыпало.
Что-то взрывается рядом, солдаты падают, я снова теряю сознание. Опять темнота. В ней младший Тучков. Он улыбается печально, издали машет рукой:
– Вот не могу подняться. Грудь навылет, да и ноги… Я бы поднялся. А жаль, в первой же атаке. Не повезло, право. Если Мари увидите, передайте, чтоб не искала…
– Мари? – Губы мои едва шевелятся.
– Жену так зову, Маргариту. Скажите, пусть уж не ищет. Тут на меня двое упало, потом еще и еще, лошадью придавило, где тут найти.
– Она все равно будет искать.
– Жалко ее… – Красивые губы Тучкова кривятся. – Бродить среди трупов каково…
Я говорю:
– Она все равно будет искать. День и целую ночь с факелом. Часовню поставит.
– Часовню? – говорит Тучков. – Мне? А ребятам? Ребятам поставьте часовню, сколько их у меня полегло…
Очнувшись, я нахожу себя прислоненным к лафету. Голова гудит, рука повисла. Рядом Листов.
– Как вас шарахнуло! Два раза от смерти ушли. А вы молодцом, полк поднимали в атаку. Я уж дивизионному фамилию сообщил, представит. Давайте руку перебинтую. Картечью, видно, царапнуло.
Правая кисть в крови, но, кажется, не перебита. Листов туго затягивает ее бинтами.
Рядом на земле сидят солдаты и делят каравай хлеба.
– Вот пахнет-то, братцы. В драке еще слаще, кормилец наш родимый.
– Глянь, у Ермила ядро в ранец закатилось! Где у тебя ранец-то был, Ермил?
– Тута вот бросил на един миг, а поднял, смотрю, чижелый.
– В ранец, эк невидаль! У канонеров ядро в пушку склизнуло, аккурат в самое дуло. Законопатило!
Тут же сидит француз с перебитой ногой, на него никто не обращает внимания. Француз разрывает рубашку и пытается перевязать ногу. Кто-то протягивает ему кусок хлеба.
– Эй, горемычный, пожуй маленько.
Француз берет хлеб, ест и давится. По щекам текут слезы.
– Дядька Максим, а чего они к нам прилезли? Смотрю вот, люди как люди.
– Господь ослепил, вот и прилезли, – важно отвечает Максим. – А так, оно конечно, люди. Как не люди…
– Вас все-таки в госпиталь надо, – говорит Листов. – Белка цела, поезжайте. А мне опять к Барклаю.
– Который час? – спросил я.
– Около десяти.
Я вспоминаю, что должен сделать рисунок. Хотя бы один рисунок, тот самый, который попадет в коллекцию Артюшина. Странное, непонятное, но острое ощущение причастности к этой, казалось бы, мелочи. Да что изменится, собственно говоря? Рука висит плетью, еще не известно, смогу ли стоять на ногах, «причесанная ядром» голова просто разламывается.
Что изменится? Не будет рисунка с подписью «Ал. Берестов», бумажки в коллекции отставного полковника. Но он уже есть, что-то твердит во мне. Этот рисунок, эта бумажка. Ты его видел, значит, он должен быть. Иначе какой-то изъян, какая-то неточность вклинится в будущее. Но что же с того? Пусть вклинится, так даже интереснее…
Шатаясь, встаю, сажусь на Белку. Кричу изо всех сил, а на самом деле лепечу еле-еле:
– На батарею…
– Браво! – Листов хлопает меня по плечу. – Вы молодчага!
Мы скачем. Издали на батарее ничего не разглядеть. Но вот дым рассеялся на мгновение, и мы увидели, как наши скатываются вниз по холму.
– Что такое? – закричал Листов. – Неужто отдали люнет!
Тут же его Арап взвился и запрыгал на трех ногах.
– Проклятье! Берестов, уступите лошадь. Да слезайте! Не видите, батарея пала! Вы же в седле еле держитесь!
Он стащил меня с Белки. Рядом в каре стоял батальон. Толстый смешной офицер бестолково бегал перед ним, что-то покрикивая. Пехотинцы стояли плотными рядами, в деле еще, видно, не были.
– Какого полка? – закричал Листов.
– Томского пехотного!
– Вы что же, не видите, что батарея пала? Именем главнокомандующего – за мной! Надо скинуть французов!
– Ребята! – закричал офицер тоненьким голосом. – Наш черед! Ура не кричать, пока на горку не влезем, а то выдохнетесь!
– Давайте! – крикнул Листов. – Поздно будет!
Он пришпорил Белку и поскакал впереди батальона. Томичи дружной гурьбой кинулись за ним. Батальонный бежал сбоку, неловко размахивая шпагой. Почти бегом они взяли склон батареи, и только там грянуло «ура!». Несколько сотен русских ударили в штыки чуть ли не на дивизию.
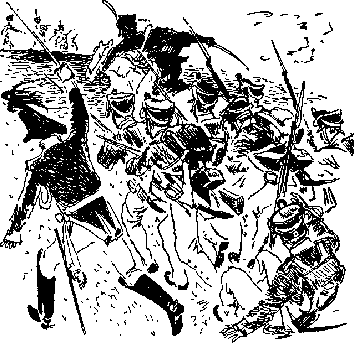 Французы замешкались. Пока они разобрались, что атакует всего горстка, подоспел еще полк, за ним другой. Высота закишела войсками, как муравейник. Я вытащил из сумки бумагу, карандаш и неверной, набухшей от боли рукой попробовал взять его в руку.
Французы замешкались. Пока они разобрались, что атакует всего горстка, подоспел еще полк, за ним другой. Высота закишела войсками, как муравейник. Я вытащил из сумки бумагу, карандаш и неверной, набухшей от боли рукой попробовал взять его в руку.
Атака на батарею Раевского! Почти безнадежный, отчаянный удар одного батальона на несколько французских полков. Но этот рискованный удар успели поддержать другие войска.
Атака на батарею Раевского составила себе громкую славу, хотя таких атак в Бородинском бою я видел немало. Случилось это, возможно, потому, что сразу два генерала, начальник штаба Ермолов и командующий артиллерией Кутайсов, кинулись отбивать высоту и оба получили раны, один небольшую, другой смертельную.
Но я не видел пока ни Ермолова, ни Кутайсова. Возможно, они замешались в атаку с другой стороны. Впереди всех я видел Листова на белой лошади, на моей Белке, за ним томичей, а там уж целую толпу войск – егерей, пехотинцев, драгун, гусар.
Зажав между пальцами карандаш, я сделал несколько штрихов. Острая боль пронзила руку, но я продолжал рисовать. Струйка крови скользнула из-под бинта и пропитала бумагу. Ага, вот они, буроватые пятна, которые я разглядывал у Артюшина, это моя кровь.
Голова налилась свинцовой тяжестью. Едва кончив набросок, я снова потерял сознание.
Что для меня потеря сознания в этом бою? Потеря одного и обретение другого? Я вижу ослепительную улыбку Кутайсова. Он скачет на своем караковом жеребце и смеется, как будто он не в бою, а на веселой охоте. Картечь сметает его, окровавив седло. Он падает на землю, садится, с изумленным лицом ощупывает растерзанную грудь.
Я вижу сердитое лицо Кутузова. Напрягаясь и краснея, он тоненьким голосом кричит:
– Христом богом просил тебя не лезть в простую пехоту! Ты чего упал? Поднимайся быстрее, раздавят копытами! Вставай, голубчик, вставай!
Кутайсов с тем же изумлением продолжает ощупывать грудь.
– Ваша светлость, кажется, я не могу. Осколок в груди. Ваша све… – Он медленно валится на землю.
– А пушки? – кричит Кутузов. – Кто над пушками останется, куда резервы попрятал?
– К-костенецкого ставьте, – бормочет Кутайсов. – А я… я помираю…
– Помираю! – кричит Кутузов. – Я тебе покажу – помираю! Сказывал, не лезь!.. Помирает? – спрашивает он с почти детским недоумением у окружающих.
– Убит сразу, – отвечают из свиты. – Непонятно, как еще разговаривал. Уже пятнадцать генералов выбито, ваша светлость. Троих наповал…
Генералы двенадцатого года! Как они молоды, многим нет и тридцати. Двадцать два из них окропили кровью бородинскую землю, двое остались там навсегда, погребенные под кучами трупов, трое умерли от ран…
Генералы двенадцатого года. Багратион, с лицом, озаренным вдохновением боя, кричащий «браво» французской атаке. Спокойный, ищущий смерти под ядрами Барклай. Незаметный Дохтуров, возникающий в самых опасных местах боя. Бесстрашный Милорадович, с трубкой в зубах на виду у французских батарей. Отчаянный Раевский, ходивший в атаку вместе с сыновьями. Самолюбивый и властный Ермолов, которого опасался сам царь. Красивый и нервный Коновницын, летавший по полю в расстегнутом сюртуке. Цепкий Неверовский, чудом державшийся с дивизией против тройной силы французов. Любимец Петербурга Кутайсов, писавший стихи и трактаты об артиллерии. Гигант Костенецкий, дравшийся как простой солдат и сломавший два банника о французские головы. Грузный, стареющий Лихачев, один бросившийся на французов со шпагой. Мужественный Кульнев, хитроумный Платов. Скромный Луков, единственный генерал, в послужном списке которого сказано «из солдатских детей». Командир четвертой дивизии, обладатель пышного титула принца Вюртембергского, ходивший в простой пехотной шинели, евший из котелка и спавший на земле рядом с солдатами…
Сухая пыль щекотала мне нос. Я очнулся лицом к земле и увидел жесткие, перепутанные остатки травы. Взъерошенные, помятые, они торчали, как обломки крохотных штыков, источая горький запах уставшей от битвы природы.
Я приподнялся. Мое беспамятство было недолгим, на высоте еще длилась схватка. Там все бурлило, рычало, сверкало. Но постепенно бой скатывался к Колоче. Высота осталась в наших руках, приняв на свое измученное тело еще пять тысяч убитых.
Чудом уцелел в этой схватке Листов. Он подъехал на Белке, держась за плечо и улыбаясь. Эполет сорван, рукав распорот, сорочка в крови.
– Штыком задело, – сказал он. – Пустяки.
Слез с Белки и вдруг опустился на землю, побледнел. Тут же подскакал генерал, без треуголки, тоже перепачканный кровью. Грива вьющихся русых волос, широкое распаленное лицо, тугой подбородок. Могучие плечи, скульптурность во всей фигуре. Я сразу узнал Ермолова.
– Чья лошадь? – закричал он веселым и в то же время повелительным голосом.
– Чей белый конь? Кто был в атаке?
Листов поднялся и твердо сказал:
– Это лошадь поручика Берестова.
– Герой поручик! – крикнул Ермолов. – Запомню! – И прежде чем я успел возразить, обратился к Листову: – А вы, ротмистр, поставьте пушки Никитина на высоту. – Он тут же дал шпоры и ускакал, обдав нас комьями из-под копыт.
– Вы ранены, вам перевязка нужна, – сказал я Листову.
– Где же Арап? – Листов оглядывал поле.
Арапа не было. То ли его добило, то ли, раненный, он ускакал из гущи боя.
– Ждите меня здесь. – Листов взобрался на Белку. – Сейчас отведу батарею и лошадь другую достану.
Я сунул рисунок в сумку и пошел на центральную высоту. Здесь в пороховом чаду, в тяжелом запахе изуродованных тел началась расчистка подъездов для артиллерии. Убирали разбитые лафеты, откатывали ядра, растаскивали трупы. Грохот стрельбы накрывал все тяжелым пластом. Нет да нет, новое попадание валило кого-то наземь. Дымилась земля, перепаханная копытами, колесами, ядрами, гранатами.
– Ты совсем как мертвый, совсем…
Я шепчу:
– Я не мертвый. Меня ударило. Я хотел поднять знамя, и меня ударило. Где ты была?..
– Я здесь, я все время с тобой.
– Где ты, дай руку.
Она протягивает руку. Я тянусь, тянусь, не достаю. Она говорит:
– Все время с тобой, все время. Я говорю:
– Это неправильно, что мы расстались.
– Это неправильно, – говорит она.
– Мне без тебя трудно.
– И мне.
– Я ищу тебя, я все время ищу тебя. Где ты, Наташа?
– Я здесь, – шепчет она. – Куда тебя ударило?
– Где мне тебя найти?
– Я здесь, – шепчет она. – Я с тобой…
Проясняется. Меня несут два солдата.
– Ничаво, ваше благородие. Маленько гвоздануло, даже дырки не сделало. Ядром причесало. Это совсем ничаво. Красивше будете.
– Где генерал? – говорю я. – Генерала возьмите.
– Их превосходительство? Где там! Вы-то вперед пробежали, а евонного даже места не стало, чугуном позасыпало.
Что-то взрывается рядом, солдаты падают, я снова теряю сознание. Опять темнота. В ней младший Тучков. Он улыбается печально, издали машет рукой:
– Вот не могу подняться. Грудь навылет, да и ноги… Я бы поднялся. А жаль, в первой же атаке. Не повезло, право. Если Мари увидите, передайте, чтоб не искала…
– Мари? – Губы мои едва шевелятся.
– Жену так зову, Маргариту. Скажите, пусть уж не ищет. Тут на меня двое упало, потом еще и еще, лошадью придавило, где тут найти.
– Она все равно будет искать.
– Жалко ее… – Красивые губы Тучкова кривятся. – Бродить среди трупов каково…
Я говорю:
– Она все равно будет искать. День и целую ночь с факелом. Часовню поставит.
– Часовню? – говорит Тучков. – Мне? А ребятам? Ребятам поставьте часовню, сколько их у меня полегло…
Очнувшись, я нахожу себя прислоненным к лафету. Голова гудит, рука повисла. Рядом Листов.
– Как вас шарахнуло! Два раза от смерти ушли. А вы молодцом, полк поднимали в атаку. Я уж дивизионному фамилию сообщил, представит. Давайте руку перебинтую. Картечью, видно, царапнуло.
Правая кисть в крови, но, кажется, не перебита. Листов туго затягивает ее бинтами.
Рядом на земле сидят солдаты и делят каравай хлеба.
– Вот пахнет-то, братцы. В драке еще слаще, кормилец наш родимый.
– Глянь, у Ермила ядро в ранец закатилось! Где у тебя ранец-то был, Ермил?
– Тута вот бросил на един миг, а поднял, смотрю, чижелый.
– В ранец, эк невидаль! У канонеров ядро в пушку склизнуло, аккурат в самое дуло. Законопатило!
Тут же сидит француз с перебитой ногой, на него никто не обращает внимания. Француз разрывает рубашку и пытается перевязать ногу. Кто-то протягивает ему кусок хлеба.
– Эй, горемычный, пожуй маленько.
Француз берет хлеб, ест и давится. По щекам текут слезы.
– Дядька Максим, а чего они к нам прилезли? Смотрю вот, люди как люди.
– Господь ослепил, вот и прилезли, – важно отвечает Максим. – А так, оно конечно, люди. Как не люди…
– Вас все-таки в госпиталь надо, – говорит Листов. – Белка цела, поезжайте. А мне опять к Барклаю.
– Который час? – спросил я.
– Около десяти.
Я вспоминаю, что должен сделать рисунок. Хотя бы один рисунок, тот самый, который попадет в коллекцию Артюшина. Странное, непонятное, но острое ощущение причастности к этой, казалось бы, мелочи. Да что изменится, собственно говоря? Рука висит плетью, еще не известно, смогу ли стоять на ногах, «причесанная ядром» голова просто разламывается.
Что изменится? Не будет рисунка с подписью «Ал. Берестов», бумажки в коллекции отставного полковника. Но он уже есть, что-то твердит во мне. Этот рисунок, эта бумажка. Ты его видел, значит, он должен быть. Иначе какой-то изъян, какая-то неточность вклинится в будущее. Но что же с того? Пусть вклинится, так даже интереснее…
Шатаясь, встаю, сажусь на Белку. Кричу изо всех сил, а на самом деле лепечу еле-еле:
– На батарею…
– Браво! – Листов хлопает меня по плечу. – Вы молодчага!
Мы скачем. Издали на батарее ничего не разглядеть. Но вот дым рассеялся на мгновение, и мы увидели, как наши скатываются вниз по холму.
– Что такое? – закричал Листов. – Неужто отдали люнет!
Тут же его Арап взвился и запрыгал на трех ногах.
– Проклятье! Берестов, уступите лошадь. Да слезайте! Не видите, батарея пала! Вы же в седле еле держитесь!
Он стащил меня с Белки. Рядом в каре стоял батальон. Толстый смешной офицер бестолково бегал перед ним, что-то покрикивая. Пехотинцы стояли плотными рядами, в деле еще, видно, не были.
– Какого полка? – закричал Листов.
– Томского пехотного!
– Вы что же, не видите, что батарея пала? Именем главнокомандующего – за мной! Надо скинуть французов!
– Ребята! – закричал офицер тоненьким голосом. – Наш черед! Ура не кричать, пока на горку не влезем, а то выдохнетесь!
– Давайте! – крикнул Листов. – Поздно будет!
Он пришпорил Белку и поскакал впереди батальона. Томичи дружной гурьбой кинулись за ним. Батальонный бежал сбоку, неловко размахивая шпагой. Почти бегом они взяли склон батареи, и только там грянуло «ура!». Несколько сотен русских ударили в штыки чуть ли не на дивизию.
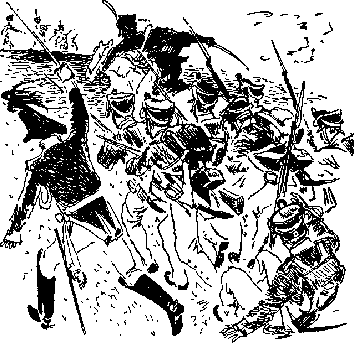
Атака на батарею Раевского! Почти безнадежный, отчаянный удар одного батальона на несколько французских полков. Но этот рискованный удар успели поддержать другие войска.
Атака на батарею Раевского составила себе громкую славу, хотя таких атак в Бородинском бою я видел немало. Случилось это, возможно, потому, что сразу два генерала, начальник штаба Ермолов и командующий артиллерией Кутайсов, кинулись отбивать высоту и оба получили раны, один небольшую, другой смертельную.
Но я не видел пока ни Ермолова, ни Кутайсова. Возможно, они замешались в атаку с другой стороны. Впереди всех я видел Листова на белой лошади, на моей Белке, за ним томичей, а там уж целую толпу войск – егерей, пехотинцев, драгун, гусар.
Зажав между пальцами карандаш, я сделал несколько штрихов. Острая боль пронзила руку, но я продолжал рисовать. Струйка крови скользнула из-под бинта и пропитала бумагу. Ага, вот они, буроватые пятна, которые я разглядывал у Артюшина, это моя кровь.
Голова налилась свинцовой тяжестью. Едва кончив набросок, я снова потерял сознание.
Что для меня потеря сознания в этом бою? Потеря одного и обретение другого? Я вижу ослепительную улыбку Кутайсова. Он скачет на своем караковом жеребце и смеется, как будто он не в бою, а на веселой охоте. Картечь сметает его, окровавив седло. Он падает на землю, садится, с изумленным лицом ощупывает растерзанную грудь.
Я вижу сердитое лицо Кутузова. Напрягаясь и краснея, он тоненьким голосом кричит:
– Христом богом просил тебя не лезть в простую пехоту! Ты чего упал? Поднимайся быстрее, раздавят копытами! Вставай, голубчик, вставай!
Кутайсов с тем же изумлением продолжает ощупывать грудь.
– Ваша светлость, кажется, я не могу. Осколок в груди. Ваша све… – Он медленно валится на землю.
– А пушки? – кричит Кутузов. – Кто над пушками останется, куда резервы попрятал?
– К-костенецкого ставьте, – бормочет Кутайсов. – А я… я помираю…
– Помираю! – кричит Кутузов. – Я тебе покажу – помираю! Сказывал, не лезь!.. Помирает? – спрашивает он с почти детским недоумением у окружающих.
– Убит сразу, – отвечают из свиты. – Непонятно, как еще разговаривал. Уже пятнадцать генералов выбито, ваша светлость. Троих наповал…
Генералы двенадцатого года! Как они молоды, многим нет и тридцати. Двадцать два из них окропили кровью бородинскую землю, двое остались там навсегда, погребенные под кучами трупов, трое умерли от ран…
Генералы двенадцатого года. Багратион, с лицом, озаренным вдохновением боя, кричащий «браво» французской атаке. Спокойный, ищущий смерти под ядрами Барклай. Незаметный Дохтуров, возникающий в самых опасных местах боя. Бесстрашный Милорадович, с трубкой в зубах на виду у французских батарей. Отчаянный Раевский, ходивший в атаку вместе с сыновьями. Самолюбивый и властный Ермолов, которого опасался сам царь. Красивый и нервный Коновницын, летавший по полю в расстегнутом сюртуке. Цепкий Неверовский, чудом державшийся с дивизией против тройной силы французов. Любимец Петербурга Кутайсов, писавший стихи и трактаты об артиллерии. Гигант Костенецкий, дравшийся как простой солдат и сломавший два банника о французские головы. Грузный, стареющий Лихачев, один бросившийся на французов со шпагой. Мужественный Кульнев, хитроумный Платов. Скромный Луков, единственный генерал, в послужном списке которого сказано «из солдатских детей». Командир четвертой дивизии, обладатель пышного титула принца Вюртембергского, ходивший в простой пехотной шинели, евший из котелка и спавший на земле рядом с солдатами…
Сухая пыль щекотала мне нос. Я очнулся лицом к земле и увидел жесткие, перепутанные остатки травы. Взъерошенные, помятые, они торчали, как обломки крохотных штыков, источая горький запах уставшей от битвы природы.
Я приподнялся. Мое беспамятство было недолгим, на высоте еще длилась схватка. Там все бурлило, рычало, сверкало. Но постепенно бой скатывался к Колоче. Высота осталась в наших руках, приняв на свое измученное тело еще пять тысяч убитых.
Чудом уцелел в этой схватке Листов. Он подъехал на Белке, держась за плечо и улыбаясь. Эполет сорван, рукав распорот, сорочка в крови.
– Штыком задело, – сказал он. – Пустяки.
Слез с Белки и вдруг опустился на землю, побледнел. Тут же подскакал генерал, без треуголки, тоже перепачканный кровью. Грива вьющихся русых волос, широкое распаленное лицо, тугой подбородок. Могучие плечи, скульптурность во всей фигуре. Я сразу узнал Ермолова.
– Чья лошадь? – закричал он веселым и в то же время повелительным голосом.
– Чей белый конь? Кто был в атаке?
Листов поднялся и твердо сказал:
– Это лошадь поручика Берестова.
– Герой поручик! – крикнул Ермолов. – Запомню! – И прежде чем я успел возразить, обратился к Листову: – А вы, ротмистр, поставьте пушки Никитина на высоту. – Он тут же дал шпоры и ускакал, обдав нас комьями из-под копыт.
– Вы ранены, вам перевязка нужна, – сказал я Листову.
– Где же Арап? – Листов оглядывал поле.
Арапа не было. То ли его добило, то ли, раненный, он ускакал из гущи боя.
– Ждите меня здесь. – Листов взобрался на Белку. – Сейчас отведу батарею и лошадь другую достану.
Я сунул рисунок в сумку и пошел на центральную высоту. Здесь в пороховом чаду, в тяжелом запахе изуродованных тел началась расчистка подъездов для артиллерии. Убирали разбитые лафеты, откатывали ядра, растаскивали трупы. Грохот стрельбы накрывал все тяжелым пластом. Нет да нет, новое попадание валило кого-то наземь. Дымилась земля, перепаханная копытами, колесами, ядрами, гранатами.
