4
Я несколько раз споткнулся в темноте. Сколько сейчас времени, часов десять-одиннадцать? Всего два-три фонаря тускло освещали Пречистенку. У одного я чуть не столкнулся с вынырнувшим из темноты человеком. Он коротко взглянул на меня и, пряча лицо, боком прошел дальше.
Но я узнал его. Черные усы, насупленные брови.
– Федор! – окликнул я. – Федор!
Это был тот солдат, который правил дрожками Фальковского. Он не остановился, а только ускорил шаг. Я догнал его:
– Федор! Постой, Федор!
Он застыл, не оборачиваясь.
– Федор, – сказал я, – ведь это ты?
– Так точно, – ответил он глухо.
Зачем догнал его, я и сам не знал. Быть может, в это мгновение показалось, что именно он избавил меня от Фальковского во дворе Листовых. Но сначала я в замешательстве молчал. Он первый начал:
– Не ходите туда, ваше благородие.
– Куда?
– В дом тот. Нехорошо там сейчас.
– Что нехорошо, что? – Я направлялся как раз к дому Листова.
– Я вам сказал, дело ваше. – Он пошел в темноту.
Я снова догнал его:
– Федор, спасибо, раз предупреждаешь… Но в чем дело? Хозяева там?
– Не знаю, – ответил он. – Видали, как я его?
– Кого?
– Штабс-капитана.
– Я ничего не видел.
– Прибил я его маленько.
– Зачем?
– А… – сказал Федор, – все равно жизнь кончена.
– А для чего ты, Федор…
– Для чего, того не добился. Прощайте, ваше благородие.
– Постой, Федор! Вот ты сказал, что мне в дом идти нельзя. Тогда мне идти некуда. Да и тебе, вижу, не сладко. Давай посидим, потолкуем. Может, придумаем что, может, все и устроится.
– Нечего мне придумывать, – сказал Федор. – Бог за меня все придумал. Нету мне милости.
– Федор, да ты постой! Подожди! Расскажи, в чем дело. Что с тобой приключилось?
– Со мной? Да не со мной. Об себе не жалуюсь. Сестренку не уберег.
– Погоди. Давай присядем, вон там бревно. Ты расскажи мне, Федор.
– Чего рассказывать…
Он сел рядом со мной, большой и угрюмый, вздрагивал, запахивал на себе армяк.
– Да ты дрожишь. Заболел?
– Лихорадка чего-то бить с-стала. – Он вытащил из-за пазухи смутно блеснувшее и глотнул, дохнуло сивушным запахом. – Ладно, чего там, – пробормотал он. – Вот так-то она, жизнь…
– Расскажи мне толком. Вдруг можно помочь?
– Э, ваше благородие! Вы не помощник. Вам самому впору бежать подале. Чего ж у того немца в доме не остались? Хоронились бы дальше… А немец, видать, хороший. Как он в вашем мундире за ворота скакнул. Провел капитана, ей-богу провел!
– Ты это видел?
– А как же. Я у забора сидел. Как вы в сарае спрятались, видел.
– И не сказал?
– Не мое дело. Только радовался, что моему начальнику нос укусили. Только зря вы потом не схоронились, ей-богу, зря.
– А где ж он? Ты его сильно ударил?
– Ударил-то мало. Больше бы надо.
– А за что? Он сестру обидел?
– Обидел… – медленно проговорил Федор. – Эх, ваше благородие! Он в Девятку ее засадил.
– Что за Девятка?
– Девятка-то? Приют на железных запорах, для слабых умом.
– Больница?
– Больница… – Федор мрачно усмехнулся. – Кому больница, а кому хуже тюрьмы. Три раза в день ледяной водой поливают. А Настя у меня слабая. Сказывали, кашляет уже, помрет скоро…
– Да почему ж так вышло? Как она попала туда?
– Спасибо штабс-капитану, – сказал Федор.
– А он-то при чем?
– Приказ, говорит, такой. Всех, кто сказал чего лишнего, в Девяткин приют и ледяной водой поливать. Только она и не скажет, она кроткая. Все из-за шара проклятого!
– Того, что в Воронцове?
– Его. Настя у господ Репниных служила, а когда дом под шар отдали, одна там во флигеле осталась за господским хозяйством. Княжна раза три всего приезжала…
– Постой-постой! Настя, ты говоришь, ее зовут? Не Наташа?
– Наташа – то ее подружка.
– Подружка? Тоже у Репниных служила?
– Э нет, кажись, не у Репниных. Она погостить к Настеньке наезжала.
– Федор, послушай. Да знаешь ли ты, что Наташу за тот же шар схватили?
– Знаю, – сказал Федор. – С ней и Настенька пострадала. Когда штабс-капитан Наташу выспрашивать стал, Настя будто заступилась. Уж не знаю, чего она говорила, только велел он ее увезти. Не знал я тогда еще, что в Девятку.
– Да почему туда?
– Приказ такой, – глухо сказал Федор.
– Может, тебе стоило попросить капитана? Сказать, что Настя тебе сестра. Может, и отпустил бы?
– Да он истукан, идол каменный! Измену кругом видит. Он бы и меня в Сибирь тогда упек.
– Ну и что же ты решил?
– Да ничего не решил. Сначала просто хотел Настю из приюта украсть. Только там охрана, все нашего полка, и меня хорошо знают. Потом капитану думал в ноги повалиться, да только вспомню глаза его пустые и знаю: зря все это. Так вот и вышло, что вроде так и не по своей воле бухнул его рукоятью и повез на Рогожинское кладбище. Раскольник там есть у меня знакомый, за деньги кого хочешь спрячет. Там связал и говорю: пишите, господин штабс-капитан, бумагу об освобождении Настасьи Гореловой.
– Так он и не знал, что она твоя сестра?
– Тогда и узнал. Пишите, говорю, бумагу. Думал я с той бумагой в приют ехать. Вызволил бы тогда Настю. Там капитана каждая собака страшится. Только не согласился… – Федор ударил себя по колену. – Не согласился, собака такая! Я уж и палаш над ним заносил. Сейчас, говорю, кончать буду, не доводи до греха! А он только вверх глаза уставит и отвечает: «Не могу закон преступить. Не мой приказ, и выпускать дело не мое». Да чтоб ему такую малость сделать? Скажи, ваше благородие? Или почуял, что не стану его прибивать?
– Где он сейчас?
– Все там же, на Рогожинском. Только мне теперь все равно. Он связанный лежит, пусть выпутывается как хочет. Какие-нибудь смертные пройдут, развяжут.
– Что теперь думаешь делать?
– Что делать? Я вот целый вечер у приюта крутился. Думал, силой Настю возьму. Пистолет у меня есть и палаш. Лошадей тут недалеко оставил, у Никольского моста. Переоделся, чтоб свои не узнали. Только опять жеузнают. Что же мне, Горелову, со своими, какие они ни на есть, биться? Да и не одолеть…
– Послушай, Федор, а почему мне к Листову нельзя?
– В тот дом-то? Там сейчас охрана. Я сейчас от приюта шел, решил завернуть, потянуло. Так еще издали услышал голоса Цыбикова и Шестопятова. Это фельдфебели наши. Самые псы цепные.
– А днем там никого не было, даже хозяев.
– Да, видать, служба в харчевню пошла. Цыбиков сивалдай любит. А что охрану кинули, так это им просто. Но ежели бы вас увидали, вцепились бы, как пиявки.
– Да почему ты думаешь, что за мной все гоняются?
– А я не думаю ничего…
Он помолчал, потом заговорил тихо:
– Одна она у меня осталась. Отец, мать померли, пошли мы по России милостыню просить. Дошли до Москвы. Москва, она не пожалеет, слезам сиротским не верит. Как уж тут голодали, не сразу расскажешь. Потом Настю в сиротский дом взяли, а я в подмастерьях руки в кровь обдирал. Дождался, в солдаты пошел, деньги ей посылал… Ингерманландского мы полка, драгунского. Нас тут целый батальон к полиции причислен.
– Сколько тебе лет, Федор?
– А!.. – Он махнул рукой. – Видать, последний. Не уберег я Настю.
– Вставай, – сказал я неожиданно. – Пойдем.
– Куда? – пробормотал он. – Куда идти-то?
– Вставай, Федор. Настю твою пойдем выручать! Он вскочил:
– И то правда, ваше благородие, и то правда! Выручать надо, помрет совсем. Ваше благородие, выручать надо!
– Пойдем, Федор, пойдем! Показывай мне дорогу.
Но я узнал его. Черные усы, насупленные брови.
– Федор! – окликнул я. – Федор!
Это был тот солдат, который правил дрожками Фальковского. Он не остановился, а только ускорил шаг. Я догнал его:
– Федор! Постой, Федор!
Он застыл, не оборачиваясь.
– Федор, – сказал я, – ведь это ты?
– Так точно, – ответил он глухо.
Зачем догнал его, я и сам не знал. Быть может, в это мгновение показалось, что именно он избавил меня от Фальковского во дворе Листовых. Но сначала я в замешательстве молчал. Он первый начал:
– Не ходите туда, ваше благородие.
– Куда?
– В дом тот. Нехорошо там сейчас.
– Что нехорошо, что? – Я направлялся как раз к дому Листова.
– Я вам сказал, дело ваше. – Он пошел в темноту.
Я снова догнал его:
– Федор, спасибо, раз предупреждаешь… Но в чем дело? Хозяева там?
– Не знаю, – ответил он. – Видали, как я его?
– Кого?
– Штабс-капитана.
– Я ничего не видел.
– Прибил я его маленько.
– Зачем?
– А… – сказал Федор, – все равно жизнь кончена.
– А для чего ты, Федор…
– Для чего, того не добился. Прощайте, ваше благородие.
– Постой, Федор! Вот ты сказал, что мне в дом идти нельзя. Тогда мне идти некуда. Да и тебе, вижу, не сладко. Давай посидим, потолкуем. Может, придумаем что, может, все и устроится.
– Нечего мне придумывать, – сказал Федор. – Бог за меня все придумал. Нету мне милости.
– Федор, да ты постой! Подожди! Расскажи, в чем дело. Что с тобой приключилось?
– Со мной? Да не со мной. Об себе не жалуюсь. Сестренку не уберег.
– Погоди. Давай присядем, вон там бревно. Ты расскажи мне, Федор.
– Чего рассказывать…
Он сел рядом со мной, большой и угрюмый, вздрагивал, запахивал на себе армяк.
– Да ты дрожишь. Заболел?
– Лихорадка чего-то бить с-стала. – Он вытащил из-за пазухи смутно блеснувшее и глотнул, дохнуло сивушным запахом. – Ладно, чего там, – пробормотал он. – Вот так-то она, жизнь…
– Расскажи мне толком. Вдруг можно помочь?
– Э, ваше благородие! Вы не помощник. Вам самому впору бежать подале. Чего ж у того немца в доме не остались? Хоронились бы дальше… А немец, видать, хороший. Как он в вашем мундире за ворота скакнул. Провел капитана, ей-богу провел!
– Ты это видел?
– А как же. Я у забора сидел. Как вы в сарае спрятались, видел.
– И не сказал?
– Не мое дело. Только радовался, что моему начальнику нос укусили. Только зря вы потом не схоронились, ей-богу, зря.
– А где ж он? Ты его сильно ударил?
– Ударил-то мало. Больше бы надо.
– А за что? Он сестру обидел?
– Обидел… – медленно проговорил Федор. – Эх, ваше благородие! Он в Девятку ее засадил.
– Что за Девятка?
– Девятка-то? Приют на железных запорах, для слабых умом.
– Больница?
– Больница… – Федор мрачно усмехнулся. – Кому больница, а кому хуже тюрьмы. Три раза в день ледяной водой поливают. А Настя у меня слабая. Сказывали, кашляет уже, помрет скоро…
– Да почему ж так вышло? Как она попала туда?
– Спасибо штабс-капитану, – сказал Федор.
– А он-то при чем?
– Приказ, говорит, такой. Всех, кто сказал чего лишнего, в Девяткин приют и ледяной водой поливать. Только она и не скажет, она кроткая. Все из-за шара проклятого!
– Того, что в Воронцове?
– Его. Настя у господ Репниных служила, а когда дом под шар отдали, одна там во флигеле осталась за господским хозяйством. Княжна раза три всего приезжала…
– Постой-постой! Настя, ты говоришь, ее зовут? Не Наташа?
– Наташа – то ее подружка.
– Подружка? Тоже у Репниных служила?
– Э нет, кажись, не у Репниных. Она погостить к Настеньке наезжала.
– Федор, послушай. Да знаешь ли ты, что Наташу за тот же шар схватили?
– Знаю, – сказал Федор. – С ней и Настенька пострадала. Когда штабс-капитан Наташу выспрашивать стал, Настя будто заступилась. Уж не знаю, чего она говорила, только велел он ее увезти. Не знал я тогда еще, что в Девятку.
– Да почему туда?
– Приказ такой, – глухо сказал Федор.
– Может, тебе стоило попросить капитана? Сказать, что Настя тебе сестра. Может, и отпустил бы?
– Да он истукан, идол каменный! Измену кругом видит. Он бы и меня в Сибирь тогда упек.
– Ну и что же ты решил?
– Да ничего не решил. Сначала просто хотел Настю из приюта украсть. Только там охрана, все нашего полка, и меня хорошо знают. Потом капитану думал в ноги повалиться, да только вспомню глаза его пустые и знаю: зря все это. Так вот и вышло, что вроде так и не по своей воле бухнул его рукоятью и повез на Рогожинское кладбище. Раскольник там есть у меня знакомый, за деньги кого хочешь спрячет. Там связал и говорю: пишите, господин штабс-капитан, бумагу об освобождении Настасьи Гореловой.
– Так он и не знал, что она твоя сестра?
– Тогда и узнал. Пишите, говорю, бумагу. Думал я с той бумагой в приют ехать. Вызволил бы тогда Настю. Там капитана каждая собака страшится. Только не согласился… – Федор ударил себя по колену. – Не согласился, собака такая! Я уж и палаш над ним заносил. Сейчас, говорю, кончать буду, не доводи до греха! А он только вверх глаза уставит и отвечает: «Не могу закон преступить. Не мой приказ, и выпускать дело не мое». Да чтоб ему такую малость сделать? Скажи, ваше благородие? Или почуял, что не стану его прибивать?
– Где он сейчас?
– Все там же, на Рогожинском. Только мне теперь все равно. Он связанный лежит, пусть выпутывается как хочет. Какие-нибудь смертные пройдут, развяжут.
– Что теперь думаешь делать?
– Что делать? Я вот целый вечер у приюта крутился. Думал, силой Настю возьму. Пистолет у меня есть и палаш. Лошадей тут недалеко оставил, у Никольского моста. Переоделся, чтоб свои не узнали. Только опять жеузнают. Что же мне, Горелову, со своими, какие они ни на есть, биться? Да и не одолеть…
– Послушай, Федор, а почему мне к Листову нельзя?
– В тот дом-то? Там сейчас охрана. Я сейчас от приюта шел, решил завернуть, потянуло. Так еще издали услышал голоса Цыбикова и Шестопятова. Это фельдфебели наши. Самые псы цепные.
– А днем там никого не было, даже хозяев.
– Да, видать, служба в харчевню пошла. Цыбиков сивалдай любит. А что охрану кинули, так это им просто. Но ежели бы вас увидали, вцепились бы, как пиявки.
– Да почему ты думаешь, что за мной все гоняются?
– А я не думаю ничего…
Он помолчал, потом заговорил тихо:
– Одна она у меня осталась. Отец, мать померли, пошли мы по России милостыню просить. Дошли до Москвы. Москва, она не пожалеет, слезам сиротским не верит. Как уж тут голодали, не сразу расскажешь. Потом Настю в сиротский дом взяли, а я в подмастерьях руки в кровь обдирал. Дождался, в солдаты пошел, деньги ей посылал… Ингерманландского мы полка, драгунского. Нас тут целый батальон к полиции причислен.
– Сколько тебе лет, Федор?
– А!.. – Он махнул рукой. – Видать, последний. Не уберег я Настю.
– Вставай, – сказал я неожиданно. – Пойдем.
– Куда? – пробормотал он. – Куда идти-то?
– Вставай, Федор. Настю твою пойдем выручать! Он вскочил:
– И то правда, ваше благородие, и то правда! Выручать надо, помрет совсем. Ваше благородие, выручать надо!
– Пойдем, Федор, пойдем! Показывай мне дорогу.
5
К домам для душевнобольных Ростопчин питал особое расположение. Это я знал из прочитанного. Он нередко наезжал туда, разговаривал с больными, а при желании мог упечь туда и здорового.
К тюрьмам и ссылке Ростопчин относился пренебрежительно и даже называл это наказание безнравственным. При этом он мог устроить расправу без суда и следствия, как в случае с сыном купца Верещагина, или издать приказ, по которому распускавших неугодные слухи заключали в «долгаузы» – дома и палаты для безумных, как жарким летом двенадцатого года.
Если дело Верещагина современники обсуждали бурно, и никто не мог простить Ростопчину, что он на глазах у толпы приказал драгунам рубить ни в чем не повинного человека, то о распоряжении насчет «долгаузов» я встречал два-три невнятных упоминания.
Теперь мне самому предстояло увидеть один из таких «долгаузов», Девяткин приют, или Девятку, как его коротко называли.
Дрожки Федора стояли в конце Остоженки на постоялом дворе. Дело подвигалось к полуночи. Я пока не знал, как действовать, но после разговора с Ростопчиным чувствовал в себе силу. Кроме того, ночной визит офицера мог оказаться неожиданным.
Мы подъехали. Я сказал Федору, чтоб он дожидался, а сам поднял грохот в тяжелую, железом окованную дверь. Несколько окошек в приземистом здании еще светились.
– По приказу главнокомандующего! – кричал я. – Открывайте!
Высунулся испуганный солдат. Я протиснулся в дверь.
– Где старший? – спросил я. – Все заснули?
– Никак нет, – бормотал солдат. – Господа фельдфебель только изволили уложиться.
– Подними.
– Слушаюсь.
В тусклой каморке охраны горела всего одна свечка. Запыхавшись, застегивая пуговицы, вбежал сонный фельдфебель.
– Его сиятельство генерал-губернатор приказал провести инспекцию, – сказал я хмуро. – Москву очищаем. Что тут у вас, сколько больных?
– Больных так что нет! – отчеканил фельдфебель. – Третьего дня последних на барке в Нижний отправили!
– А чего здесь околачиваетесь?
– Так что приказ! Охраняем, проводим лечение-с!
– Какое лечение? Ты же сказал, что нет больных?
– Больных нет! Однако приболевшие!
– Черт возьми, говори мне толком! Завтра графу докладываю.
– Приказ, вашбродие! Не могу знать!
– Черт знает что. Веди меня, показывай. Сколько их… приболевших?
– Двое женского и пять мужского пола.
– И что ты с ними делаешь?
– Приказано поливать холодной водой. Однако вопят, не всегда удается.
– Ладно, показывай. Разгоню вашу богадельню, а вас в полк. Пора службы справлять, нечего на боку валяться.
– Так точно! Только невозможно!
– Что невозможно?
– Показать. Не имею права.
– Как? Разве не ты старший?
– Никак нет.
– А кто же?
– Господин Блохин.
– Что еще за Блохин? Звать сюда.
– Слушаюсь! Никифоров, кликни господина Блохина, они еще не почивают.
Никифоров убежал.
– Что же, однако, за Блохин? – спросил я лениво.
– Не могу знать! – гаркнул фельдфебель и вдруг прошептал доверительно: – Вернейший человек их сиятельства грахва. Можно сказать, дружок. Железной руки человек, не смотри, что хилый. Трещалу знали?..
– Ах, да откуда мне знать Блоху, Трещалу… – пробормотал я, как бы задумавшись.
Блохин, Блоха, Трещала… Ужасно знакомо… Откуда бы это? Блоха, Трещала… Вспомнил! Ростопчин и кулачные бои! Среди тогдашних бойцов были две знаменитости, фабричный Трещала, огромного роста детина, который кулаком выбивал изразцы из печи, и мещанин Блохин, по прозвищу Блоха, совсем не богатырского сложения, но обладавший каким-то страшным ударом.
Блохин и Трещала никогда не дрались между собой. Считалось все-таки, что Блохин Трещале не пара. Но однажды, играя на бильярде, они поссорились. Трещала легонько стукнул Блоху кием по голове, а тот мгновенным ударом в висок убил Трещалу наповал.
Блохина собирались судить, но спас его Ростопчин. Блохин был любимцем графа, даже учил его кулачным приемам. Что было с Блохиным дальше, неизвестно.
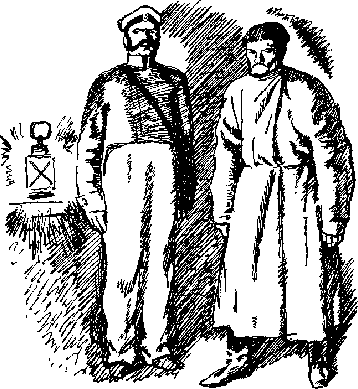 Он стоял передо мной в темно-синей поддевке и сапогах. Невысокого роста, но плотный, с быстрыми глазами. Стоял широко расставив ноги.
Он стоял передо мной в темно-синей поддевке и сапогах. Невысокого роста, но плотный, с быстрыми глазами. Стоял широко расставив ноги.
– Блохин?
– Он самый.
Он не сказал «так точно», не добавил «ваше благородие» и смотрел на меня скорей небрежно, чем уважительно.
– Меня генерал-губернатор послал провести инспекцию. Говорят, ключи у вас. Покажите мне пациентов.
– Какую инспекцию? – Глаза смотрели твердо. – Я не имею распоряжения допускать к больным.
– Распоряжение?..
Я лихорадочно соображал. Нет, этот орешек твердый, криком его не возьмешь. «Вернейший человек их сиятельства грахва. Можно сказать, дружок». Вдруг передо мной возникло лицо Ростопчина и память воспроизвела слова: «У меня есть на примете люди, но это так, первая линия, кулаки, а мне нужно умов… Когорта стремительных и неотразимых… Ваш девиз будет per aspera ad astra – через тернии к звездам!»
– Значит, нет распоряжения? – протянул я, все еще обдумывая. – А ну-ка, Блохин, per aspera ad astra, неси мне ключи!
Я сказал это в слабой надежде, что пылкий Ростопчин мог развернуть перед любимцем часть своих планов. Первая линия, «кулаки», ведь это о таких, как Блохин.
Результат оказался неожиданным. Блохин сразу подобрался, даже вытянулся. Он вынул из кармана ключи и сказал:
– Пожалуйте.
Он взял фонарь, и мы пошли по мрачному коридору.
– Семеро здесь у вас?
– Семеро.
– Лекаря остались?
– Нет, лекаря с больными в Нижний отправлены.
– А почему всем занимаются солдаты?
– Приют причислен к военному госпиталю.
– Что вы делаете с этими… – я не мог подобрать слова, – больными, заключенными?
– Купаем в холодной воде.
– Только и всего?
– Вода со льдом из подвалов. Так что ощутительно.
– Граф приказал гнать всех взашей, кроме опасных. Есть здесь опасные?
Блохин пожал плечами.
– Начнем с женщин, – сказал я.
Загремели ключи. Фонарь озарил довольно большую комнату с несколькими топчанами. На одном из них, закутавшись во что-то серое, испуганно привстала худенькая девушка. На другом кто-то лежал, не поднимаясь.
– Здесь кто? – спросил я.
– Настасья Горелова, служанка, доставлена из Воронцова. Разглашает государственную тайну. А та, старуха, даже имени не сказала. Кричала на площади, что Бонапарт сын Екатерины.
Я подошел к девушке:
– Жалобы есть?
Она, не отвечая, смотрела на меня.
– Не будет говорить, – сказал Блохин. – Как привезли, так молчит. Даже купаем, не кричит, как остальные.
Старуха на дальнем топчане не вставала.
– Что с ней? – спросил я.
– Спит, – сказал Блохин. – Она всегда спит.
– Неужели и ее в ледяной воде купаете?
– Иногда, – замявшись, сказал Блохин.
– А остальных?
– В день трижды.
– Отпирайте мужскую камеру, – сказал я. – А я здесь закончу.
– Извольте, – сказал Блохин. – Следующая дверь.
Он вышел.
– Настя, – сказал я. – Слушай внимательно. Сейчас тебя выпустят. У дверей тебя ждет Федор, твой брат.
Она вздрогнула.
– Отъезжайте в конец улицы, там меня ждите. Ты поняла?
Она кивнула головой. Живая слюда ее глаз вспыхнула дрожью. Я вышел.
В мужской камере по углам прятались темные фигуры.
– Жалобы есть? – громко спросил я.
Молчание.
– Два дня не кормят, – сказал кто-то неуверенно.
– Не кормите? – Я обернулся к Блохину.
– Крупа кончилась, да и хлеб плохо подвозят, – ответил тот.
– Еще жалобы есть?
Никто из них и не думал сказать, что вот он здоровый, а посажен в «долгауз». Впрочем, быть может, они говорили. Быть может, сам Ростопчин приезжал сюда и с улыбкой выслушивал жалобы. Глухая стена между правдой и неправдой.
– Христос не жаловался, когда распинали, и нам грех, – сказал голос из самого угла.
– Вот, – оживился Блохин. – Этот, пожалуй, опасный. А остальные так, на кого донос, кто сболтнул чего.
– Тогда гнать всех отсюда, – сказал я. – А с этим поговорю.
– Гулько, Никифоров! – крикнул Блохин. Прибежал фельдфебель.
– Всех гнать взашей.
Камера опустела. Как тени скользнули мимо меня люди с измученными, серыми лицами.
– Прощай, дедушка Архип, – тихо бросил кто-то.
– Свидимся еще, – сказал голос из угла.
Я подошел. Прямо на полу у стены сидел седобородый старик и прямо смотрел на меня.
– Опасные слова говорит, – сказал Блохин. – Будто Москву французы захватят и сгорит она дотла.
Я обратился к старику:
– Говорил?
– Сгорит Москва-матушка, сгорит, – торжественным голосом сказал тот.
– А ты сам-то московский?
– Бородинский я, – ответил старик. – Из сельца Бородина, что господ Давыдовых.
Я присвистнул:
– Из Бородина? А сюда чего пришел?
– Москву-матушку спасать. И семя принес цветка несгораемого. Где семя то посадить, там на версту кругом пожар не коснется. Так нет же, отняли все, душегубы!
Я повернулся к Блохину:
– Что за семена?
Он махнул рукой:
– Сумасшедший.
– Что за цветок такой, дедушка? – спросил я.
– Неопалимый, – ответил тот. – Горит он, да не сгорает. На святой земле бородинской растет.
– Отпустите его, – сказал я Блохину. – Безобидный старик. Сколько их бродит по русской земле.
– Слушаю, – сказал Блохин.
Мы прошли мимо женской камеры. Свет фонаря выхватил все так же лежащую на топчане фигуру. Блохин подошел.
– Бабка, вставай! Воля тебе выходит.
Она не ответила. Блохин толкнул ее, наклонился.
– Мертва. – Он перекрестился.
– Уморили старуху, – сказал я, – молодцы-воины.
Блохин только мрачно посмотрел на меня.
К тюрьмам и ссылке Ростопчин относился пренебрежительно и даже называл это наказание безнравственным. При этом он мог устроить расправу без суда и следствия, как в случае с сыном купца Верещагина, или издать приказ, по которому распускавших неугодные слухи заключали в «долгаузы» – дома и палаты для безумных, как жарким летом двенадцатого года.
Если дело Верещагина современники обсуждали бурно, и никто не мог простить Ростопчину, что он на глазах у толпы приказал драгунам рубить ни в чем не повинного человека, то о распоряжении насчет «долгаузов» я встречал два-три невнятных упоминания.
Теперь мне самому предстояло увидеть один из таких «долгаузов», Девяткин приют, или Девятку, как его коротко называли.
Дрожки Федора стояли в конце Остоженки на постоялом дворе. Дело подвигалось к полуночи. Я пока не знал, как действовать, но после разговора с Ростопчиным чувствовал в себе силу. Кроме того, ночной визит офицера мог оказаться неожиданным.
Мы подъехали. Я сказал Федору, чтоб он дожидался, а сам поднял грохот в тяжелую, железом окованную дверь. Несколько окошек в приземистом здании еще светились.
– По приказу главнокомандующего! – кричал я. – Открывайте!
Высунулся испуганный солдат. Я протиснулся в дверь.
– Где старший? – спросил я. – Все заснули?
– Никак нет, – бормотал солдат. – Господа фельдфебель только изволили уложиться.
– Подними.
– Слушаюсь.
В тусклой каморке охраны горела всего одна свечка. Запыхавшись, застегивая пуговицы, вбежал сонный фельдфебель.
– Его сиятельство генерал-губернатор приказал провести инспекцию, – сказал я хмуро. – Москву очищаем. Что тут у вас, сколько больных?
– Больных так что нет! – отчеканил фельдфебель. – Третьего дня последних на барке в Нижний отправили!
– А чего здесь околачиваетесь?
– Так что приказ! Охраняем, проводим лечение-с!
– Какое лечение? Ты же сказал, что нет больных?
– Больных нет! Однако приболевшие!
– Черт возьми, говори мне толком! Завтра графу докладываю.
– Приказ, вашбродие! Не могу знать!
– Черт знает что. Веди меня, показывай. Сколько их… приболевших?
– Двое женского и пять мужского пола.
– И что ты с ними делаешь?
– Приказано поливать холодной водой. Однако вопят, не всегда удается.
– Ладно, показывай. Разгоню вашу богадельню, а вас в полк. Пора службы справлять, нечего на боку валяться.
– Так точно! Только невозможно!
– Что невозможно?
– Показать. Не имею права.
– Как? Разве не ты старший?
– Никак нет.
– А кто же?
– Господин Блохин.
– Что еще за Блохин? Звать сюда.
– Слушаюсь! Никифоров, кликни господина Блохина, они еще не почивают.
Никифоров убежал.
– Что же, однако, за Блохин? – спросил я лениво.
– Не могу знать! – гаркнул фельдфебель и вдруг прошептал доверительно: – Вернейший человек их сиятельства грахва. Можно сказать, дружок. Железной руки человек, не смотри, что хилый. Трещалу знали?..
– Ах, да откуда мне знать Блоху, Трещалу… – пробормотал я, как бы задумавшись.
Блохин, Блоха, Трещала… Ужасно знакомо… Откуда бы это? Блоха, Трещала… Вспомнил! Ростопчин и кулачные бои! Среди тогдашних бойцов были две знаменитости, фабричный Трещала, огромного роста детина, который кулаком выбивал изразцы из печи, и мещанин Блохин, по прозвищу Блоха, совсем не богатырского сложения, но обладавший каким-то страшным ударом.
Блохин и Трещала никогда не дрались между собой. Считалось все-таки, что Блохин Трещале не пара. Но однажды, играя на бильярде, они поссорились. Трещала легонько стукнул Блоху кием по голове, а тот мгновенным ударом в висок убил Трещалу наповал.
Блохина собирались судить, но спас его Ростопчин. Блохин был любимцем графа, даже учил его кулачным приемам. Что было с Блохиным дальше, неизвестно.
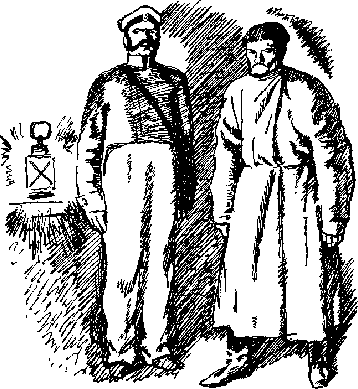
– Блохин?
– Он самый.
Он не сказал «так точно», не добавил «ваше благородие» и смотрел на меня скорей небрежно, чем уважительно.
– Меня генерал-губернатор послал провести инспекцию. Говорят, ключи у вас. Покажите мне пациентов.
– Какую инспекцию? – Глаза смотрели твердо. – Я не имею распоряжения допускать к больным.
– Распоряжение?..
Я лихорадочно соображал. Нет, этот орешек твердый, криком его не возьмешь. «Вернейший человек их сиятельства грахва. Можно сказать, дружок». Вдруг передо мной возникло лицо Ростопчина и память воспроизвела слова: «У меня есть на примете люди, но это так, первая линия, кулаки, а мне нужно умов… Когорта стремительных и неотразимых… Ваш девиз будет per aspera ad astra – через тернии к звездам!»
– Значит, нет распоряжения? – протянул я, все еще обдумывая. – А ну-ка, Блохин, per aspera ad astra, неси мне ключи!
Я сказал это в слабой надежде, что пылкий Ростопчин мог развернуть перед любимцем часть своих планов. Первая линия, «кулаки», ведь это о таких, как Блохин.
Результат оказался неожиданным. Блохин сразу подобрался, даже вытянулся. Он вынул из кармана ключи и сказал:
– Пожалуйте.
Он взял фонарь, и мы пошли по мрачному коридору.
– Семеро здесь у вас?
– Семеро.
– Лекаря остались?
– Нет, лекаря с больными в Нижний отправлены.
– А почему всем занимаются солдаты?
– Приют причислен к военному госпиталю.
– Что вы делаете с этими… – я не мог подобрать слова, – больными, заключенными?
– Купаем в холодной воде.
– Только и всего?
– Вода со льдом из подвалов. Так что ощутительно.
– Граф приказал гнать всех взашей, кроме опасных. Есть здесь опасные?
Блохин пожал плечами.
– Начнем с женщин, – сказал я.
Загремели ключи. Фонарь озарил довольно большую комнату с несколькими топчанами. На одном из них, закутавшись во что-то серое, испуганно привстала худенькая девушка. На другом кто-то лежал, не поднимаясь.
– Здесь кто? – спросил я.
– Настасья Горелова, служанка, доставлена из Воронцова. Разглашает государственную тайну. А та, старуха, даже имени не сказала. Кричала на площади, что Бонапарт сын Екатерины.
Я подошел к девушке:
– Жалобы есть?
Она, не отвечая, смотрела на меня.
– Не будет говорить, – сказал Блохин. – Как привезли, так молчит. Даже купаем, не кричит, как остальные.
Старуха на дальнем топчане не вставала.
– Что с ней? – спросил я.
– Спит, – сказал Блохин. – Она всегда спит.
– Неужели и ее в ледяной воде купаете?
– Иногда, – замявшись, сказал Блохин.
– А остальных?
– В день трижды.
– Отпирайте мужскую камеру, – сказал я. – А я здесь закончу.
– Извольте, – сказал Блохин. – Следующая дверь.
Он вышел.
– Настя, – сказал я. – Слушай внимательно. Сейчас тебя выпустят. У дверей тебя ждет Федор, твой брат.
Она вздрогнула.
– Отъезжайте в конец улицы, там меня ждите. Ты поняла?
Она кивнула головой. Живая слюда ее глаз вспыхнула дрожью. Я вышел.
В мужской камере по углам прятались темные фигуры.
– Жалобы есть? – громко спросил я.
Молчание.
– Два дня не кормят, – сказал кто-то неуверенно.
– Не кормите? – Я обернулся к Блохину.
– Крупа кончилась, да и хлеб плохо подвозят, – ответил тот.
– Еще жалобы есть?
Никто из них и не думал сказать, что вот он здоровый, а посажен в «долгауз». Впрочем, быть может, они говорили. Быть может, сам Ростопчин приезжал сюда и с улыбкой выслушивал жалобы. Глухая стена между правдой и неправдой.
– Христос не жаловался, когда распинали, и нам грех, – сказал голос из самого угла.
– Вот, – оживился Блохин. – Этот, пожалуй, опасный. А остальные так, на кого донос, кто сболтнул чего.
– Тогда гнать всех отсюда, – сказал я. – А с этим поговорю.
– Гулько, Никифоров! – крикнул Блохин. Прибежал фельдфебель.
– Всех гнать взашей.
Камера опустела. Как тени скользнули мимо меня люди с измученными, серыми лицами.
– Прощай, дедушка Архип, – тихо бросил кто-то.
– Свидимся еще, – сказал голос из угла.
Я подошел. Прямо на полу у стены сидел седобородый старик и прямо смотрел на меня.
– Опасные слова говорит, – сказал Блохин. – Будто Москву французы захватят и сгорит она дотла.
Я обратился к старику:
– Говорил?
– Сгорит Москва-матушка, сгорит, – торжественным голосом сказал тот.
– А ты сам-то московский?
– Бородинский я, – ответил старик. – Из сельца Бородина, что господ Давыдовых.
Я присвистнул:
– Из Бородина? А сюда чего пришел?
– Москву-матушку спасать. И семя принес цветка несгораемого. Где семя то посадить, там на версту кругом пожар не коснется. Так нет же, отняли все, душегубы!
Я повернулся к Блохину:
– Что за семена?
Он махнул рукой:
– Сумасшедший.
– Что за цветок такой, дедушка? – спросил я.
– Неопалимый, – ответил тот. – Горит он, да не сгорает. На святой земле бородинской растет.
– Отпустите его, – сказал я Блохину. – Безобидный старик. Сколько их бродит по русской земле.
– Слушаю, – сказал Блохин.
Мы прошли мимо женской камеры. Свет фонаря выхватил все так же лежащую на топчане фигуру. Блохин подошел.
– Бабка, вставай! Воля тебе выходит.
Она не ответила. Блохин толкнул ее, наклонился.
– Мертва. – Он перекрестился.
– Уморили старуху, – сказал я, – молодцы-воины.
Блохин только мрачно посмотрел на меня.
6
На улице я не нашел ни Федора, ни Насти. Уехали. Наверное, не вытерпел Федор, а может, Настя не так сказала. Выскользнул кончик пути к Наташе.
Ну ничего, «даст бог, свидимся», так, кажется, говорил старик. Сейчас я чувствовал в себе силы пойти на Пречистенку, в дом Листова, накричать на «псов цепных» Цыбикова и Шестопятова, разогнать их, узнать о Листове.
Придется пешком идти, извозчика, конечно, не сыщешь. Уже за полночь, двадцать четвертое августа, какой там извозчик. Через день Бородинская битва, Наполеон в ста верстах от столицы. Город пустеет, извозчики давно бросили работу, тем более ночную. Я знал примерное направление. Выйти бы к центру, а там уж найду Пречистенку.
Под звездным просторным небом я шел, спотыкаясь, по улицам. Несколько раз меня облаяли собаки. Кое-где в домах еще светились окошки. Поздно не спят в старой Москве. Или, быть может, укладываются, чтобы утром чуть свет бросить свой дом и ехать подальше от французов. А может, в каком-то окошке все ждут ту старушку, которая умерла в Девяткином приюте.
Я шел по Москве. Ни один еще город на пути Бонапарта не оставлял пустых стен. Этот готовился к своему великому переселению, к своему пожару, к своему перерождению. Я чувствовал, как в темных лабиринтах переулков идет незаметная работа, как напряглись стены деревянных домов и заборы, как привстали сады, – все ощущало приближение великих дней, когда самосожжением, своим яростным пламенем город прогонит синие мундиры.
В одном музее я видел план Москвы. Штриховкой показаны выгоревшие дотла районы. Почти вся Москва оказалась покрытой серой пеленой штриха. Пепелище! Только кое-где остались линии целых улиц и переулков. Сейчас я шел недалеко от Пресненских прудов. Пепелище! Через месяц здесь будет пепелище.
Я шел и вдыхал густой яблочный воздух августовских садов, запах свежеземляной улицы, запах сухого дерева заборов, запах уходящей жизни. Я прощался с кривыми переулками, с домами, напряженно пытавшимися разглядеть меня в темноте слабыми глазами окон.
«Допожарная Москва» – есть такое выражение у историков. Я шел по самой границе времени, которая скоро разделит две жизни одного города.
Безмолвно вспыхнула падающая звезда. Среди неподвижно мерцающего неба ее стремительный прочерк похож на мгновенно заживающий порез. Его уже нет в небе, но он еще в глазах, а еще дольше в душе.
Послышалась гитара, и тихий мужской голос запел:
На Знаменке я окончательно узнал город и повернул направо. Листов, против ожидания, оказался дома, и он не спал. Он явно обрадовался моему позднему визиту.
– Куда вы пропали? Ну что, завтра в армию? Хотите ужинать? Сейчас сами чего-нибудь поищем, Никодимыча я отпустил к родичам в Замоскворечье.
– А я за вас беспокоился, – сказал я Листову. – К вечеру заезжал, но никого не застал дома.
– Ах, да, – сказал Листов. – Меня вызывал Ростопчин и все расспрашивал, как да что, все больше о вас. Конечно, пришлось рассказать, как было. Почему я на старую дорогу повернул, зачем ночевал в имении. Не привык я обманывать, да и вас не хотел подводить.
– И что Ростопчин?
– Посмеялся, похлопал меня по плечу. До него, думаю, тоже дошли сплетни на мой счет.
– Это о вашей женитьбе?
– Да, да, – быстро сказал Листов. – Правда, он долго продержал меня, до самого вечера, но вел себя очень любезно.
А тем временем, думал я, послал в усадьбу полицейских, которых застал Федор. Они, видно, все обшарили и обнюхали. Листов разглядел мое новое обличье:
– Подарок графа?
– Вовсе нет. Вы и представить не можете, в каких я побывал приключениях. Мне довелось в имение Репнина съездить, туда, где воздушный шар строится. Слышали о нем?
– Отдаленно, – сказал Листов.
– Граф почему-то решил, что я интересуюсь постройкой. Он чуть ли не за шпиона меня принял.
Я стал рассказывать о поездке с Фальковским, но о письме и медальоне не упомянул. Тогда пришлось бы рассказывать слишком многое.
– И вот, представьте, тот человек, который занимается шаром, Шмидт его имя, не то Леппих, проявил ко мне неожиданный интерес, устроил скачки с погоней, а в заключение подарил этот мундир. Словом, получилась целая интрига, а я в ней как с завязанными глазами. Не путают ли меня с кем? Между прочим, какого все-таки полка этот мундир, как вы считаете?
– Похож на Кинбурнского, но все же не тот, у них чакчиры красные. Думаю, какой-то любитель шил для себя.
– А обо всей истории что скажете?
Мне показалось, что Листов несколько смутился. Минуту он не отвечал, потом встал и прошелся по комнате.
– Видите ли… – сказал он с усилием, – кое-что мне здесь понятно. Вернее…
Я ждал, пока он подыщет слова.
– Тут многое из-за легенды вокруг вашей фигуры, – выговорил он наконец.
– Вот как, легенды? Какой же?
– Я, право, не знаю, как лучше об этом сказать.
– Да вы говорите прямо. Я и сам подозревал какое-то недоразумение. Быть может, это пустые разговоры.
– Конечно, – согласился Листов. – Но и я виноват перед вами, потому что в одном случае поддержал «легенду». Согласен, что как раз она и могла вам навредить.
– Так все-таки?
– Вы помните человека, который продал вам Белку?
– Тот, что убит под Гриссельгамом?
– Он был вашим горячим поклонником. Не знаю, из каких побуждений, но он рассказывал о вас всякие небылицы. Сознаюсь, правда, что тогда и я находился в романтическом возрасте и многому верил.
– Что же он говорил?
– Не подумайте, что он делал это за вашей спиной. Отнюдь. Когда вы служили в полку, он молчал. Но когда неожиданно уехали за границу, а он думал, навсегда, стал о вас вспоминать, да так часто и горячо… И не в широком кругу, а только с друзьями. Их было немного, я в том числе. Он представлял вас… словом, человеком необыкновенным.
– В каком смысле?
– К примеру, он уверял, что вам несколько сотен лет…
– Ба! – воскликнул я. – Это что же, Агасфер какой?
– В этом роде. – Листов оживился. – Я вам потому говорю, что романтические порывы юности меня оставили, и я не верю в такие чудеса. А тогда, признаюсь, поверил.
– Что же он рассказывал?
– Он доводил до нас ваши воспоминания о прежних временах. Право же, такие интересные, с такими подробностями, что, казалось, только очевидец может их знать. Сейчас я уже много не помню, но было и о Владимире Красное Солнышко, и о Невском, и его Брате Хоробрите, о Пересвете, который на Куликовом поле сражался…
– Но разве рассказов достаточно, чтобы принять человека за вечного жителя? Быть может, он просто начитался исторических писаний?
– Я, право, не знаю. И сейчас считаю все фантазией нашего погибшего друга. Но как он был талантлив в этой фантазии! Опять же разговоры об эликсире жизни, о вечных странниках. Право же, его можно понять. Я тогда раза два вас всего встречал, а сейчас вижу, что вы обыкновенный человек, как и быть должно. Ну, может быть, оригинальный… Но вы-то сами как относитесь к таким разговорам?
Я пожал плечами:
– Я слишком долго отсутствовал, чтобы оценить их значение. Но теперь уже вижу, что они мне мешают. Быть может, все это дошло до Ростопчина?
– Не исключаю, – сказал Листов.
– Тогда и Леппих, быть может, слышал? Чем объяснить его странные выходки?
– Вот тут вы угадали, – сказал Листов. – И это моя вина.
– Ваша?
– Тот самый единственный случай, когда я поддержал «легенду» о вас.
– Вот как…
– Год назад я был в путешествии за границей. Там и состоялся разговор с Леппихом.
– Случайный?
– Конечно. Ночь на почтовой станции в Альпах. Меня поразило сходство Леппиха с моим погибшим товарищем. Такое же горение в глазах, сбивчивая речь, тысячи планов. И тогда я так же, как в разговорах с моим товарищем, поддался очарованию одной невероятной идеи. Ведь годом раньше я слышал почти такое же от убитого. И тот и другой хотели постичь время. Они рассуждали бесконечно о его природе, о том, можно ли повернуть его вспять, изменить его течение.
Ну ничего, «даст бог, свидимся», так, кажется, говорил старик. Сейчас я чувствовал в себе силы пойти на Пречистенку, в дом Листова, накричать на «псов цепных» Цыбикова и Шестопятова, разогнать их, узнать о Листове.
Придется пешком идти, извозчика, конечно, не сыщешь. Уже за полночь, двадцать четвертое августа, какой там извозчик. Через день Бородинская битва, Наполеон в ста верстах от столицы. Город пустеет, извозчики давно бросили работу, тем более ночную. Я знал примерное направление. Выйти бы к центру, а там уж найду Пречистенку.
Под звездным просторным небом я шел, спотыкаясь, по улицам. Несколько раз меня облаяли собаки. Кое-где в домах еще светились окошки. Поздно не спят в старой Москве. Или, быть может, укладываются, чтобы утром чуть свет бросить свой дом и ехать подальше от французов. А может, в каком-то окошке все ждут ту старушку, которая умерла в Девяткином приюте.
Я шел по Москве. Ни один еще город на пути Бонапарта не оставлял пустых стен. Этот готовился к своему великому переселению, к своему пожару, к своему перерождению. Я чувствовал, как в темных лабиринтах переулков идет незаметная работа, как напряглись стены деревянных домов и заборы, как привстали сады, – все ощущало приближение великих дней, когда самосожжением, своим яростным пламенем город прогонит синие мундиры.
В одном музее я видел план Москвы. Штриховкой показаны выгоревшие дотла районы. Почти вся Москва оказалась покрытой серой пеленой штриха. Пепелище! Только кое-где остались линии целых улиц и переулков. Сейчас я шел недалеко от Пресненских прудов. Пепелище! Через месяц здесь будет пепелище.
Я шел и вдыхал густой яблочный воздух августовских садов, запах свежеземляной улицы, запах сухого дерева заборов, запах уходящей жизни. Я прощался с кривыми переулками, с домами, напряженно пытавшимися разглядеть меня в темноте слабыми глазами окон.
«Допожарная Москва» – есть такое выражение у историков. Я шел по самой границе времени, которая скоро разделит две жизни одного города.
Безмолвно вспыхнула падающая звезда. Среди неподвижно мерцающего неба ее стремительный прочерк похож на мгновенно заживающий порез. Его уже нет в небе, но он еще в глазах, а еще дольше в душе.
Послышалась гитара, и тихий мужской голос запел:
Кто-то тоже не спал, кто-то прощался с Москвой и, может, думал о времени.
– Ночка темная, ты осенняя,
Моя ноченька, ты последняя…
На Знаменке я окончательно узнал город и повернул направо. Листов, против ожидания, оказался дома, и он не спал. Он явно обрадовался моему позднему визиту.
– Куда вы пропали? Ну что, завтра в армию? Хотите ужинать? Сейчас сами чего-нибудь поищем, Никодимыча я отпустил к родичам в Замоскворечье.
– А я за вас беспокоился, – сказал я Листову. – К вечеру заезжал, но никого не застал дома.
– Ах, да, – сказал Листов. – Меня вызывал Ростопчин и все расспрашивал, как да что, все больше о вас. Конечно, пришлось рассказать, как было. Почему я на старую дорогу повернул, зачем ночевал в имении. Не привык я обманывать, да и вас не хотел подводить.
– И что Ростопчин?
– Посмеялся, похлопал меня по плечу. До него, думаю, тоже дошли сплетни на мой счет.
– Это о вашей женитьбе?
– Да, да, – быстро сказал Листов. – Правда, он долго продержал меня, до самого вечера, но вел себя очень любезно.
А тем временем, думал я, послал в усадьбу полицейских, которых застал Федор. Они, видно, все обшарили и обнюхали. Листов разглядел мое новое обличье:
– Подарок графа?
– Вовсе нет. Вы и представить не можете, в каких я побывал приключениях. Мне довелось в имение Репнина съездить, туда, где воздушный шар строится. Слышали о нем?
– Отдаленно, – сказал Листов.
– Граф почему-то решил, что я интересуюсь постройкой. Он чуть ли не за шпиона меня принял.
Я стал рассказывать о поездке с Фальковским, но о письме и медальоне не упомянул. Тогда пришлось бы рассказывать слишком многое.
– И вот, представьте, тот человек, который занимается шаром, Шмидт его имя, не то Леппих, проявил ко мне неожиданный интерес, устроил скачки с погоней, а в заключение подарил этот мундир. Словом, получилась целая интрига, а я в ней как с завязанными глазами. Не путают ли меня с кем? Между прочим, какого все-таки полка этот мундир, как вы считаете?
– Похож на Кинбурнского, но все же не тот, у них чакчиры красные. Думаю, какой-то любитель шил для себя.
– А обо всей истории что скажете?
Мне показалось, что Листов несколько смутился. Минуту он не отвечал, потом встал и прошелся по комнате.
– Видите ли… – сказал он с усилием, – кое-что мне здесь понятно. Вернее…
Я ждал, пока он подыщет слова.
– Тут многое из-за легенды вокруг вашей фигуры, – выговорил он наконец.
– Вот как, легенды? Какой же?
– Я, право, не знаю, как лучше об этом сказать.
– Да вы говорите прямо. Я и сам подозревал какое-то недоразумение. Быть может, это пустые разговоры.
– Конечно, – согласился Листов. – Но и я виноват перед вами, потому что в одном случае поддержал «легенду». Согласен, что как раз она и могла вам навредить.
– Так все-таки?
– Вы помните человека, который продал вам Белку?
– Тот, что убит под Гриссельгамом?
– Он был вашим горячим поклонником. Не знаю, из каких побуждений, но он рассказывал о вас всякие небылицы. Сознаюсь, правда, что тогда и я находился в романтическом возрасте и многому верил.
– Что же он говорил?
– Не подумайте, что он делал это за вашей спиной. Отнюдь. Когда вы служили в полку, он молчал. Но когда неожиданно уехали за границу, а он думал, навсегда, стал о вас вспоминать, да так часто и горячо… И не в широком кругу, а только с друзьями. Их было немного, я в том числе. Он представлял вас… словом, человеком необыкновенным.
– В каком смысле?
– К примеру, он уверял, что вам несколько сотен лет…
– Ба! – воскликнул я. – Это что же, Агасфер какой?
– В этом роде. – Листов оживился. – Я вам потому говорю, что романтические порывы юности меня оставили, и я не верю в такие чудеса. А тогда, признаюсь, поверил.
– Что же он рассказывал?
– Он доводил до нас ваши воспоминания о прежних временах. Право же, такие интересные, с такими подробностями, что, казалось, только очевидец может их знать. Сейчас я уже много не помню, но было и о Владимире Красное Солнышко, и о Невском, и его Брате Хоробрите, о Пересвете, который на Куликовом поле сражался…
– Но разве рассказов достаточно, чтобы принять человека за вечного жителя? Быть может, он просто начитался исторических писаний?
– Я, право, не знаю. И сейчас считаю все фантазией нашего погибшего друга. Но как он был талантлив в этой фантазии! Опять же разговоры об эликсире жизни, о вечных странниках. Право же, его можно понять. Я тогда раза два вас всего встречал, а сейчас вижу, что вы обыкновенный человек, как и быть должно. Ну, может быть, оригинальный… Но вы-то сами как относитесь к таким разговорам?
Я пожал плечами:
– Я слишком долго отсутствовал, чтобы оценить их значение. Но теперь уже вижу, что они мне мешают. Быть может, все это дошло до Ростопчина?
– Не исключаю, – сказал Листов.
– Тогда и Леппих, быть может, слышал? Чем объяснить его странные выходки?
– Вот тут вы угадали, – сказал Листов. – И это моя вина.
– Ваша?
– Тот самый единственный случай, когда я поддержал «легенду» о вас.
– Вот как…
– Год назад я был в путешествии за границей. Там и состоялся разговор с Леппихом.
– Случайный?
– Конечно. Ночь на почтовой станции в Альпах. Меня поразило сходство Леппиха с моим погибшим товарищем. Такое же горение в глазах, сбивчивая речь, тысячи планов. И тогда я так же, как в разговорах с моим товарищем, поддался очарованию одной невероятной идеи. Ведь годом раньше я слышал почти такое же от убитого. И тот и другой хотели постичь время. Они рассуждали бесконечно о его природе, о том, можно ли повернуть его вспять, изменить его течение.
