Я подошел. Длинный двухэтажный дом с арками и колоннами. Неярко горят высокие полукруглые окна.
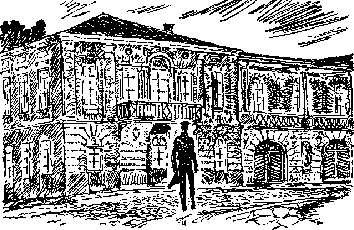 Внезапно я остановился. Не может быть! Дом возле Академии! Неужели? У Академии художеств, что на Кропоткинской! Вот галереи с обеих сторон, ажурные балконы. Вот ниши и арки, только сквозные. Потом их, видно, заделали, остались одни профили. Да, это он! Его стройная осанка, его многоколонный фасад. Так он сохранится?..
Внезапно я остановился. Не может быть! Дом возле Академии! Неужели? У Академии художеств, что на Кропоткинской! Вот галереи с обеих сторон, ажурные балконы. Вот ниши и арки, только сквозные. Потом их, видно, заделали, остались одни профили. Да, это он! Его стройная осанка, его многоколонный фасад. Так он сохранится?..
У этого дома, у Академии художеств, на той далекой во времени Кропоткинской мы часто встречались с Наташей. Она жила в двух шагах отсюда. В двух шагах, в полутора веках жила от меня Наташа…
Вот я перебегаю улицу. Она стоит, прислонившись к стене, с раскрытой книгой. Я бегу, перебегаю улицу, машина проскальзывает мимо. Из-под упавшей на глаза пряди она быстрым взглядом ловит меня, откинувшегося от машины…
Я подхожу. Она закрывает книгу. Видно, и не читала ее, а так, просто держала, чтобы не выглядеть праздной на этой бегущей полуденной улице.
– Опаздываешь? – говорит она. – Никогда не приходишь вовремя.
Она торопливо сует книгу в сумку, встряхивает головой, откидывая со лба веер выгоревших волос, и все ее загорелое лицо оживленно волнуется.
Мы беремся за руки и переходим улицу. Опять набегает машина. Наташа держит меня, не отпуская, хотя проскочить еще можно. Я стою недовольный. А она говорит с укором:
– Всегда ты бежишь под машины.
– Но я не бегу под машины!
– Ты так перебегал улицу, что у меня сердце упало.
– Вот чепуха! – Я сержусь.
Она все-таки держит меня, пока не проедет последняя, самая дальняя машина.
Мы наконец переходим, и вдруг на мгновение я ощущаю себя хрупким, быть может, дорогим сосудом, который вот так осторожно и тихо несет чья-то бережная рука. Странное, щемящее чувство…
Стою зачарованный воспоминанием. В ладони возрождается ощущение ее руки, маленькой, теплой, обладающей магнетической силой. Неужели все это было? Июльский полдень, горячий мягкий асфальт, машины, скользящие мимо с липким шорохом, ее рука в моей и мерный гул огромного города…
Теперь тишина. Я смотрел на скромные огни масляных фонарей и думал о некой связи, быть может, единстве двух моих судеб, в каждой из которых лицо девушки, и лицо этого дома, и множество других смутно знакомых лиц, и, наконец, этот город, эта земля и небо – все близкое и знакомое, хотя и не узнанное еще до конца…
У подъезда стояло несколько экипажей, двери распахнуты. Подкатила еще коляска, вышли два офицера. Один сказал довольно громко:
– У князя такой балкон вместо челюсти, что непонятно, зачем ему балконы на особняке.
Другой хохотнул, и они скрылись в подъезде.
Стало быть, это и есть дом Долгорукова по прозвищу «балкон»? Впрочем, я мог бы догадаться и раньше. Фальковский приказал ехать на Пречистенку, но только у одного дома на улице чувствовалось оживление. Значит, ужин здесь. И здесь поджидает меня Ростопчин.
Я не собирался прятаться. Эмалевый медальон и воспоминания влекли меня в дом на Пречистенке.
У дверей встретил лакей в темно-красной ливрее с золотым позументом.
– Пожалуйте, – сказал он глухим басом.
– Много народу? – спросил я, снимая фуражку.
– Какой там. – Он принял фуражку. – Тихий бал-с. Господ сорок от силы-с.
– А граф Ростопчин?
– Еще не прибыли, но ожидают-с.
Я отстегнул ташку и постоял перед огромным зеркалом. Снимают ли ментик? Судя по спокойствию лакея, который уже занял свой стульчик, нет. Я оглядел себя. Черный в красных шнурах доломан, алая подкладка ментика, серебряные эполеты. Лицо усталое, сапоги пыльные.
Я хотел попросить щетку, но швейцар уже застыл в полудреме. Вздрагивали седые баки.
Потоптавшись немного, я стал подниматься по лестнице, выложенной зеленым ковром. Освещение скудное. Всего по одной свече в деревянных тройниках, редко повешенных на стене. В нишах притаились статуи.
Я шел, придумывая, как представиться, и зная, что в домах «допожарной» Москвы гостей принимали без церемоний, даже незнакомых. Военного мундира для рекомендации было достаточно.
Но «прием» превзошел мои ожидания. На меня попросту не обращали внимания. Я прошел несколько едва освещенных комнат. На диванах курили длинные трубки, распевали песни. Пробежала горничная в зеленом переднике с большим фарфоровым чайником на подносе. Проковылял маленький старичок в белых чулках. Он вскинул голову и уничтожающе посмотрел на меня. Я поклонился. Быть может, хозяин? Тогда в полутьме я не разглядел его знаменитой челюсти.
Наконец я попал в залу. Здесь посветлей. Оранжевые шторы, портреты на мраморных стенах, скользкий мозаичный пол, в глубине сцена для музыкантов. Две люстры озаряли гроздьями свеч.
Горстками стояли несколько человек, все больше пожилые. В одном углу бело-розовым букетом собрались дамы. Там смеялись.
Я сделал несколько шагов, туда, сюда. На меня покосились, но разговор продолжался.
– Да-с! – говорил кто-то в темном сюртуке. – Только постное! Когда отечество горит, сладости в рот не лезут!
– Да бросьте вы, батюшка, – отмахнулся другой. – Горит, горит! Не в кухне же у вас подгорает, ешьте себе на здоровье.
– Бахметьев обед с семи до пяти блюд убавил.
– Лучше бы ополченцев нарядил.
– Если Москву оставлять, дом свой подожгу, знайте! – громче всех говорил «темный сюртук».
– Да откуда вы, батюшка, такой патриот взялись?
– Я не успокоюсь, пока не искупаюсь в крови французов! – распалялся «сюртук».
От бело-розового букета отделился офицер в белом кавалергардском мундире и быстро пошел ко мне.
– Да! – сказал он. – Вы здесь! Наверное, графа ждете?
Я узнал адъютанта Ростопчина. Только выглядел он сейчас веселым и юным, не то что в приемной. Он разглядывал меня с легким удивлением и как бы удовольствием.
– Да вы, оказывается, гусар! Какого полка, не пойму?
– Особого, – сказал я с шутливой серьезностью. – Даже не спрашивайте.
– Вы правы, столько полков сейчас новых, я уж запутался. Пойдемте, познакомлю avec des dames charmantes. (С прекрасными дамами (франц.)) Ведь вы из армии, им будет приятно. Постойте, я прежде вам расскажу. Вот эта справа – Анетте Трубецкая, весьма хорошенькая, но у нее жених, этот болван Сибаев, не слышали? Вон та в розовом платье – Катрин Пушкина, миленькая, но дурочка. А вон ту, Софи Нелединскую, вам очень советую. Эти? Ну, с ними разговор короткий. Лепешки. Так их все и зовут – княжны-лепешки. Это за то, что целыми вечерами они у себя в окнах торчат, прохожих разглядывают...
Он быстро и доверительно описывал достоинства и недостатки знакомых дам, а я только мог заключить, что Ростопчин не посвятил его в свои замыслы. Больше того, адъютант, видимо, считал, что граф проявил ко мне особое расположение. Иначе почему он так охотно взялся за мою опеку?
– Это лучшее, что осталось, – говорил адъютант. – Так сказать fine fleur (Сливки (франц.)) нашего оскудевшего света. Остальные давно разъехались. Ах, если бы вы застали княжну Масальскую! Увы, опустела Москва. Ну, пойдемте, пойдемте. Да вы не стесняйтесь, там все молодые. По-французски старайтесь не говорить, у нас штраф...
Мы подошли.
– Поручик Берестов, рыцарь легкой кавалерии! – провозгласил адъютант. – Между прочим, особого полка!
– Какого же? – спросила темноволосая девушка в розовом платье туникой.
– Прекрасный кавалергард преувеличивает, – отшутился я.
– Какой он кавалергард, он просто Ванечка, – сказала девушка с пышными рукавами, похожими на белые шары.
– Да, да, зовите меня просто Ванечкой, – согласился адъютант. – Так удобнее. – Ему, видно, нравилось это фамильярное и вместе с тем семейное обращение. – А вас, кстати, как величать?
– Александр.
– Браво! – сказала темноволосая. – Вы наш Македонский. Скажите, Македонский, скоро вы побьете французов?
– Достаточно скоро, – ответил я.
– Нет, правда, как дела в армии?
– А почему вы без сабли?
– Как Кутузов?
– Что говорят про Барклая?
– Когда будет сражение?
– Уезжать из Москвы или оставаться?
Вопросы посыпались градом. Подошли еще два офицера и студент в синей тужурке с малиновым воротником. Начался беспорядочный спор. Кто обвинял в неудачах Барклая, кто Беннигсена, кто уверял, что французы несокрушимы, кто предсказывал народный бунт.
– Мы собираем женский легион! – кричала темноволосая девушка в тунике. – Софи, Катрин и я вступаем! У меня даже каска есть!
– Вот вы из армии, а ничего толком не говорите, – укоряла меня другая.
– Да я так, второе лицо, – ответил я.
– Как второе?
– Старшим со мной другой офицер.
– Какой офицер, где он, как его звать?
– Ротмистр Листов.
– Это какой Листов? Который с Лашковым стрелялся?
– Не знаю, – сказал я.
– Как же не знаете? Ведь он с Лашковым стрелялся из-за крепостной!
– Вот уж и крепостной! – возразила черноволосая. – Откуда ты знаешь?
– Он ему ухо отстрелил! – сказала другая.
– Я бы и в лоб не пожалел, – вставил офицер в форме улана.
Общество оживилось.
– Постойте, постойте! – вмешался сияющий Ванечка. – Поручик, вы что же, не слышали про Листова?
– Да, в общем… – сказал я.
– Ах, какая романтическая история! – воскликнула черноволосая.
– Он в крепостную влюбился!
– Так уж и крепостную! Откуда ты знаешь?
– Все говорят!
– Они бумаги подделали!
Поднялся гомон.
– Постойте, постойте! – кричал Ванечка. – Поручик, я расскажу! Я знаю наверное! Мне Хлудов в точности описал, он секундантом был на дуэли. Значит, так, с чего там началось?
– Он увидел ее в Воспитательном доме, – подсказал кто-то.
– Ага! Значит, так, поручик. Лашков-старший, это толстое брюхо, едет на спектакль в Воспитательный дом, видит там очаровательное видение и возгорается мыслью добыть его в свой домашний театр, так сказать, пригреть сироту.
– Знаем мы его домашний театр! – сказала черноволосая. – Одни наложницы, как только Москва его терпит.
– Ну вот, – продолжал Ванечка. – Стало быть, начинает выпрашивать девушку у директора Тутолмина. А только и всего требуется, что ее согласие. А она согласия не дает! Тут и молодой Лашков на девушку польстился. Как, бишь, ее звать? Кто помнит?
– Настасья! Катерина! Наталья!
– Неважно. Долго ли, коротко, Лашковы вдруг предъявляют Тутолмину бумаги, по которым следует, что девушка эта дочь их крепостной, бежавшей с каким-то там… я уж не знаю. Словом, забирают ее силой из Воспитательного дома, обхаживать начинают, а она упрямится.
– Я точно знаю, что они бумаги подделали! – сказала девушка в платье с шарами.
– А тут и Листов ввязался, – сказал Ванечка. – С Лашковым он был в приятелях и знал всю историю. За девушку стал вступаться…
– Влюбился!
– Потом дуэль с Лашковым, а после девушка исчезает.
– Он ее увез!
– Но куда? Что ему с ней делать? Не жениться же?
– А пусть бы и женился. Шереметев женился на своей крепостной.
– Но у той воспитание! Она по-французски говорит и какая актриса!
– У этой тоже воспитание! Я видела, у нее стать, как у дворянки! Если сирота, это не значит, что из простых. Мало ли всяких историй на свете!
– Господа, господа! – кричал Ванечка. – Хватит об этом! Будут у нас танцы, наконец?
– Старик объявил «тихий бал», – сказал улан.
– Разве они дадут повеселиться! – Черноволосая посмотрела на шуршащих разговором стариков.
– Им только черепашьи супы есть да в «бостон» играть!
– А я люблю «тихий бал». Не то что в Благородном собрании, где свечи от духоты гаснут.
– Помните, как у Небольсиной на именинах Ростопчин прислал громадный торт? Его раскрыли, а оттуда вышел карлик с незабудками!
Подошел лакей с большим подносом, уставленным запотевшими бокалами.
– Венгерское. Пожалуйте-с.
– А ананасы?
– Ананасов нет по случаю войны-с, – ответил лакей.
– У Апраксиных были вчера ананасы!
– Не могу знать-с, – твердо ответил лакей. – Холодный рябчик, кулебяка, фрукты и мороженое пожалуйте. В обеденной.
– Кулебяка? Фи!
– Господа! – сказал Ванечка. – Я предлагаю собрать по комнатам молодежь. Салтыков, Мамонов и Гагарин здесь.
– Вяземский, – добавил кто-то.
– Копьев, Арсеньева, Павлова…
– Вот-вот! – сказал Ванечка. – Я предлагаю собрать всех в зеленую гостиную и сыграть фанты! Дамы и господа! В кои-то веки собрались! Может, последний вечер в Москве! Завтра многие уезжают в армию.
– Фанты, фанты! – закричали все.
Мы взяли в руки по свечке и пошли по комнатам с криком:
– Фанты, фанты! Последний раз фанты в городе Москве!
– А вон и наш граф, – сказал мне адъютант. – Вы подойдете к нему?
– Пожалуй.
– А я исчезаю. Ждем вас в зеленой гостиной. Туда и ужин подадут.
– Фанты, фанты! – закричал он тут же, убегая за остальными. – Последний раз фанты в городе Москве!
3
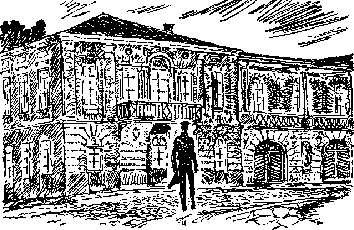
У этого дома, у Академии художеств, на той далекой во времени Кропоткинской мы часто встречались с Наташей. Она жила в двух шагах отсюда. В двух шагах, в полутора веках жила от меня Наташа…
Вот я перебегаю улицу. Она стоит, прислонившись к стене, с раскрытой книгой. Я бегу, перебегаю улицу, машина проскальзывает мимо. Из-под упавшей на глаза пряди она быстрым взглядом ловит меня, откинувшегося от машины…
Я подхожу. Она закрывает книгу. Видно, и не читала ее, а так, просто держала, чтобы не выглядеть праздной на этой бегущей полуденной улице.
– Опаздываешь? – говорит она. – Никогда не приходишь вовремя.
Она торопливо сует книгу в сумку, встряхивает головой, откидывая со лба веер выгоревших волос, и все ее загорелое лицо оживленно волнуется.
Мы беремся за руки и переходим улицу. Опять набегает машина. Наташа держит меня, не отпуская, хотя проскочить еще можно. Я стою недовольный. А она говорит с укором:
– Всегда ты бежишь под машины.
– Но я не бегу под машины!
– Ты так перебегал улицу, что у меня сердце упало.
– Вот чепуха! – Я сержусь.
Она все-таки держит меня, пока не проедет последняя, самая дальняя машина.
Мы наконец переходим, и вдруг на мгновение я ощущаю себя хрупким, быть может, дорогим сосудом, который вот так осторожно и тихо несет чья-то бережная рука. Странное, щемящее чувство…
Стою зачарованный воспоминанием. В ладони возрождается ощущение ее руки, маленькой, теплой, обладающей магнетической силой. Неужели все это было? Июльский полдень, горячий мягкий асфальт, машины, скользящие мимо с липким шорохом, ее рука в моей и мерный гул огромного города…
Теперь тишина. Я смотрел на скромные огни масляных фонарей и думал о некой связи, быть может, единстве двух моих судеб, в каждой из которых лицо девушки, и лицо этого дома, и множество других смутно знакомых лиц, и, наконец, этот город, эта земля и небо – все близкое и знакомое, хотя и не узнанное еще до конца…
У подъезда стояло несколько экипажей, двери распахнуты. Подкатила еще коляска, вышли два офицера. Один сказал довольно громко:
– У князя такой балкон вместо челюсти, что непонятно, зачем ему балконы на особняке.
Другой хохотнул, и они скрылись в подъезде.
Стало быть, это и есть дом Долгорукова по прозвищу «балкон»? Впрочем, я мог бы догадаться и раньше. Фальковский приказал ехать на Пречистенку, но только у одного дома на улице чувствовалось оживление. Значит, ужин здесь. И здесь поджидает меня Ростопчин.
Я не собирался прятаться. Эмалевый медальон и воспоминания влекли меня в дом на Пречистенке.
У дверей встретил лакей в темно-красной ливрее с золотым позументом.
– Пожалуйте, – сказал он глухим басом.
– Много народу? – спросил я, снимая фуражку.
– Какой там. – Он принял фуражку. – Тихий бал-с. Господ сорок от силы-с.
– А граф Ростопчин?
– Еще не прибыли, но ожидают-с.
Я отстегнул ташку и постоял перед огромным зеркалом. Снимают ли ментик? Судя по спокойствию лакея, который уже занял свой стульчик, нет. Я оглядел себя. Черный в красных шнурах доломан, алая подкладка ментика, серебряные эполеты. Лицо усталое, сапоги пыльные.
Я хотел попросить щетку, но швейцар уже застыл в полудреме. Вздрагивали седые баки.
Потоптавшись немного, я стал подниматься по лестнице, выложенной зеленым ковром. Освещение скудное. Всего по одной свече в деревянных тройниках, редко повешенных на стене. В нишах притаились статуи.
Я шел, придумывая, как представиться, и зная, что в домах «допожарной» Москвы гостей принимали без церемоний, даже незнакомых. Военного мундира для рекомендации было достаточно.
Но «прием» превзошел мои ожидания. На меня попросту не обращали внимания. Я прошел несколько едва освещенных комнат. На диванах курили длинные трубки, распевали песни. Пробежала горничная в зеленом переднике с большим фарфоровым чайником на подносе. Проковылял маленький старичок в белых чулках. Он вскинул голову и уничтожающе посмотрел на меня. Я поклонился. Быть может, хозяин? Тогда в полутьме я не разглядел его знаменитой челюсти.
Наконец я попал в залу. Здесь посветлей. Оранжевые шторы, портреты на мраморных стенах, скользкий мозаичный пол, в глубине сцена для музыкантов. Две люстры озаряли гроздьями свеч.
Горстками стояли несколько человек, все больше пожилые. В одном углу бело-розовым букетом собрались дамы. Там смеялись.
Я сделал несколько шагов, туда, сюда. На меня покосились, но разговор продолжался.
– Да-с! – говорил кто-то в темном сюртуке. – Только постное! Когда отечество горит, сладости в рот не лезут!
– Да бросьте вы, батюшка, – отмахнулся другой. – Горит, горит! Не в кухне же у вас подгорает, ешьте себе на здоровье.
– Бахметьев обед с семи до пяти блюд убавил.
– Лучше бы ополченцев нарядил.
– Если Москву оставлять, дом свой подожгу, знайте! – громче всех говорил «темный сюртук».
– Да откуда вы, батюшка, такой патриот взялись?
– Я не успокоюсь, пока не искупаюсь в крови французов! – распалялся «сюртук».
От бело-розового букета отделился офицер в белом кавалергардском мундире и быстро пошел ко мне.
– Да! – сказал он. – Вы здесь! Наверное, графа ждете?
Я узнал адъютанта Ростопчина. Только выглядел он сейчас веселым и юным, не то что в приемной. Он разглядывал меня с легким удивлением и как бы удовольствием.
– Да вы, оказывается, гусар! Какого полка, не пойму?
– Особого, – сказал я с шутливой серьезностью. – Даже не спрашивайте.
– Вы правы, столько полков сейчас новых, я уж запутался. Пойдемте, познакомлю avec des dames charmantes. (С прекрасными дамами (франц.)) Ведь вы из армии, им будет приятно. Постойте, я прежде вам расскажу. Вот эта справа – Анетте Трубецкая, весьма хорошенькая, но у нее жених, этот болван Сибаев, не слышали? Вон та в розовом платье – Катрин Пушкина, миленькая, но дурочка. А вон ту, Софи Нелединскую, вам очень советую. Эти? Ну, с ними разговор короткий. Лепешки. Так их все и зовут – княжны-лепешки. Это за то, что целыми вечерами они у себя в окнах торчат, прохожих разглядывают...
Он быстро и доверительно описывал достоинства и недостатки знакомых дам, а я только мог заключить, что Ростопчин не посвятил его в свои замыслы. Больше того, адъютант, видимо, считал, что граф проявил ко мне особое расположение. Иначе почему он так охотно взялся за мою опеку?
– Это лучшее, что осталось, – говорил адъютант. – Так сказать fine fleur (Сливки (франц.)) нашего оскудевшего света. Остальные давно разъехались. Ах, если бы вы застали княжну Масальскую! Увы, опустела Москва. Ну, пойдемте, пойдемте. Да вы не стесняйтесь, там все молодые. По-французски старайтесь не говорить, у нас штраф...
Мы подошли.
– Поручик Берестов, рыцарь легкой кавалерии! – провозгласил адъютант. – Между прочим, особого полка!
– Какого же? – спросила темноволосая девушка в розовом платье туникой.
– Прекрасный кавалергард преувеличивает, – отшутился я.
– Какой он кавалергард, он просто Ванечка, – сказала девушка с пышными рукавами, похожими на белые шары.
– Да, да, зовите меня просто Ванечкой, – согласился адъютант. – Так удобнее. – Ему, видно, нравилось это фамильярное и вместе с тем семейное обращение. – А вас, кстати, как величать?
– Александр.
– Браво! – сказала темноволосая. – Вы наш Македонский. Скажите, Македонский, скоро вы побьете французов?
– Достаточно скоро, – ответил я.
– Нет, правда, как дела в армии?
– А почему вы без сабли?
– Как Кутузов?
– Что говорят про Барклая?
– Когда будет сражение?
– Уезжать из Москвы или оставаться?
Вопросы посыпались градом. Подошли еще два офицера и студент в синей тужурке с малиновым воротником. Начался беспорядочный спор. Кто обвинял в неудачах Барклая, кто Беннигсена, кто уверял, что французы несокрушимы, кто предсказывал народный бунт.
– Мы собираем женский легион! – кричала темноволосая девушка в тунике. – Софи, Катрин и я вступаем! У меня даже каска есть!
– Вот вы из армии, а ничего толком не говорите, – укоряла меня другая.
– Да я так, второе лицо, – ответил я.
– Как второе?
– Старшим со мной другой офицер.
– Какой офицер, где он, как его звать?
– Ротмистр Листов.
– Это какой Листов? Который с Лашковым стрелялся?
– Не знаю, – сказал я.
– Как же не знаете? Ведь он с Лашковым стрелялся из-за крепостной!
– Вот уж и крепостной! – возразила черноволосая. – Откуда ты знаешь?
– Он ему ухо отстрелил! – сказала другая.
– Я бы и в лоб не пожалел, – вставил офицер в форме улана.
Общество оживилось.
– Постойте, постойте! – вмешался сияющий Ванечка. – Поручик, вы что же, не слышали про Листова?
– Да, в общем… – сказал я.
– Ах, какая романтическая история! – воскликнула черноволосая.
– Он в крепостную влюбился!
– Так уж и крепостную! Откуда ты знаешь?
– Все говорят!
– Они бумаги подделали!
Поднялся гомон.
– Постойте, постойте! – кричал Ванечка. – Поручик, я расскажу! Я знаю наверное! Мне Хлудов в точности описал, он секундантом был на дуэли. Значит, так, с чего там началось?
– Он увидел ее в Воспитательном доме, – подсказал кто-то.
– Ага! Значит, так, поручик. Лашков-старший, это толстое брюхо, едет на спектакль в Воспитательный дом, видит там очаровательное видение и возгорается мыслью добыть его в свой домашний театр, так сказать, пригреть сироту.
– Знаем мы его домашний театр! – сказала черноволосая. – Одни наложницы, как только Москва его терпит.
– Ну вот, – продолжал Ванечка. – Стало быть, начинает выпрашивать девушку у директора Тутолмина. А только и всего требуется, что ее согласие. А она согласия не дает! Тут и молодой Лашков на девушку польстился. Как, бишь, ее звать? Кто помнит?
– Настасья! Катерина! Наталья!
– Неважно. Долго ли, коротко, Лашковы вдруг предъявляют Тутолмину бумаги, по которым следует, что девушка эта дочь их крепостной, бежавшей с каким-то там… я уж не знаю. Словом, забирают ее силой из Воспитательного дома, обхаживать начинают, а она упрямится.
– Я точно знаю, что они бумаги подделали! – сказала девушка в платье с шарами.
– А тут и Листов ввязался, – сказал Ванечка. – С Лашковым он был в приятелях и знал всю историю. За девушку стал вступаться…
– Влюбился!
– Потом дуэль с Лашковым, а после девушка исчезает.
– Он ее увез!
– Но куда? Что ему с ней делать? Не жениться же?
– А пусть бы и женился. Шереметев женился на своей крепостной.
– Но у той воспитание! Она по-французски говорит и какая актриса!
– У этой тоже воспитание! Я видела, у нее стать, как у дворянки! Если сирота, это не значит, что из простых. Мало ли всяких историй на свете!
– Господа, господа! – кричал Ванечка. – Хватит об этом! Будут у нас танцы, наконец?
– Старик объявил «тихий бал», – сказал улан.
– Разве они дадут повеселиться! – Черноволосая посмотрела на шуршащих разговором стариков.
– Им только черепашьи супы есть да в «бостон» играть!
– А я люблю «тихий бал». Не то что в Благородном собрании, где свечи от духоты гаснут.
– Помните, как у Небольсиной на именинах Ростопчин прислал громадный торт? Его раскрыли, а оттуда вышел карлик с незабудками!
Подошел лакей с большим подносом, уставленным запотевшими бокалами.
– Венгерское. Пожалуйте-с.
– А ананасы?
– Ананасов нет по случаю войны-с, – ответил лакей.
– У Апраксиных были вчера ананасы!
– Не могу знать-с, – твердо ответил лакей. – Холодный рябчик, кулебяка, фрукты и мороженое пожалуйте. В обеденной.
– Кулебяка? Фи!
– Господа! – сказал Ванечка. – Я предлагаю собрать по комнатам молодежь. Салтыков, Мамонов и Гагарин здесь.
– Вяземский, – добавил кто-то.
– Копьев, Арсеньева, Павлова…
– Вот-вот! – сказал Ванечка. – Я предлагаю собрать всех в зеленую гостиную и сыграть фанты! Дамы и господа! В кои-то веки собрались! Может, последний вечер в Москве! Завтра многие уезжают в армию.
– Фанты, фанты! – закричали все.
Мы взяли в руки по свечке и пошли по комнатам с криком:
– Фанты, фанты! Последний раз фанты в городе Москве!
– А вон и наш граф, – сказал мне адъютант. – Вы подойдете к нему?
– Пожалуй.
– А я исчезаю. Ждем вас в зеленой гостиной. Туда и ужин подадут.
– Фанты, фанты! – закричал он тут же, убегая за остальными. – Последний раз фанты в городе Москве!
3
Ростопчин был в том же сюртуке с генеральскими эполетами, только галстук сменил на более светлый. Он первый увидел меня и сразу подошел, бросив разговор с кем-то из гостей.
– О! – сказал он. – Не ожидал так рано. – Он скользнул взглядом по моему гусарскому мундиру, но ничего не сказал.
– Как съездили? Застали свою модель? – Глаза его искали Фальковского.
– Увы, не застал, – ответил я. – А капитана нет, могу предложить только его треуголку.
Я коротко рассказал о происшествии у дома Листовых.
– Но это странно, – сказал Ростопчин. – В чем же дело?
– Не знаю. Но, может быть, вот в чем. По дороге я спросил Фальковского, не опасается ли он, что я ударю его и сбегу.
– Вот как? – Ростопчин вскинул брови.
– Боюсь, моя угроза обернулась не шуткой. Похоже, его действительно кто-то ударил.
– Но кто?
Я пожал плечами.
– Ведь я намекал вам, что я человек не простой. Кое-какие, даже шутливые мои предсказания могут сбываться. Особенно если дело касается меня и моей личной свободы. Ведь Фальковский уверял, что я под арестом, хоть и условным.
– Ну! – Ростопчин взмахнул рукой. – Это он перестарался. Послушайте, давайте-ка сядем на тот диванчик.
Мы отошли в глубь зала.
– Дорогой мой, – заговорил Ростопчин. – Я ведь и сам понял, что вы человек не простой. Утром я только почувствовал это, но вот прошел день, и я уверен. Я сопоставил факты и решил, что обыкновенный человек вряд ли мог знать все, что вы мне рассказали. Депешу от Кутузова я получил именно с полковником Федоровым и как раз в то время, как вы сказали. И Платов заезжал, необыкновенное дело, что он в Москве. Что же касается Фальковского, то я вызвал его только потому, что не хотел терять вас из виду.
Он взял меня за руку.
– Фальковский мой лучший офицер. Я считал его способным раскрыть любое дело. Вашей странной биографией занимался он. Как только я почувствовал за вами силу, сразу решил звать Фальковского. Я сказал себе: пусть они сойдутся. Кто кого, понимаете? У Фальковского мертвая хватка, другой бы от него не ушел. Так вот я подумал, если вам удастся вырваться, то вы станете важным для меня человеком.
– Что значит важным человеком? В каком смысле?
– Ах, это не просто растолковать.
– Но я бы мог легко исчезнуть.
– Но вы не исчезли! Вы передо мной, значит, я вам нужен. Бог с ним, с Фальковским. Быть может, вы его отправили на тот свет, но я вам прощаю. Послушайте, с кем, как не со мной, вы развернете свои способности? И с кем, как не с вами, я сумею добиться своего! Я как в пустыне, милый, как в пустыне! Мне не на кого опереться.
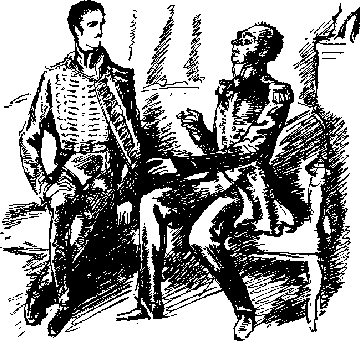 Глаза его горели, на щеках появился румянец.
Глаза его горели, на щеках появился румянец.
– Смотрите, вон перед вами цвет государства, хилые старцы, способные только шушукаться между собой. Вон тот – губернатор Обрезков, он только в карты играет и спит. Рядом вице-губернатор Арсеньев, по прозвищу «тесто», отпетый пьяница. Вон генерал-полицмейстер Ивашкин, нюня и трус, под каблуком у жены, какой из него полицейский? Предводитель дворянства дурак и обжора, архиепископ простой бабник. А прочие, прочие! Вон Трубецкой-пустослов, его не иначе как «тарара» кличут. Вон «алмазное видение» Голицын, ему только бы бриллианты носить. Вон «зефир» Раевский, его ветер, как бумагу, носит… Ах, батенька! У меня триста полицейских офицеров в Москве, из них стоящий один Фальковский. В Петербурге то же самое, а по всей России еще хуже!
– Что же вы хотите? – спросил я.
– Чего я хочу? Ах, дорогой… Для себя ничего, ровным счетом ничего! Я хочу сильной России, России, которая свернет шею этому Бонапарту!
– Но и другие того же хотят. Разве государь…
– Он слишком мягок, – перебил меня Ростопчин. – Он слишком добр.
– Но может быть, народ одолеет французов?
– Народ? Это будет ужасно. Народ – это бунт. Топоры, вилы, косы. Мы все будем болтаться в петле вместе с Бонапартом.
– Уж не хотите ли вы сами оказаться победителем?
– А почему бы и нет? – Ростопчин пожал плечами. – Превратить Москву в цитадель, встать во главе народного гнева.
– Вы же сами боитесь бунта.
– Бунт – это стихия. Если взять его в руки – это уже народная война.
– И вы во главе?
– А почему бы и нет? – Ростопчин снова пожал плечами. – Опрокинуть неприятеля, гнать за границу, освободить Европу. Разве плохие помыслы?
– А как посмотрит на это государь?
– Он будет аплодировать мне из Петербурга.
Шутит он или говорит серьезно, трудно было понять. Или он прекрасный актер или действительно сумасшедший.
– Чем же я могу вам помочь? – спросил я.
– Не вы один. Вы станете членом моего легиона. Одно ваше появление указывает, что такие люди есть. Я разыщу их и создам когорту стремительных и неотразимых. Они сметут передо мной все преграды! Дорогой мой, – он заговорил торопливо, – у меня есть кое-кто на примете, но это так, кулаки, а мне нужно умов.
– Вы полагаете, я соглашусь?
– Подумайте. Вы человек без биографии, без прошлого. Вы странствующий талант, созданный для действия и пропадающий втуне. Со мной вы обретете цель и свернете горы. Таких много, но они рассеяны по свету. Я найду и соберу их, я дам им девиз: per aspera ad astra – через тернии к звездам!
«Это похоже на заговор», – подумал я и сказал:
– Ваши слова можно понять как приглашение на службу?
– Не службу, дорогой мой! Приглашение к сотовариществу!
– Отвечать надо сейчас?
– Подумайте, но я не сомневаюсь, что вы согласитесь.
– А если нет?
– Не говорите так, не говорите. Вы первый человек, подходящий для легиона, о котором давно мечтаю.
– А штабс-капитан Фальковский?
– Что вы все о Фальковском! Сначала пусть он объявится.
– Я все еще под условным арестом?
– Какая чепуха! Вы вольны, но вы придете ко мне, я знаю! Или ты приставишь ко мне агента, подумал я. Скорее всего так и будет. И несдобровать мне, если стану уклоняться от продолжения разговора.
– Простите, – сказал Ростопчин. – Наша беседа уже интригует столпов общества. Я вас покидаю, но жду с надеждой. В любое время в моем особняке.
– Если все это не шутки, – сказал я.
– А хоть бы и шутки. – Ростопчин улыбнулся и вскинул брови. – Отчего же не пошутить с замечательным человеком? Но я вас жду, как условились. Там уже серьезно поговорим.
Он отошел. На нас действительно уже поглядывали. Я направился к выходу.
Маленькая собачонка белым комом влетела в зал и понеслась с лаем кругами. Никто не обращал на нее внимания. Собачка подскочила к лакею, который стоял около стариков с подносом, запрыгала, завертелась, запуталась у него в ногах.
Поднос в руках лакея дрогнул, звякнули и сдвинулись бокалы.
– Что это ты трясешься, любезный? – строго сказал один из «столпов».
– Да уж Фиделька больно кусает, ваше сиятельство.
Белый пушистый Фиделька хватал лакея за ноги в своей собачьей игре, взвизгивал, грозно рычал.
– Эка невидаль – Фиделька кусает! – сказал «столп». – У меня полк под ядрами смирно стоял, а ты собачонки трясешься.
– Виноват-с, – сказал лакей с несчастным, дергающимся лицом.
Фиделька с рычанием, уже остервенело рвал его белые чулки.
Я вышел из зала и чуть не столкнулся с девушкой, со смехом бежавшей из боковой комнаты. За ней, поскользнувшись на паркете, выскочил юноша. Он еле удержался на ногах, тряхнул рыжеватой растрепанной головой, блеснул очками, улыбнулся и побежал дальше, оставив впечатление чего-то знакомого. В зеленой гостиной стояли хохот и крик.
– Этот фант Вяземского! Где Вяземский?
– Вяземский исчез!
– Он с Жюли, у них давно вышел фант целоваться!
– Целоваться! У него жена в Калуге!
– А это Александр Македонский! – закричали на меня.
– Македонский, хотите вина?
– Так где же ваш меч?
– Давайте ему фант!
– Надоело в фанты! Никто не исполняет!
Разгоряченные лица, улыбки, смех. Атмосфера бесшабашного, чуть ли не лихорадочного веселья. Всегда ли у них так?
– Друзья! – закричал адъютант Ванечка. – Давайте играть в скромные желания!
– Это как? Объясните!
– Вы называете скромное желание, пишете на фантах. Потом мешаем и тащим фанты. Кто вытащил свое желание, тому и сбудется. Кто нет, записывает снова свое желание рядом с другим, опять мешаем и тащим!
– А потом?
– Сначала надо записать желания! У кого карандаш?
– У Салтыкова почерк хороший, пускай записывает!
– А желание обязательно скромное?
– Какое угодно, только лучше пишите скромное, а то никогда не сбудется!
– Налейте Македонскому вина, штрафную!
Меня заставили выпить большой бокал крепкого сладкого вина. Голова пошла кругом.
– Кто там первый? Начинаем! Ванечка, твое желание! Говори быстрее!
– Мое скромное желание стать флигель-адъютантом, – сказал Ванечка.
– Неплохо! Куда хватил! – закричали все.
– Записываю. Следующий!
– Мое скромное желание дожить до ста лет, – сказал улан.
– И это недурно. Дальше.
– Мое скромное желание получить Георгия, – сказал приятель улана.
– А Андрея Первозванного не хочешь?
– Что скажет воспитанник альма матер?
Студент слегка покраснел:
– Да что ж, мне бы хоть доучиться.
– Вот это скромно! – закричали все. – Это уж скромно!
– А у тебя, Анетте?
– Пусть Миша мой вернется с войны с руками и ногами.
– Сибаев? Да у него такие ручищи, такие ножищи, что никакое ядро не отшибет! Что ж тут загадывать? Остальные говорите!
– Мне бы теткино наследство получить!
– Мне в картах удачи!
– У меня секретное! Сама напишу!
– А у меня нету желаний, ей-богу нету! Только нескромные!
– Да подождите вы! Не успеваю писать!
Поднялся гомон. Что-то неладное творилось у меня с головой. Я вышел в соседнюю комнату и прилег на диван. Неужели от вина? Вместе с каким-то скольжением пространства голова была ясна, но странно ясна. Сознание тянуло не то в даль, не то в полудрему.
Шум, смех за стеной. Внезапно внутреннее зрение как бы раздвинулось, все стихло, и передо мной появился адъютант Ванечка. Он был в том же мундире, но с серьезным, осунувшимся лицом.
– Мне не удастся стать флигель-адъютантом, – сказал он.
– Почему? – спросил я, не разжимая губ.
– Я буду убит через три дня в Бородинском бою. Сначала пуля попадет вот сюда, – он показал на плечо, – а потом картечью в грудь. Меня даже не подберут. Три дня осталось жить.
За ним появились улан со своим приятелем.
– Мне оторвет ногу, – сказал улан, – и я буду жить еще несколько лет на иждивении своей сестры воспоминаниями о двенадцатом годе.
– А он, – улан показал на приятеля, – он получил бы Георгия, ну, может, не Георгия, так Владимира. Ведь он отобьет знамя у дивизии Компана, но когда пойдет с этим знаменем на батарею, пуля догонит прямо в затылок. Наповал.
– Да ты не печалься, Алеша. – Он повернулся к приятелю. – Думаешь, доживать, как я, лучше?
– Я не печалюсь, – сказал приятель. – Мать только жалко.
Возник студент с малиновым воротником.
– А он всего только хотел доучиться, – сказал улан. – И то не выйдет. Легкое будет прострелено. Только и станет, что болеть да кашлять. Высохнет совсем… Тебя-то зачем в Бородино потянуло? – спросил он студента.
– Многие из университета пошли, – ответил тот, снова краснея. – Мы раненых выносили.
– Учились бы лучше, чем воевать, – буркнул улан.
– А остальные? – спросил я.
– Что остальные! Вот Анетте загадала, чтоб Миша Сибаев вернулся неискалеченный. Так его уж и на свете нет. Он вчера в арьергардном бою под саблю попал. Только известие еще не дошло… Кому-то, может, и повезет. Только, я думаю, во многих семьях этот год метку оставит…
– Берестов! – кричали за стеной. – Македонский! Куда подевался? Один не сказал скромного желания!
Я вскочил с мокрым холодным лбом. Что это было? Галлюцинация или прозрение?
– Македонский! – кричали из гостиной. – Идите сюда, хватит спать!
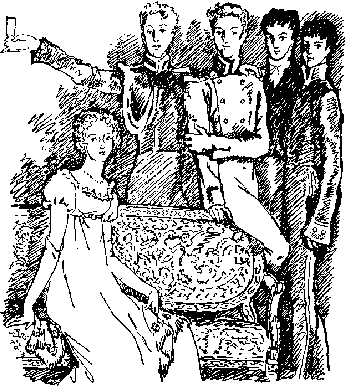 Я вошел. Такое же веселье и смех. Адъютант Ванечка картинно отставил руку с бокалом.
Я вошел. Такое же веселье и смех. Адъютант Ванечка картинно отставил руку с бокалом.
– Ваше скромное желание, поручик!
«Ему осталось жить три дня, – стремительно пронеслось в голове. – И тому, и этому тоже».
– Так что же, какое у вас желание?
– Мое скромное желание, – сказал я, – увидеть всех вас еще раз в добром здравии и хорошем настроении.
– Браво! – закричали они. – Самое скромное!
Я вышел из дома. Какая драма, какая драма надвигается на страну!
– О! – сказал он. – Не ожидал так рано. – Он скользнул взглядом по моему гусарскому мундиру, но ничего не сказал.
– Как съездили? Застали свою модель? – Глаза его искали Фальковского.
– Увы, не застал, – ответил я. – А капитана нет, могу предложить только его треуголку.
Я коротко рассказал о происшествии у дома Листовых.
– Но это странно, – сказал Ростопчин. – В чем же дело?
– Не знаю. Но, может быть, вот в чем. По дороге я спросил Фальковского, не опасается ли он, что я ударю его и сбегу.
– Вот как? – Ростопчин вскинул брови.
– Боюсь, моя угроза обернулась не шуткой. Похоже, его действительно кто-то ударил.
– Но кто?
Я пожал плечами.
– Ведь я намекал вам, что я человек не простой. Кое-какие, даже шутливые мои предсказания могут сбываться. Особенно если дело касается меня и моей личной свободы. Ведь Фальковский уверял, что я под арестом, хоть и условным.
– Ну! – Ростопчин взмахнул рукой. – Это он перестарался. Послушайте, давайте-ка сядем на тот диванчик.
Мы отошли в глубь зала.
– Дорогой мой, – заговорил Ростопчин. – Я ведь и сам понял, что вы человек не простой. Утром я только почувствовал это, но вот прошел день, и я уверен. Я сопоставил факты и решил, что обыкновенный человек вряд ли мог знать все, что вы мне рассказали. Депешу от Кутузова я получил именно с полковником Федоровым и как раз в то время, как вы сказали. И Платов заезжал, необыкновенное дело, что он в Москве. Что же касается Фальковского, то я вызвал его только потому, что не хотел терять вас из виду.
Он взял меня за руку.
– Фальковский мой лучший офицер. Я считал его способным раскрыть любое дело. Вашей странной биографией занимался он. Как только я почувствовал за вами силу, сразу решил звать Фальковского. Я сказал себе: пусть они сойдутся. Кто кого, понимаете? У Фальковского мертвая хватка, другой бы от него не ушел. Так вот я подумал, если вам удастся вырваться, то вы станете важным для меня человеком.
– Что значит важным человеком? В каком смысле?
– Ах, это не просто растолковать.
– Но я бы мог легко исчезнуть.
– Но вы не исчезли! Вы передо мной, значит, я вам нужен. Бог с ним, с Фальковским. Быть может, вы его отправили на тот свет, но я вам прощаю. Послушайте, с кем, как не со мной, вы развернете свои способности? И с кем, как не с вами, я сумею добиться своего! Я как в пустыне, милый, как в пустыне! Мне не на кого опереться.
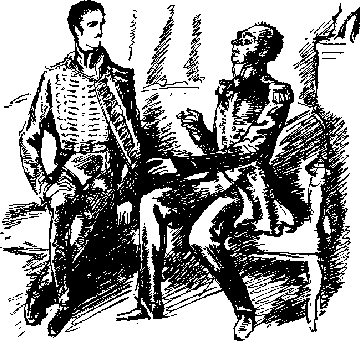
– Смотрите, вон перед вами цвет государства, хилые старцы, способные только шушукаться между собой. Вон тот – губернатор Обрезков, он только в карты играет и спит. Рядом вице-губернатор Арсеньев, по прозвищу «тесто», отпетый пьяница. Вон генерал-полицмейстер Ивашкин, нюня и трус, под каблуком у жены, какой из него полицейский? Предводитель дворянства дурак и обжора, архиепископ простой бабник. А прочие, прочие! Вон Трубецкой-пустослов, его не иначе как «тарара» кличут. Вон «алмазное видение» Голицын, ему только бы бриллианты носить. Вон «зефир» Раевский, его ветер, как бумагу, носит… Ах, батенька! У меня триста полицейских офицеров в Москве, из них стоящий один Фальковский. В Петербурге то же самое, а по всей России еще хуже!
– Что же вы хотите? – спросил я.
– Чего я хочу? Ах, дорогой… Для себя ничего, ровным счетом ничего! Я хочу сильной России, России, которая свернет шею этому Бонапарту!
– Но и другие того же хотят. Разве государь…
– Он слишком мягок, – перебил меня Ростопчин. – Он слишком добр.
– Но может быть, народ одолеет французов?
– Народ? Это будет ужасно. Народ – это бунт. Топоры, вилы, косы. Мы все будем болтаться в петле вместе с Бонапартом.
– Уж не хотите ли вы сами оказаться победителем?
– А почему бы и нет? – Ростопчин пожал плечами. – Превратить Москву в цитадель, встать во главе народного гнева.
– Вы же сами боитесь бунта.
– Бунт – это стихия. Если взять его в руки – это уже народная война.
– И вы во главе?
– А почему бы и нет? – Ростопчин снова пожал плечами. – Опрокинуть неприятеля, гнать за границу, освободить Европу. Разве плохие помыслы?
– А как посмотрит на это государь?
– Он будет аплодировать мне из Петербурга.
Шутит он или говорит серьезно, трудно было понять. Или он прекрасный актер или действительно сумасшедший.
– Чем же я могу вам помочь? – спросил я.
– Не вы один. Вы станете членом моего легиона. Одно ваше появление указывает, что такие люди есть. Я разыщу их и создам когорту стремительных и неотразимых. Они сметут передо мной все преграды! Дорогой мой, – он заговорил торопливо, – у меня есть кое-кто на примете, но это так, кулаки, а мне нужно умов.
– Вы полагаете, я соглашусь?
– Подумайте. Вы человек без биографии, без прошлого. Вы странствующий талант, созданный для действия и пропадающий втуне. Со мной вы обретете цель и свернете горы. Таких много, но они рассеяны по свету. Я найду и соберу их, я дам им девиз: per aspera ad astra – через тернии к звездам!
«Это похоже на заговор», – подумал я и сказал:
– Ваши слова можно понять как приглашение на службу?
– Не службу, дорогой мой! Приглашение к сотовариществу!
– Отвечать надо сейчас?
– Подумайте, но я не сомневаюсь, что вы согласитесь.
– А если нет?
– Не говорите так, не говорите. Вы первый человек, подходящий для легиона, о котором давно мечтаю.
– А штабс-капитан Фальковский?
– Что вы все о Фальковском! Сначала пусть он объявится.
– Я все еще под условным арестом?
– Какая чепуха! Вы вольны, но вы придете ко мне, я знаю! Или ты приставишь ко мне агента, подумал я. Скорее всего так и будет. И несдобровать мне, если стану уклоняться от продолжения разговора.
– Простите, – сказал Ростопчин. – Наша беседа уже интригует столпов общества. Я вас покидаю, но жду с надеждой. В любое время в моем особняке.
– Если все это не шутки, – сказал я.
– А хоть бы и шутки. – Ростопчин улыбнулся и вскинул брови. – Отчего же не пошутить с замечательным человеком? Но я вас жду, как условились. Там уже серьезно поговорим.
Он отошел. На нас действительно уже поглядывали. Я направился к выходу.
Маленькая собачонка белым комом влетела в зал и понеслась с лаем кругами. Никто не обращал на нее внимания. Собачка подскочила к лакею, который стоял около стариков с подносом, запрыгала, завертелась, запуталась у него в ногах.
Поднос в руках лакея дрогнул, звякнули и сдвинулись бокалы.
– Что это ты трясешься, любезный? – строго сказал один из «столпов».
– Да уж Фиделька больно кусает, ваше сиятельство.
Белый пушистый Фиделька хватал лакея за ноги в своей собачьей игре, взвизгивал, грозно рычал.
– Эка невидаль – Фиделька кусает! – сказал «столп». – У меня полк под ядрами смирно стоял, а ты собачонки трясешься.
– Виноват-с, – сказал лакей с несчастным, дергающимся лицом.
Фиделька с рычанием, уже остервенело рвал его белые чулки.
Я вышел из зала и чуть не столкнулся с девушкой, со смехом бежавшей из боковой комнаты. За ней, поскользнувшись на паркете, выскочил юноша. Он еле удержался на ногах, тряхнул рыжеватой растрепанной головой, блеснул очками, улыбнулся и побежал дальше, оставив впечатление чего-то знакомого. В зеленой гостиной стояли хохот и крик.
– Этот фант Вяземского! Где Вяземский?
– Вяземский исчез!
– Он с Жюли, у них давно вышел фант целоваться!
– Целоваться! У него жена в Калуге!
– А это Александр Македонский! – закричали на меня.
– Македонский, хотите вина?
– Так где же ваш меч?
– Давайте ему фант!
– Надоело в фанты! Никто не исполняет!
Разгоряченные лица, улыбки, смех. Атмосфера бесшабашного, чуть ли не лихорадочного веселья. Всегда ли у них так?
– Друзья! – закричал адъютант Ванечка. – Давайте играть в скромные желания!
– Это как? Объясните!
– Вы называете скромное желание, пишете на фантах. Потом мешаем и тащим фанты. Кто вытащил свое желание, тому и сбудется. Кто нет, записывает снова свое желание рядом с другим, опять мешаем и тащим!
– А потом?
– Сначала надо записать желания! У кого карандаш?
– У Салтыкова почерк хороший, пускай записывает!
– А желание обязательно скромное?
– Какое угодно, только лучше пишите скромное, а то никогда не сбудется!
– Налейте Македонскому вина, штрафную!
Меня заставили выпить большой бокал крепкого сладкого вина. Голова пошла кругом.
– Кто там первый? Начинаем! Ванечка, твое желание! Говори быстрее!
– Мое скромное желание стать флигель-адъютантом, – сказал Ванечка.
– Неплохо! Куда хватил! – закричали все.
– Записываю. Следующий!
– Мое скромное желание дожить до ста лет, – сказал улан.
– И это недурно. Дальше.
– Мое скромное желание получить Георгия, – сказал приятель улана.
– А Андрея Первозванного не хочешь?
– Что скажет воспитанник альма матер?
Студент слегка покраснел:
– Да что ж, мне бы хоть доучиться.
– Вот это скромно! – закричали все. – Это уж скромно!
– А у тебя, Анетте?
– Пусть Миша мой вернется с войны с руками и ногами.
– Сибаев? Да у него такие ручищи, такие ножищи, что никакое ядро не отшибет! Что ж тут загадывать? Остальные говорите!
– Мне бы теткино наследство получить!
– Мне в картах удачи!
– У меня секретное! Сама напишу!
– А у меня нету желаний, ей-богу нету! Только нескромные!
– Да подождите вы! Не успеваю писать!
Поднялся гомон. Что-то неладное творилось у меня с головой. Я вышел в соседнюю комнату и прилег на диван. Неужели от вина? Вместе с каким-то скольжением пространства голова была ясна, но странно ясна. Сознание тянуло не то в даль, не то в полудрему.
Шум, смех за стеной. Внезапно внутреннее зрение как бы раздвинулось, все стихло, и передо мной появился адъютант Ванечка. Он был в том же мундире, но с серьезным, осунувшимся лицом.
– Мне не удастся стать флигель-адъютантом, – сказал он.
– Почему? – спросил я, не разжимая губ.
– Я буду убит через три дня в Бородинском бою. Сначала пуля попадет вот сюда, – он показал на плечо, – а потом картечью в грудь. Меня даже не подберут. Три дня осталось жить.
За ним появились улан со своим приятелем.
– Мне оторвет ногу, – сказал улан, – и я буду жить еще несколько лет на иждивении своей сестры воспоминаниями о двенадцатом годе.
– А он, – улан показал на приятеля, – он получил бы Георгия, ну, может, не Георгия, так Владимира. Ведь он отобьет знамя у дивизии Компана, но когда пойдет с этим знаменем на батарею, пуля догонит прямо в затылок. Наповал.
– Да ты не печалься, Алеша. – Он повернулся к приятелю. – Думаешь, доживать, как я, лучше?
– Я не печалюсь, – сказал приятель. – Мать только жалко.
Возник студент с малиновым воротником.
– А он всего только хотел доучиться, – сказал улан. – И то не выйдет. Легкое будет прострелено. Только и станет, что болеть да кашлять. Высохнет совсем… Тебя-то зачем в Бородино потянуло? – спросил он студента.
– Многие из университета пошли, – ответил тот, снова краснея. – Мы раненых выносили.
– Учились бы лучше, чем воевать, – буркнул улан.
– А остальные? – спросил я.
– Что остальные! Вот Анетте загадала, чтоб Миша Сибаев вернулся неискалеченный. Так его уж и на свете нет. Он вчера в арьергардном бою под саблю попал. Только известие еще не дошло… Кому-то, может, и повезет. Только, я думаю, во многих семьях этот год метку оставит…
– Берестов! – кричали за стеной. – Македонский! Куда подевался? Один не сказал скромного желания!
Я вскочил с мокрым холодным лбом. Что это было? Галлюцинация или прозрение?
– Македонский! – кричали из гостиной. – Идите сюда, хватит спать!
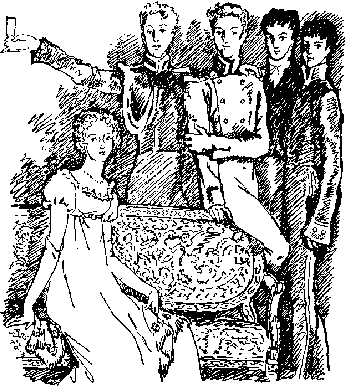
– Ваше скромное желание, поручик!
«Ему осталось жить три дня, – стремительно пронеслось в голове. – И тому, и этому тоже».
– Так что же, какое у вас желание?
– Мое скромное желание, – сказал я, – увидеть всех вас еще раз в добром здравии и хорошем настроении.
– Браво! – закричали они. – Самое скромное!
Я вышел из дома. Какая драма, какая драма надвигается на страну!
