– Ах, Петрушенька, все живой, однако! – воскликнул вдруг кто-то с ласковым удивлением и тут же закричал яростно: – Куда прешь? Объезжай! Вертай, говорю, колесья!
– Чего? Нешто спятил, Фролов? Чего разорался? – сердито сказали солдаты, толкавшие пушку.
– Вертай, говорю! Не видишь – цветок?
– И чего цветок? Пропускай орудье!
– А то, что живой! С утра невредимый. Раскрой, дура, глаза!
Солдаты, толкавшие пушку, остановились.
– Глянь, правда живой. Живая, братцы, растенья.
– Ишь, рученьки растопырил, красуется.
– И как уцелел? Лютик не лютик…
– Лютик, сказал! Это копытка.
– Врешь, не копытка! Копытка весной играет. Шептуха это, верное слово. В четыре лепесточка, смотри.
– Нет, не шептуха. Запах сурьезней…
Солдаты толпились, разглядывали, нюхали. Среди черной, изрытой земли, среди обломков и мертвых тел стоял как ни в чем не бывало полевой цветок. Его желтые лепестки светили свежо и радостно.
– С самого утра фертом! – радовался солдат. – Ах ты Петруша! Я загадал: коль он уцелеет, то и мне будет вторая жизня.
Солдаты смеялись.
– Не глупствуй, Фролов. Цветок себе за икону выбрал.
– А ты объезжай! Давай стороной колесьями. Петрушу помнешь!
– Хо-хо! – гоготали солдаты. – Петруша! Ладно, обкрутим. Пущай твой Петруша живет!
5
6
7
– Чего? Нешто спятил, Фролов? Чего разорался? – сердито сказали солдаты, толкавшие пушку.
– Вертай, говорю! Не видишь – цветок?
– И чего цветок? Пропускай орудье!
– А то, что живой! С утра невредимый. Раскрой, дура, глаза!
Солдаты, толкавшие пушку, остановились.
– Глянь, правда живой. Живая, братцы, растенья.
– Ишь, рученьки растопырил, красуется.
– И как уцелел? Лютик не лютик…
– Лютик, сказал! Это копытка.
– Врешь, не копытка! Копытка весной играет. Шептуха это, верное слово. В четыре лепесточка, смотри.
– Нет, не шептуха. Запах сурьезней…
Солдаты толпились, разглядывали, нюхали. Среди черной, изрытой земли, среди обломков и мертвых тел стоял как ни в чем не бывало полевой цветок. Его желтые лепестки светили свежо и радостно.
– С самого утра фертом! – радовался солдат. – Ах ты Петруша! Я загадал: коль он уцелеет, то и мне будет вторая жизня.
Солдаты смеялись.
– Не глупствуй, Фролов. Цветок себе за икону выбрал.
– А ты объезжай! Давай стороной колесьями. Петрушу помнешь!
– Хо-хо! – гоготали солдаты. – Петруша! Ладно, обкрутим. Пущай твой Петруша живет!
5
Под руки провели исколотого французского генерала. Это был Бонами, командир бригады, первой ворвавшейся на батарею, но оставшейся там навсегда. Из-под залитого кровью лба страдальчески блеснули темные глаза.
 Лихие французские генералы любили ходить впереди атак, они не страшились смерти. В Бородино сорок девять из них получили раны, девять смертельные. Но плен для французского генерала, привыкшего к славе, был тяжек.
Лихие французские генералы любили ходить впереди атак, они не страшились смерти. В Бородино сорок девять из них получили раны, девять смертельные. Но плен для французского генерала, привыкшего к славе, был тяжек.
Подъехал Листов. Он совсем ослабел. Кровь из плеча не унималась, хотя я неловко намотал бинты и тряпки. Артиллеристы дали ему приблудную лошадь под французским седлом, и мы поехали на перевязочный пункт.
На флешах французы начинали шестую атаку. Четыре сотни орудий обмолачивали позицию, чтобы подготовить еще один натиск двадцати тысяч пехоты и кавалерии. Русских на флешах вдвое, а то и втрое меньше.
– У нас как в каменоломне, – говорил офицер, – французы метр прорубают, а тут же обвал – и каменщиков нету. Снова долбежка. Левее тоже горячее дело. Французы отбросили наших с Утицкого кургана, но ненадолго. Сейчас подойдут подкрепления второго пехотного корпуса. Тучков-старший поведет их в контратаку и будет смертельно ранен на отвоеванной высоте.
Его понесут на плаще по склону, а подскакавший адъютант скажет, что убит его младший брат Александр.
Как много братьев сражалось в Бородинском бою, как много пало. Тучковы погибли оба, из четверых. Орловых двое убито, двое тяжело ранено. Убиты Валуевы, ранены Муравьевы, Норовы, Щербинины… Да что там, каждый второй офицер воевал рядом с братом, отцом или сыном. Кажется, вся Россия семьями ушла из домов, чтобы загородить дорогу французам.
Сражение клонится к полудню. Русские стоят, французы кидаются в бесконечные атаки. Сейчас по приказу Кутузова казаки Платова и кавалеристы Уварова обходят неприятеля, чтобы «подергать» его левый фланг. Войск немного, кроме дерзких наскоков, они ничем не могут грозить корпусу Богарне. Платов не решится атаковать, он только покажет издали лес пик, но так испугает французов, что сам Наполеон оставит центр и поедет на левый фланг вместе с большой группой войск, так нужных ему в центре.
Мы проехали вторую линию войск, потом резервы. Тут было потише, но вовсе не безопасно. Ядра тяжелых пушек залетали роями, ломали строй батальонов, валили лошадей, взрывали пороховые ящики. Отсюда все рвались в бой, пляска чугунных шаров над головой, бессилие предугадать их зловещий полет рождали чувство мучительной беспомощности.
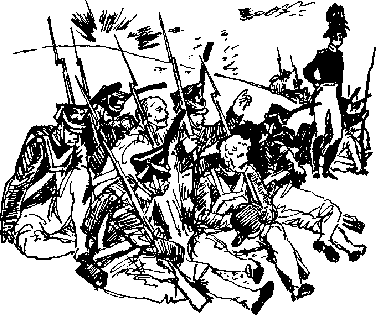 Какой-то драгунский полк с обнаженными палашами стоял во фронт и вовсе не походил на полк, от него осталось меньше батальона. Один командир заставил своих пехотинцев сидеть, но это не много меняло, ядра на излете все равно косили людей.
Какой-то драгунский полк с обнаженными палашами стоял во фронт и вовсе не походил на полк, от него осталось меньше батальона. Один командир заставил своих пехотинцев сидеть, но это не много меняло, ядра на излете все равно косили людей.
Солдаты слушали звуки летящего металла и обсуждали:
– Холодная пошла!
– Нет, вареная.
– Всмятку! Чичас брызнет!
«Холодная» – это ядро, безразличный чугунный шар. Я видел, как неопытный новобранец попробовал оттолкнуть ногой катящуюся мимо «холодную». Ему оторвало носок, бешено вращающееся ядро не терпит прикосновений. Если оно пролетит мимо достаточно близко, то вас «причешет» – контузит воздушной волной.
«Вареная» – бомба или граната. Она разрывается с визгом, обдавая смертельным железом. Как только ее не называют – «чиненка», «пузырь» и даже «одуванчик». Она разрывается в воздухе или на земле, смотря по тому, когда догорит запальная трубка.
Еще есть картечь – «горох», «пшено». Но сюда картечь не долетает. Зато в первых рядах картечь, пожалуй, самый страшный снаряд. Она может скосить сразу десяток.
Весь пятый гвардейский корпус еще не участвовал в деле. Преображенцы, семеновцы, измайловцы стояли сумрачными рядами, глядя на дымную панораму впереди. Перед полками расхаживали командиры. Стояли кавалергарды, лейб-кирасиры, гвардейские драгуны. Все на подбор рослые, в сверкающих касках, в красивых мундирах.
– Будет еще французам работка, – сказал Листов.
В низине у небольшого леска поставлены палатки лазарета. Здесь протекает небольшой ручеек. Сначала я подумал, что он ржавый, как это бывает с лесной водой, потом увидел, что густо-красный от крови. В бурых маслянистых пятнах была и земля, кровь из отрезанных рук и ног, разбитых голов, изуродованных тел не давала ей просохнуть.
Негромкий стон, беспрерывный, тяжелый, заполнил низину. Солдаты сидели, лежали, все окровавленные, перебинтованные, некоторые уже мертвые, а ручей все тек и тек, унося поток человеческой крови.
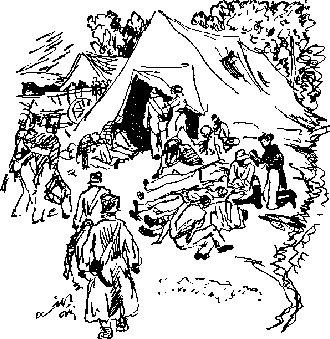 Лекари не успевали, вереницы раненых дожидались у отвернутого края палатки. Листов не пошел, как другие офицеры, без очереди, а только взял корпии, спирта, бинтов и снял мундир. Как мог, я промыл ему рану и туго забинтовал.
Лекари не успевали, вереницы раненых дожидались у отвернутого края палатки. Листов не пошел, как другие офицеры, без очереди, а только взял корпии, спирта, бинтов и снял мундир. Как мог, я промыл ему рану и туго забинтовал.
Рядом какой-то пехотный офицер тоже пытался перевязать себя сам. Я помог и ему. Офицер поблагодарил.
– Эх, господа, разве мы так сумеем? Вот женские руки – они как бальзам: и бинтуют и боль успокаивают одновременно.
– Женщину тут за десяток верст не найдешь, – сказал Листов.
– У нас в Нижегородском полку при лазаретной повозке была одна. Прелесть девушка! И сейчас где-то здесь, врачует. Жаль, что не к ней попал. Да что, господа! – Офицер махнул рукой. – Об этом подумаешь, сразу жить хочется… Однако я в бой, прощайте…
Мы поехали в сторону Семеновского оврага и увидели нескольких солдат, стиснутых драгунами. Солдаты что-то кричали и показывали на лазарет. Рядом гарцевал офицер на сером коне.
– Полицейская линия, – мрачно сказал Листов.
– Ваше благородие! – кричали солдаты. – Ваше благородие, прикажите! Страженья идет, а нас держат!
Солдаты стояли без оружия. Драгуны с палашами наголо молча напирали на них лошадьми.
– Убери селедку, чего тычешь! – кричали солдаты. – Шел бы под ядра, тетеря!
Листов поехал не оглядываясь.
– Под ядра, понял, тетеря! – кричал солдат. – И твой начальник пущай откушает! А то хороши здесь, вороны!
Офицер вдруг подъехал и что-то сказал драгунам. Те слезли с лошадей, схватили кричавшего солдата и стали валить его наземь.
– Братцы! – закричал тот. – Как так? Меня шомполами? За что? Я рану имею, братцы! Егерского полка рядовой Максимов! Страженья идет! Как же, братцы!..
Листов внезапно резко повернул коня и подъехал.
– Что тут у вас происходит? – крикнул он звонким и злым голосом.
– Не извольте беспокоиться, ротмистр, – сказал офицер, холодно поглядев на Листова.
Это был Фальковский.
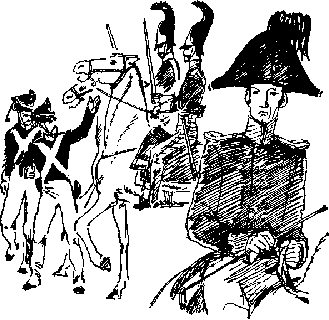 – Что все-таки происходит? – настойчиво повторил Листов.
– Что все-таки происходит? – настойчиво повторил Листов.
– Вы сами должны понять, что происходит, – ответил Фальковский. Он посмотрел на меня и усмехнулся. – Я имею приказ задерживать дезертиров, покидающих поле сражения.
– Какие там дизентиры! – кричали солдаты. – Враки, обман! Мы раненых отводили. Вон лазарет, вон он! Спроси кого хошь! Я Петрова нес, у него нога перебита!
– А я двоих сразу тащил!
– У меня пули вышли, за припасами послан!
– Разберись, ваше благородие!
– Я имею приказ, – сухо повторил Фальковский. – Вам ли, ротмистр, не знать, что без нашей линии пол-армии разбежится. Поезжайте своей дорогой… Продолжайте, – сказал он драгунам. – Дайте ему фухтелей. В другое время на каторгу пошел бы за оскорбление.
Драгуны снова схватили солдата.
– Прекратить! – вдруг закричал Листов высоким голосом.
Драгуны остановились.
– В чем дело? – Голубые глаза Фальковского похолодели. – С кем имею честь?
– Ротмистр Листов, адъютант второй армии! От имени командующего требую освободить людей и отправить на передовую!
– Требуете? – Фальковский прищурился. – Отчего же вы требуете? Эти люди арестованы как дезертиры и предстанут перед судом. А вы, ротмистр, еще ответите за свои действия. Или вам не известен приказ самого светлейшего?
Листов дал шпоры коню и подскакал к драгунам.
– Братцы! – закричал он. – Драгуны! Какого полка?
– Ингерманландского, – ответил кто-то.
– Первого корпуса? Я войсковой адъютант первой армии! От имени командующего приказываю пропустить солдат на позиции! Братцы, людей не хватает! Судить да рядить будем потом! Палаши в ножны, ребята! Не здесь ими махать, расступись!
– И то. – Драгуны охотно попрятали палаши и отъехали.
– А вы, – сказал Листов солдатам, – кто еще на ногах стоит, давайте в полки. Ведь еле стоим. Давайте, давайте, ребята!
Солдаты с радостным гулом поднимали ружья.
– Верно, ваше благородие, спаси тя бог. Это из наших, боевой. А то – фухтелями. Еще повоюем. Земля пока держит.
Подъехал Фальковский и ледяным тоном сказал:
– За бунт вы ответите.
– Капитан, – сказал сквозь зубы Листов. – Я не уверен, что ваше мужество распространяется дальше полицейской линии.
– Вы полагаете, я струшу на передовой? – насмешливо спросил Фальковский.
– В таком случае, пожалуйте на передовую.
– Вы лично меня приглашаете?
– А хоть бы и я.
– Для какой цели?
– Мало ли что можно делать на передовой. – Листов принял иронический тон: – Например, отобедаем вместе. Время сейчас как будто к обеду.
– Вы хотите со мной отобедать?
– А что? Приятно отобедать с таким серьезным, исполнительным офицером. А заодно обсудить значение полицейской линии.
– Именно в связи с ее значением я не могу оставить пост, – сказал Фальковский. – А после боя я к вашим услугам.
– После боя! – Листов усмехнулся. – Вы полагаете, у нас равные шансы уцелеть? Нет, капитан, вы, как я вижу, не такой уж храбрец.
– Хорошо, – мрачно сказал Фальковский. – Я постараюсь освободиться на время. В котором часу и где вы собираетесь устроить свой показательный обед?
– Мой показательный обед, – Листов достал часы и взглянул, – будет дан через час… скажем, на центральной батарее.
– А рапорт на вас я все-таки напишу, – сказал Фальковский. – Вы попадете под суд не после обеда, так после ужина.
– Отлично, – сказал Листов. – Так я вас жду.
– Что вы затеяли? – спросил я, когда мы отъехали. – Что еще за обед?
– Так, фантазия. – Он засмеялся и тут же рассказал, как отвозил пакет Милорадовичу.
Милорадович спросил, как Барклай. Листов ответил, что ездит в самых опасных местах, под ядрами. Милорадович тут же кликнул вестового и велел подать себе завтрак на самом видном месте, прямо под носом у французских батарей. Сидит грызет курицу и приговаривает: «Мы Барклая не хуже. Где он красуется, там мы обедаем». Кругом ядра свищут, а он курицу ест.
– Уж коли полный генерал на такое мальчишество способен, – смеялся Листов, – то и мне пошутить не грех.
– Думаете, Фальковский приедет?
– Не думаю. – Листов махнул рукой. – Но после боя я все-таки его разыщу. Уж больно заносчивый служака.
– Не трудно его разыскать, – сказал я. – Он вас быстрей разыщет. Фальковский лучший полицейский офицер Ростопчина. Он ездил со мной в Воронцово.
– Вот как? – сказал Листов.
Тут же он остановил лошадь, и на лице его появилось удивление.
– Батюшки! – воскликнул он. – Доктор Шмидт!

Подъехал Листов. Он совсем ослабел. Кровь из плеча не унималась, хотя я неловко намотал бинты и тряпки. Артиллеристы дали ему приблудную лошадь под французским седлом, и мы поехали на перевязочный пункт.
На флешах французы начинали шестую атаку. Четыре сотни орудий обмолачивали позицию, чтобы подготовить еще один натиск двадцати тысяч пехоты и кавалерии. Русских на флешах вдвое, а то и втрое меньше.
– У нас как в каменоломне, – говорил офицер, – французы метр прорубают, а тут же обвал – и каменщиков нету. Снова долбежка. Левее тоже горячее дело. Французы отбросили наших с Утицкого кургана, но ненадолго. Сейчас подойдут подкрепления второго пехотного корпуса. Тучков-старший поведет их в контратаку и будет смертельно ранен на отвоеванной высоте.
Его понесут на плаще по склону, а подскакавший адъютант скажет, что убит его младший брат Александр.
Как много братьев сражалось в Бородинском бою, как много пало. Тучковы погибли оба, из четверых. Орловых двое убито, двое тяжело ранено. Убиты Валуевы, ранены Муравьевы, Норовы, Щербинины… Да что там, каждый второй офицер воевал рядом с братом, отцом или сыном. Кажется, вся Россия семьями ушла из домов, чтобы загородить дорогу французам.
Сражение клонится к полудню. Русские стоят, французы кидаются в бесконечные атаки. Сейчас по приказу Кутузова казаки Платова и кавалеристы Уварова обходят неприятеля, чтобы «подергать» его левый фланг. Войск немного, кроме дерзких наскоков, они ничем не могут грозить корпусу Богарне. Платов не решится атаковать, он только покажет издали лес пик, но так испугает французов, что сам Наполеон оставит центр и поедет на левый фланг вместе с большой группой войск, так нужных ему в центре.
Мы проехали вторую линию войск, потом резервы. Тут было потише, но вовсе не безопасно. Ядра тяжелых пушек залетали роями, ломали строй батальонов, валили лошадей, взрывали пороховые ящики. Отсюда все рвались в бой, пляска чугунных шаров над головой, бессилие предугадать их зловещий полет рождали чувство мучительной беспомощности.
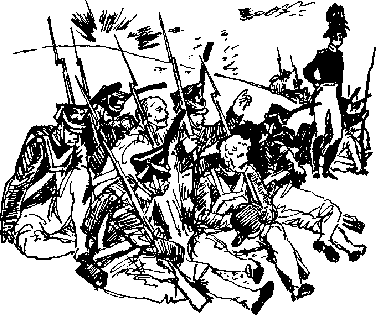
Солдаты слушали звуки летящего металла и обсуждали:
– Холодная пошла!
– Нет, вареная.
– Всмятку! Чичас брызнет!
«Холодная» – это ядро, безразличный чугунный шар. Я видел, как неопытный новобранец попробовал оттолкнуть ногой катящуюся мимо «холодную». Ему оторвало носок, бешено вращающееся ядро не терпит прикосновений. Если оно пролетит мимо достаточно близко, то вас «причешет» – контузит воздушной волной.
«Вареная» – бомба или граната. Она разрывается с визгом, обдавая смертельным железом. Как только ее не называют – «чиненка», «пузырь» и даже «одуванчик». Она разрывается в воздухе или на земле, смотря по тому, когда догорит запальная трубка.
Еще есть картечь – «горох», «пшено». Но сюда картечь не долетает. Зато в первых рядах картечь, пожалуй, самый страшный снаряд. Она может скосить сразу десяток.
Весь пятый гвардейский корпус еще не участвовал в деле. Преображенцы, семеновцы, измайловцы стояли сумрачными рядами, глядя на дымную панораму впереди. Перед полками расхаживали командиры. Стояли кавалергарды, лейб-кирасиры, гвардейские драгуны. Все на подбор рослые, в сверкающих касках, в красивых мундирах.
– Будет еще французам работка, – сказал Листов.
В низине у небольшого леска поставлены палатки лазарета. Здесь протекает небольшой ручеек. Сначала я подумал, что он ржавый, как это бывает с лесной водой, потом увидел, что густо-красный от крови. В бурых маслянистых пятнах была и земля, кровь из отрезанных рук и ног, разбитых голов, изуродованных тел не давала ей просохнуть.
Негромкий стон, беспрерывный, тяжелый, заполнил низину. Солдаты сидели, лежали, все окровавленные, перебинтованные, некоторые уже мертвые, а ручей все тек и тек, унося поток человеческой крови.
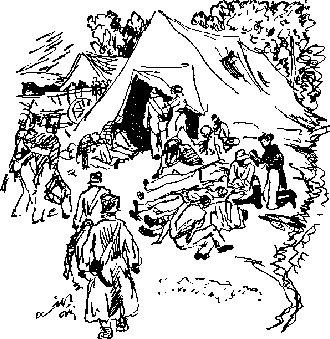
Рядом какой-то пехотный офицер тоже пытался перевязать себя сам. Я помог и ему. Офицер поблагодарил.
– Эх, господа, разве мы так сумеем? Вот женские руки – они как бальзам: и бинтуют и боль успокаивают одновременно.
– Женщину тут за десяток верст не найдешь, – сказал Листов.
– У нас в Нижегородском полку при лазаретной повозке была одна. Прелесть девушка! И сейчас где-то здесь, врачует. Жаль, что не к ней попал. Да что, господа! – Офицер махнул рукой. – Об этом подумаешь, сразу жить хочется… Однако я в бой, прощайте…
Мы поехали в сторону Семеновского оврага и увидели нескольких солдат, стиснутых драгунами. Солдаты что-то кричали и показывали на лазарет. Рядом гарцевал офицер на сером коне.
– Полицейская линия, – мрачно сказал Листов.
– Ваше благородие! – кричали солдаты. – Ваше благородие, прикажите! Страженья идет, а нас держат!
Солдаты стояли без оружия. Драгуны с палашами наголо молча напирали на них лошадьми.
– Убери селедку, чего тычешь! – кричали солдаты. – Шел бы под ядра, тетеря!
Листов поехал не оглядываясь.
– Под ядра, понял, тетеря! – кричал солдат. – И твой начальник пущай откушает! А то хороши здесь, вороны!
Офицер вдруг подъехал и что-то сказал драгунам. Те слезли с лошадей, схватили кричавшего солдата и стали валить его наземь.
– Братцы! – закричал тот. – Как так? Меня шомполами? За что? Я рану имею, братцы! Егерского полка рядовой Максимов! Страженья идет! Как же, братцы!..
Листов внезапно резко повернул коня и подъехал.
– Что тут у вас происходит? – крикнул он звонким и злым голосом.
– Не извольте беспокоиться, ротмистр, – сказал офицер, холодно поглядев на Листова.
Это был Фальковский.
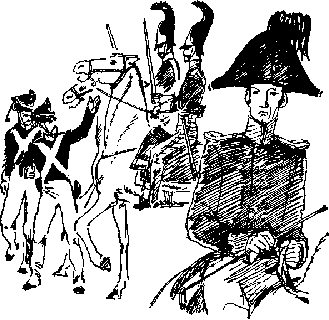
– Вы сами должны понять, что происходит, – ответил Фальковский. Он посмотрел на меня и усмехнулся. – Я имею приказ задерживать дезертиров, покидающих поле сражения.
– Какие там дизентиры! – кричали солдаты. – Враки, обман! Мы раненых отводили. Вон лазарет, вон он! Спроси кого хошь! Я Петрова нес, у него нога перебита!
– А я двоих сразу тащил!
– У меня пули вышли, за припасами послан!
– Разберись, ваше благородие!
– Я имею приказ, – сухо повторил Фальковский. – Вам ли, ротмистр, не знать, что без нашей линии пол-армии разбежится. Поезжайте своей дорогой… Продолжайте, – сказал он драгунам. – Дайте ему фухтелей. В другое время на каторгу пошел бы за оскорбление.
Драгуны снова схватили солдата.
– Прекратить! – вдруг закричал Листов высоким голосом.
Драгуны остановились.
– В чем дело? – Голубые глаза Фальковского похолодели. – С кем имею честь?
– Ротмистр Листов, адъютант второй армии! От имени командующего требую освободить людей и отправить на передовую!
– Требуете? – Фальковский прищурился. – Отчего же вы требуете? Эти люди арестованы как дезертиры и предстанут перед судом. А вы, ротмистр, еще ответите за свои действия. Или вам не известен приказ самого светлейшего?
Листов дал шпоры коню и подскакал к драгунам.
– Братцы! – закричал он. – Драгуны! Какого полка?
– Ингерманландского, – ответил кто-то.
– Первого корпуса? Я войсковой адъютант первой армии! От имени командующего приказываю пропустить солдат на позиции! Братцы, людей не хватает! Судить да рядить будем потом! Палаши в ножны, ребята! Не здесь ими махать, расступись!
– И то. – Драгуны охотно попрятали палаши и отъехали.
– А вы, – сказал Листов солдатам, – кто еще на ногах стоит, давайте в полки. Ведь еле стоим. Давайте, давайте, ребята!
Солдаты с радостным гулом поднимали ружья.
– Верно, ваше благородие, спаси тя бог. Это из наших, боевой. А то – фухтелями. Еще повоюем. Земля пока держит.
Подъехал Фальковский и ледяным тоном сказал:
– За бунт вы ответите.
– Капитан, – сказал сквозь зубы Листов. – Я не уверен, что ваше мужество распространяется дальше полицейской линии.
– Вы полагаете, я струшу на передовой? – насмешливо спросил Фальковский.
– В таком случае, пожалуйте на передовую.
– Вы лично меня приглашаете?
– А хоть бы и я.
– Для какой цели?
– Мало ли что можно делать на передовой. – Листов принял иронический тон: – Например, отобедаем вместе. Время сейчас как будто к обеду.
– Вы хотите со мной отобедать?
– А что? Приятно отобедать с таким серьезным, исполнительным офицером. А заодно обсудить значение полицейской линии.
– Именно в связи с ее значением я не могу оставить пост, – сказал Фальковский. – А после боя я к вашим услугам.
– После боя! – Листов усмехнулся. – Вы полагаете, у нас равные шансы уцелеть? Нет, капитан, вы, как я вижу, не такой уж храбрец.
– Хорошо, – мрачно сказал Фальковский. – Я постараюсь освободиться на время. В котором часу и где вы собираетесь устроить свой показательный обед?
– Мой показательный обед, – Листов достал часы и взглянул, – будет дан через час… скажем, на центральной батарее.
– А рапорт на вас я все-таки напишу, – сказал Фальковский. – Вы попадете под суд не после обеда, так после ужина.
– Отлично, – сказал Листов. – Так я вас жду.
– Что вы затеяли? – спросил я, когда мы отъехали. – Что еще за обед?
– Так, фантазия. – Он засмеялся и тут же рассказал, как отвозил пакет Милорадовичу.
Милорадович спросил, как Барклай. Листов ответил, что ездит в самых опасных местах, под ядрами. Милорадович тут же кликнул вестового и велел подать себе завтрак на самом видном месте, прямо под носом у французских батарей. Сидит грызет курицу и приговаривает: «Мы Барклая не хуже. Где он красуется, там мы обедаем». Кругом ядра свищут, а он курицу ест.
– Уж коли полный генерал на такое мальчишество способен, – смеялся Листов, – то и мне пошутить не грех.
– Думаете, Фальковский приедет?
– Не думаю. – Листов махнул рукой. – Но после боя я все-таки его разыщу. Уж больно заносчивый служака.
– Не трудно его разыскать, – сказал я. – Он вас быстрей разыщет. Фальковский лучший полицейский офицер Ростопчина. Он ездил со мной в Воронцово.
– Вот как? – сказал Листов.
Тут же он остановил лошадь, и на лице его появилось удивление.
– Батюшки! – воскликнул он. – Доктор Шмидт!
6
Оказалось, мы ехали тем леском, на который я час назад показал Лепихину. В нем росло несколько крепких дубовых деревьев, но теперь лес превратился в обгорелый частокол.
 Весь перепачканный, в изодранной одежде, Лепихин сидел посреди каких-то обломков. Рядом валялась убитая лошадь, дымились и тлели на ветках дуба куски желтой тафты.
Весь перепачканный, в изодранной одежде, Лепихин сидел посреди каких-то обломков. Рядом валялась убитая лошадь, дымились и тлели на ветках дуба куски желтой тафты.
Лепихин не обратил на нас никакого внимания, даже не повернул головы.
– Ouelle rencontre! – крикнул ему Листов. – Quel bon vent vous amène, docteur? (Вот так встреча! Как вы здесь оказались, доктор? (франц.))
– А, бросьте! – сказал Лепихин. – Говорите по-русски.
– У вас какие-нибудь неполадки?
– В самую середину гранатой, – задумчиво проговорил Лепихин. Он повернулся и посмотрел на Листова: – Где-то я вас видел?
– В отеле «Голубой волк», доктор Шмидт.
– А хватит вам! Доктор Шмидт, доктор Шмидт…
– В таком случае…
– Шмидт, доктор Шмидт, мсье Леппих. К черту!
Листов вопросительно посмотрел на меня.
– В самую середину гранатой, – снова сказал Лепихин. – Горелка рванула, черт побери! Впрочем, она все равно не работала.
– Вы не успели подняться? – спросил я.
– Какой там подняться! Говорю вам, отказала горелка, проклятье! Все в щепки – смотрите. Вам нравится? Вы этого хотели, господин Берестов?
Тут он словно только что нас увидел.
– Черт возьми! Да вы вместе! Каким образом?
– Судьба, – сказал я. – Судьба.
– Ага! Значит, она существует? В таком случае, у меня роковая.
– Я бы не сказал, – заметил Листов. – Из-под гранаты ушли. Да еще взорвалось что-то.
– Горелка, черт бы ее побрал. Еле дышала. Так бы я за два дня не наполнил оболочку. Целую жизнь этот опыт готовил. Что мне теперь остается?
– Готовить другой.
– Резонно, – сказал Лепихин. – Впрочем, вам не понять.
– Что вы теперь намерены делать? – спросил я.
– Пойду битву глядеть. Приборы мои разбиты, так я хоть простым глазом. Где всего жарче, покажите дорогу.
За рощей мы поймали одинокую лошадь. Лепихин взобрался в седло. Я предупредил:
– Фальковский здесь, в полицейской линии.
– А мне что? – Лепихин пожал плечами.
– Вам разрешили уехать из Воронцова?
– Разрешили? – Лепихин усмехнулся. – Надоела комедия.
Мы встретили Вяземского.
– Петя! – крикнул Листов. – Живой? Как там на линии? Горячо?
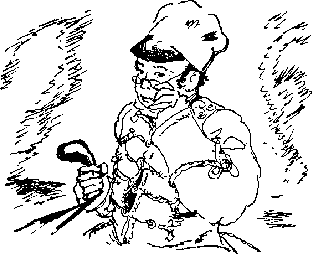 На круглом лице Вяземского, раньше смешливом и оживленном, – недоумение. Разбитые очки бесполезно болтаются на носу. Он щурит глаза, всматривается.
На круглом лице Вяземского, раньше смешливом и оживленном, – недоумение. Разбитые очки бесполезно болтаются на носу. Он щурит глаза, всматривается.
– Ей-богу, не знаю, Паша.
– Чего на одном месте вертишься? – говорит Листов.
– За батареей я послан, а найти не могу. Где тут артиллерийской резерв?
Листов пожимает плечами.
– Как там на флангах и в центре?
– Да разве поймешь? – отчаянно говорит Вяземский. – Каша, вот уж не думал. Такая бойня! Подо мной две лошади пало. Валуев убит, Бибикову руку напрочь.
– Постой, постой. Ваши-то где стоят, Милорадович?
– Да половина стоит, а половину перевели куда-то. Я уж запутался окончательно. К французам чуть не заехал, а вернулся, свои было зарубили.
– Говорил, смени кивер.
– Я сменил. Это Валуева фуражка. А он убит… Так где же резервы?
– Туда! – Листов махнул в сторону Псарева. – Только не послушают. Ты уж прости, Петя, вид у тебя больно невразумительный.
– А!.. – Вяземский махнул рукой и ускакал.
Страшный грохот стоял на флешах. Все небо набухло железной молотьбой. Казалось, вот-вот оно расколется и рухнет на землю.
Я увидел Багратиона. Его несли на плаще четверо солдат. Несли не так, как выносят с поля раненого генерала – торжественно и тихо. Его тащили почти бегом, все тело вскидывалось, и голова болталась из стороны в сторону. Одна нога в белой перепачканной лосине тащилась по земле, другая, вся оплывшая кровью, лежала на плаще неестественно прямо. Солдаты бежали. Они торопились вынести командира из-под огня, но такого места вокруг не было.
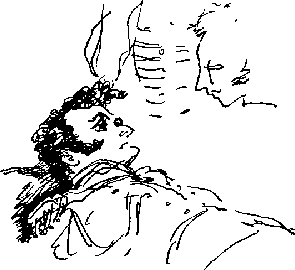 Его положили на землю, подбежали несколько офицеров. Багратион не стонал. Его серое, окаменевшее от боли лицо, маленький сжатый рот, налившиеся чернотой глаза выражали одновременно муку и твердость.
Его положили на землю, подбежали несколько офицеров. Багратион не стонал. Его серое, окаменевшее от боли лицо, маленький сжатый рот, налившиеся чернотой глаза выражали одновременно муку и твердость.
Он сделал движение рукой, как бы разгребая столпившихся офицеров, и те расступились. Кто-то бинтовал ему ногу, кто-то прикладывал мокрую тряпку ко лбу, а он напряженно всматривался в дым сражения и слабым голосом отдавал распоряжения. Листову сказал:
– Справа за деревней скрытое место… хорошо для франкировки… пушки поставь.
– Понял, ваше сиятельство. Последние слова к адъютанту:
– Поезжай к Барклаю… скажи, чтоб простил… Его унесли.
«Поезжай к Барклаю, скажи, чтоб простил». В минуты страшной боли, в минуты предчувствия близкой гибели он посылал эти слова человеку, которого всегда считал неправым и обвинял чуть ли не в измене…
На этот раз флеши не устояли, контратаковать было нечем. Унесен с поля Багратион, солдаты не видят его фигуры на белом коне, нет за спиной свежих колонн. В егерском колпаке с белой кисточкой скачет Коновницын, он собирает перед оврагом рассеянные войска, ставит пушки. Но контратаковать нечем.
Это восьмая атака. Русских осталось вчетверо меньше, чем наступавших французов, но и те выдохлись настолько, что не смогли продолжить атаку, хотя, казалось, ничего не стоит опрокинуть последний русский заслон, ударить во фланг армии Барклая, довершить победу.
Французы выдохлись. Тридцать тысяч остановились перед десятью и принялись закрепляться на флешах.
Тем временем мы неслись вдоль Семеновского оврага туда, где Багратион показал место для фланговой батареи. Несколько пушек уже палили отсюда, какой-то смышленый командир на свой страх и риск поставил полубатарею.
Место удобное, это заметно и невоенному. Маленький овражек с крутыми склонами, похожий на специально вырытый котлован. Возможно, когда-то здесь копали под фундамент большого дома. От овражка заросший кустами обрыв к Семеновскому ручью, а там еще один ручей, текущий в Семеновский со стороны французов. Кусты закрывают батарею, пушки бьют между ними. Отсюда как на ладони открывается схватка за флеши, выбирай любую цель.
– Чья батарея? – крикнул Листов.
– От тридцать третьей легкой! – ответил молодой поручик с перепачканным сажей лицом.
– Где же прикрытие?
– Прикрытия нет, господин ротмистр!
– Так вас на штыки поднимут!
– Пока не заметили!
– Господа, располагайтесь, – сказал Листов. – А я достану хоть батальон. – Он ускакал.
Из шести пушек полубатареи стреляло четыре, не хватало прислуги. Молодой поручик бегал между орудиями, выскакивал из овражка и поправлял прицел. В одном канонире я узнал солдата Фролова с центральной батареи.
– Ну как, Фролов, жив твой Петруша?
– Петруша-то? – Он оглянулся. – Когда уходил, еще красовался. А что, ваше благородие, были на нашем люнете?
– Был, когда отбивали.
– То-то вижу, лицо знакомое. А нас троих сюды перекинули. Теперь без меня Петруша.
– Давай, Фролов, давай! – закричал фейерверкер. – Заряд готовь, чего разговорился?
– А что спешить? – возразил Фролов. – Смотри, там какая дымина. Подождать надо маненько. Зарядов, почитай, полсотни осталось.
– Братцы, и правда! – сказал Лепихин. – Куда вы долбите? Подождите, колонна подтянется, и прямо ей в фас! Как раз полверсты будет!
– А вы не мешайте, – пытаясь быть строгим, сказал молодой поручик. – Вы штатские господа.
– Э, штатские, штатские! – Лепихин стащил разодранный сюртук. – Штатские, а баллистику знаем. Я, брат, пушки сам отливал. Говорю вам, дайте орудию отдохнуть, зря переводите ядра.
– Берестов! – крикнул он мне. – Сыграем расчет? Вон пушка свободна!
Он делал все быстро и ловко. Канониры прекратили стрельбу и смотрели на нас, поручик не возражал. Я помогал как мог. Лепихин орудовал банником, что-то подкручивал. Шестифунтовая медная пушка покорно ждала. Я погладил ствол, он был еще теплый.
– Смотрите на ту кавалькаду, – сказал Лепихин. – Да вон, вон она едет! Пожалуй что, генерал. Давайте пари. Если поедут ровно, через минуту их развалю!
– Эк сказал! – возразил кто-то. – Разве уцелишь? Которая каванкада, энта? Ни в жисть не уцелишь! Кабы картечью да ближе. Нет, не уцелишь…
– А! На что спорим? – крикнул распаленный Лепихин.
– Да хоть на что. На семитку?
– Давай на семитку!
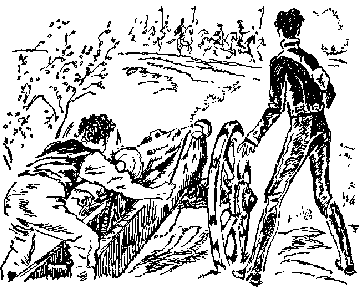 Лепихин стал колдовать с наводкой. Всадники ехали медленным шагом. Волна дыма то набегала на них, то отлетала. Лепихин схватил фитиль. Бух! – пушка грохнула, прыгнула, откатилась.
Лепихин стал колдовать с наводкой. Всадники ехали медленным шагом. Волна дыма то набегала на них, то отлетала. Лепихин схватил фитиль. Бух! – пушка грохнула, прыгнула, откатилась.
– Пошла, – сказал кто-то.
Через несколько секунд едкий дым выстрела рассеялся. Всадники ехали тем же шагом.
– Пропала твоя семитка, – сказал канонир. – Говорил, ни в жисть не уцелишь.
– Пушки у вас черт знает что, – сказал Лепихин. – Какие, к чертям, пушки! Винты разболтаны, дула не чищены! Разве уцелишь?
– Пушки хорошие, – ответили канониры. – Стрелять – это тебе не книжки читать.
– Ладно, посмотрим, – сказал Лепихин. – Сейчас пристреляюсь, увидим тогда, какие книжки. Берестов, давайте заряд!
На нас обратили внимание, когда схватка за флеши кончилась. Французы оказались довольно близко, продольные наши выстрелы стали беспокоить фланг какого-то корпуса. Нас попытались накрыть, но стреляли почти вслепую, ядра сыпали стороной.
Наконец кавалерийская группа направилась в нашу сторону и подскакала довольно близко, мы даже попробовали достать ее картечью. Кавалеристы внезапно разъехались и открыли батарею, уже снятую с передков.
Хитрость оказалась внезапной, но рискованной для французов. Их пушки стреляли с открытого места. Началась дуэль, а через полчаса кончилась тем, что только пять пушек из французских восьми сумели уехать невредимыми. Три вместе с расчетами остались на месте среди убитых лошадей и взорванных ящиков.
У нас положило семь человек и почти всех лошадей. Мы вынесли убитых в кусты, а раненые поковыляли в тылы. Строгого поручика мы положили в стороне умирать. Осколок пробил ему шею. Он безучастно смотрел в небо, и строгое выражение не покидало его лица.
Умирал и Фролов. Он что-то шептал. Я наклонился.
– Запах у него антиресный, – говорил он, закрыв глаза.
Я подумал, что умирающий бредит.
– Запах… – снова проговорил он. – У Петруши. В точь как волосы у моей Алены… Значит, без меня ей там…
Он затих.

Лепихин не обратил на нас никакого внимания, даже не повернул головы.
– Ouelle rencontre! – крикнул ему Листов. – Quel bon vent vous amène, docteur? (Вот так встреча! Как вы здесь оказались, доктор? (франц.))
– А, бросьте! – сказал Лепихин. – Говорите по-русски.
– У вас какие-нибудь неполадки?
– В самую середину гранатой, – задумчиво проговорил Лепихин. Он повернулся и посмотрел на Листова: – Где-то я вас видел?
– В отеле «Голубой волк», доктор Шмидт.
– А хватит вам! Доктор Шмидт, доктор Шмидт…
– В таком случае…
– Шмидт, доктор Шмидт, мсье Леппих. К черту!
Листов вопросительно посмотрел на меня.
– В самую середину гранатой, – снова сказал Лепихин. – Горелка рванула, черт побери! Впрочем, она все равно не работала.
– Вы не успели подняться? – спросил я.
– Какой там подняться! Говорю вам, отказала горелка, проклятье! Все в щепки – смотрите. Вам нравится? Вы этого хотели, господин Берестов?
Тут он словно только что нас увидел.
– Черт возьми! Да вы вместе! Каким образом?
– Судьба, – сказал я. – Судьба.
– Ага! Значит, она существует? В таком случае, у меня роковая.
– Я бы не сказал, – заметил Листов. – Из-под гранаты ушли. Да еще взорвалось что-то.
– Горелка, черт бы ее побрал. Еле дышала. Так бы я за два дня не наполнил оболочку. Целую жизнь этот опыт готовил. Что мне теперь остается?
– Готовить другой.
– Резонно, – сказал Лепихин. – Впрочем, вам не понять.
– Что вы теперь намерены делать? – спросил я.
– Пойду битву глядеть. Приборы мои разбиты, так я хоть простым глазом. Где всего жарче, покажите дорогу.
За рощей мы поймали одинокую лошадь. Лепихин взобрался в седло. Я предупредил:
– Фальковский здесь, в полицейской линии.
– А мне что? – Лепихин пожал плечами.
– Вам разрешили уехать из Воронцова?
– Разрешили? – Лепихин усмехнулся. – Надоела комедия.
Мы встретили Вяземского.
– Петя! – крикнул Листов. – Живой? Как там на линии? Горячо?
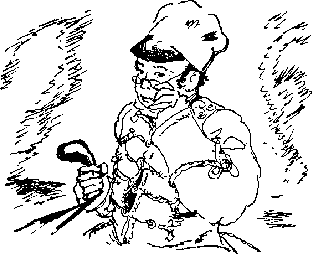
– Ей-богу, не знаю, Паша.
– Чего на одном месте вертишься? – говорит Листов.
– За батареей я послан, а найти не могу. Где тут артиллерийской резерв?
Листов пожимает плечами.
– Как там на флангах и в центре?
– Да разве поймешь? – отчаянно говорит Вяземский. – Каша, вот уж не думал. Такая бойня! Подо мной две лошади пало. Валуев убит, Бибикову руку напрочь.
– Постой, постой. Ваши-то где стоят, Милорадович?
– Да половина стоит, а половину перевели куда-то. Я уж запутался окончательно. К французам чуть не заехал, а вернулся, свои было зарубили.
– Говорил, смени кивер.
– Я сменил. Это Валуева фуражка. А он убит… Так где же резервы?
– Туда! – Листов махнул в сторону Псарева. – Только не послушают. Ты уж прости, Петя, вид у тебя больно невразумительный.
– А!.. – Вяземский махнул рукой и ускакал.
Страшный грохот стоял на флешах. Все небо набухло железной молотьбой. Казалось, вот-вот оно расколется и рухнет на землю.
Я увидел Багратиона. Его несли на плаще четверо солдат. Несли не так, как выносят с поля раненого генерала – торжественно и тихо. Его тащили почти бегом, все тело вскидывалось, и голова болталась из стороны в сторону. Одна нога в белой перепачканной лосине тащилась по земле, другая, вся оплывшая кровью, лежала на плаще неестественно прямо. Солдаты бежали. Они торопились вынести командира из-под огня, но такого места вокруг не было.
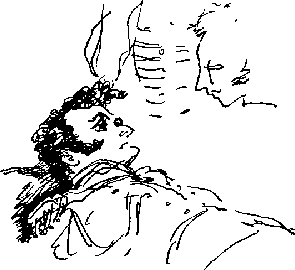
Он сделал движение рукой, как бы разгребая столпившихся офицеров, и те расступились. Кто-то бинтовал ему ногу, кто-то прикладывал мокрую тряпку ко лбу, а он напряженно всматривался в дым сражения и слабым голосом отдавал распоряжения. Листову сказал:
– Справа за деревней скрытое место… хорошо для франкировки… пушки поставь.
– Понял, ваше сиятельство. Последние слова к адъютанту:
– Поезжай к Барклаю… скажи, чтоб простил… Его унесли.
«Поезжай к Барклаю, скажи, чтоб простил». В минуты страшной боли, в минуты предчувствия близкой гибели он посылал эти слова человеку, которого всегда считал неправым и обвинял чуть ли не в измене…
На этот раз флеши не устояли, контратаковать было нечем. Унесен с поля Багратион, солдаты не видят его фигуры на белом коне, нет за спиной свежих колонн. В егерском колпаке с белой кисточкой скачет Коновницын, он собирает перед оврагом рассеянные войска, ставит пушки. Но контратаковать нечем.
Это восьмая атака. Русских осталось вчетверо меньше, чем наступавших французов, но и те выдохлись настолько, что не смогли продолжить атаку, хотя, казалось, ничего не стоит опрокинуть последний русский заслон, ударить во фланг армии Барклая, довершить победу.
Французы выдохлись. Тридцать тысяч остановились перед десятью и принялись закрепляться на флешах.
Тем временем мы неслись вдоль Семеновского оврага туда, где Багратион показал место для фланговой батареи. Несколько пушек уже палили отсюда, какой-то смышленый командир на свой страх и риск поставил полубатарею.
Место удобное, это заметно и невоенному. Маленький овражек с крутыми склонами, похожий на специально вырытый котлован. Возможно, когда-то здесь копали под фундамент большого дома. От овражка заросший кустами обрыв к Семеновскому ручью, а там еще один ручей, текущий в Семеновский со стороны французов. Кусты закрывают батарею, пушки бьют между ними. Отсюда как на ладони открывается схватка за флеши, выбирай любую цель.
– Чья батарея? – крикнул Листов.
– От тридцать третьей легкой! – ответил молодой поручик с перепачканным сажей лицом.
– Где же прикрытие?
– Прикрытия нет, господин ротмистр!
– Так вас на штыки поднимут!
– Пока не заметили!
– Господа, располагайтесь, – сказал Листов. – А я достану хоть батальон. – Он ускакал.
Из шести пушек полубатареи стреляло четыре, не хватало прислуги. Молодой поручик бегал между орудиями, выскакивал из овражка и поправлял прицел. В одном канонире я узнал солдата Фролова с центральной батареи.
– Ну как, Фролов, жив твой Петруша?
– Петруша-то? – Он оглянулся. – Когда уходил, еще красовался. А что, ваше благородие, были на нашем люнете?
– Был, когда отбивали.
– То-то вижу, лицо знакомое. А нас троих сюды перекинули. Теперь без меня Петруша.
– Давай, Фролов, давай! – закричал фейерверкер. – Заряд готовь, чего разговорился?
– А что спешить? – возразил Фролов. – Смотри, там какая дымина. Подождать надо маненько. Зарядов, почитай, полсотни осталось.
– Братцы, и правда! – сказал Лепихин. – Куда вы долбите? Подождите, колонна подтянется, и прямо ей в фас! Как раз полверсты будет!
– А вы не мешайте, – пытаясь быть строгим, сказал молодой поручик. – Вы штатские господа.
– Э, штатские, штатские! – Лепихин стащил разодранный сюртук. – Штатские, а баллистику знаем. Я, брат, пушки сам отливал. Говорю вам, дайте орудию отдохнуть, зря переводите ядра.
– Берестов! – крикнул он мне. – Сыграем расчет? Вон пушка свободна!
Он делал все быстро и ловко. Канониры прекратили стрельбу и смотрели на нас, поручик не возражал. Я помогал как мог. Лепихин орудовал банником, что-то подкручивал. Шестифунтовая медная пушка покорно ждала. Я погладил ствол, он был еще теплый.
– Смотрите на ту кавалькаду, – сказал Лепихин. – Да вон, вон она едет! Пожалуй что, генерал. Давайте пари. Если поедут ровно, через минуту их развалю!
– Эк сказал! – возразил кто-то. – Разве уцелишь? Которая каванкада, энта? Ни в жисть не уцелишь! Кабы картечью да ближе. Нет, не уцелишь…
– А! На что спорим? – крикнул распаленный Лепихин.
– Да хоть на что. На семитку?
– Давай на семитку!
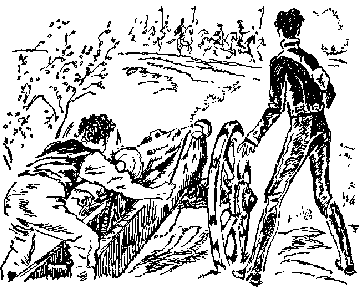
– Пошла, – сказал кто-то.
Через несколько секунд едкий дым выстрела рассеялся. Всадники ехали тем же шагом.
– Пропала твоя семитка, – сказал канонир. – Говорил, ни в жисть не уцелишь.
– Пушки у вас черт знает что, – сказал Лепихин. – Какие, к чертям, пушки! Винты разболтаны, дула не чищены! Разве уцелишь?
– Пушки хорошие, – ответили канониры. – Стрелять – это тебе не книжки читать.
– Ладно, посмотрим, – сказал Лепихин. – Сейчас пристреляюсь, увидим тогда, какие книжки. Берестов, давайте заряд!
На нас обратили внимание, когда схватка за флеши кончилась. Французы оказались довольно близко, продольные наши выстрелы стали беспокоить фланг какого-то корпуса. Нас попытались накрыть, но стреляли почти вслепую, ядра сыпали стороной.
Наконец кавалерийская группа направилась в нашу сторону и подскакала довольно близко, мы даже попробовали достать ее картечью. Кавалеристы внезапно разъехались и открыли батарею, уже снятую с передков.
Хитрость оказалась внезапной, но рискованной для французов. Их пушки стреляли с открытого места. Началась дуэль, а через полчаса кончилась тем, что только пять пушек из французских восьми сумели уехать невредимыми. Три вместе с расчетами остались на месте среди убитых лошадей и взорванных ящиков.
У нас положило семь человек и почти всех лошадей. Мы вынесли убитых в кусты, а раненые поковыляли в тылы. Строгого поручика мы положили в стороне умирать. Осколок пробил ему шею. Он безучастно смотрел в небо, и строгое выражение не покидало его лица.
Умирал и Фролов. Он что-то шептал. Я наклонился.
– Запах у него антиресный, – говорил он, закрыв глаза.
Я подумал, что умирающий бредит.
– Запах… – снова проговорил он. – У Петруши. В точь как волосы у моей Алены… Значит, без меня ей там…
Он затих.
7
Листов не достал прикрытия. Он приехал раздраженный и сразу встал к пушке. Он сказал:
– Центр еще держится. Но как я смотрю, у нас очень важное место. Фрунт изогнулся дугой, а мы в середине. Французам как раз бы нажать сейчас с фланга, да тут наши пушки.
– Много ли мы сумеем? – сказал я. – Семь человек, и прикрытия нет. А если пехотой нас атакуют?
– Одна надежда, не догадаются, – сказал Листов. – Пушки им наши не посчитать, место для атаки неудобное, а прикрытие, даст бог, сами вообразят и не полезут.
– Полезут, полезут! – заверил Лепихин. – А вы полагаете, надо держать эту точку?
– Надо держать, – сказал Листов. – Тут между войсками провал, а помощи ждать неоткуда.
– Прекрасно! – Лепихин потер руки.
– Чему вы радуетесь?
– Дело, по крайней мере! Люблю я дела!
Стрельбой теперь заправлял Лепихин. Хоть первый выстрел был неудачным, выяснилось, что наводил он прекрасно. По крайней мере, две из трех подбитых пушек пришлись на его ядра.
– Ай, молодец! – говорили солдаты. – Ай да господин!
– Ребята, не пали понапрасну! – Лепихин бегал между орудий. – Куда целишь?
– Вон туда, – отвечал солдат.
– А если туда, прибавь линию! Чем зарядил, гранатой? Прибавь еще, а бомбой, так сбавь. Понимать надо!
– Въедливый, едрена палка! – говорили солдаты.
Я уже различал пушки на слух. У каждой свой голос. Чуть глуше или резче. У этой с металлом, у той с бархатом.
Наша пушка французского литья, по стволу фривольные литеры: «Une petite rouquine» – «Рыжая малышка». Не задумываясь о происхождении, «малышка» исправно палила по своим.
Это был тот момент сражения, когда маршал Ней несколько раз просил Наполеона дать подкреплений. Но у того оставалась одна гвардия, и после раздумий он только передвинул часть войск ближе к флешам, но в атаку не пустил.
Шел бой за Семеновскую. Второй армией теперь командовал спокойный Дохтуров. Кутузов знал, кого посылать в горячие точки сражения.
Где-то напротив нас строилась молодая гвардия Клапареда, где-то сзади подтягивался наш четвертый корпус. Все это я знал, но, конечно, не мог различить глазами. Каково генералам? Как они разбираются в этой сумятице?
Густые колонны шли на Семеновскую. В пороховом дыму начиналась схватка, а когда дым рассеивался, было видно, как через горы трупов разбредаются раненые. На смену шли другие колонны, опять сшибались в дыму, оставляли убитых, а раненые ковыляли назад. Уже восьмой или девятый час шла битва, и «Рыжая малышка» вносила свою долю, выплевывая горячие шары, гулко ахая и подпрыгивая.
– Центр еще держится. Но как я смотрю, у нас очень важное место. Фрунт изогнулся дугой, а мы в середине. Французам как раз бы нажать сейчас с фланга, да тут наши пушки.
– Много ли мы сумеем? – сказал я. – Семь человек, и прикрытия нет. А если пехотой нас атакуют?
– Одна надежда, не догадаются, – сказал Листов. – Пушки им наши не посчитать, место для атаки неудобное, а прикрытие, даст бог, сами вообразят и не полезут.
– Полезут, полезут! – заверил Лепихин. – А вы полагаете, надо держать эту точку?
– Надо держать, – сказал Листов. – Тут между войсками провал, а помощи ждать неоткуда.
– Прекрасно! – Лепихин потер руки.
– Чему вы радуетесь?
– Дело, по крайней мере! Люблю я дела!
Стрельбой теперь заправлял Лепихин. Хоть первый выстрел был неудачным, выяснилось, что наводил он прекрасно. По крайней мере, две из трех подбитых пушек пришлись на его ядра.
– Ай, молодец! – говорили солдаты. – Ай да господин!
– Ребята, не пали понапрасну! – Лепихин бегал между орудий. – Куда целишь?
– Вон туда, – отвечал солдат.
– А если туда, прибавь линию! Чем зарядил, гранатой? Прибавь еще, а бомбой, так сбавь. Понимать надо!
– Въедливый, едрена палка! – говорили солдаты.
Я уже различал пушки на слух. У каждой свой голос. Чуть глуше или резче. У этой с металлом, у той с бархатом.
Наша пушка французского литья, по стволу фривольные литеры: «Une petite rouquine» – «Рыжая малышка». Не задумываясь о происхождении, «малышка» исправно палила по своим.
Это был тот момент сражения, когда маршал Ней несколько раз просил Наполеона дать подкреплений. Но у того оставалась одна гвардия, и после раздумий он только передвинул часть войск ближе к флешам, но в атаку не пустил.
Шел бой за Семеновскую. Второй армией теперь командовал спокойный Дохтуров. Кутузов знал, кого посылать в горячие точки сражения.
Где-то напротив нас строилась молодая гвардия Клапареда, где-то сзади подтягивался наш четвертый корпус. Все это я знал, но, конечно, не мог различить глазами. Каково генералам? Как они разбираются в этой сумятице?
Густые колонны шли на Семеновскую. В пороховом дыму начиналась схватка, а когда дым рассеивался, было видно, как через горы трупов разбредаются раненые. На смену шли другие колонны, опять сшибались в дыму, оставляли убитых, а раненые ковыляли назад. Уже восьмой или девятый час шла битва, и «Рыжая малышка» вносила свою долю, выплевывая горячие шары, гулко ахая и подпрыгивая.
