Она нагибается и срывает желтый блестящий цветок.
– Садитесь, – говорю я. – Земля очень теплая.
– Нет-нет. – Она берет цветок в губы, еще раз рассеянно глядит на меня и уходит туда, где бледно-зеленые кусты всплескивают серебристо, задетые ветерком.
Я снова откидываюсь и смотрю в небо. Если смотреть долго, его голубизна начинает распадаться на дрожащие невнятные точки. Потом ветер холодком проскальзывает по глазам и смазывает картину. Несколько птиц заливается рядом. Одна пульсирующей трелью, другая точно крохотным молоточком по такой же крохотной мелодичной наковальне – тон-тон…
Кажется, ее зовут Наташей, думаю я. Или Таней? Нет, Наташа. Висит надо мной серебристый шар неба, и так сладко, так сладко лежать в траве…
Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной крыша сарая. Я сел и стал лихорадочно ощупывать руки, ноги, тело. Что со мной, где я? Это не сон. Что происходит, куда я попал? Кто я такой, наконец?
Несколько мгновений длилось это мучительное недоумение. Потом оно отодвинулось, и телом снова овладело состояние отдаленности. Но вопросы не исчезли.
Кто же я все-таки, Берестов или тот, прежний «я», ставший Берестовым на время? Быть может, мы поменялись местами, и сейчас по тому Бородинскому полю, на которое я пришел с рюкзаком, бродит мой изумленный двойник, переселившийся на полтора века вперед? Какой смысл в этом перемещении и надолго ли оно? Быть может, навсегда, и мне пора привыкать к новой жизни, гнать из себя раздвоенность и попытаться понять, что же я, теперь Берестов, представляю в этой жизни?
Но это совсем не легко. «Наследство», которое я получил, опустившись по временной шкале, мягко говоря, своеобразно. Странная обрывочная биография, неясность во всем и водоворот событий, в который попал сразу. В какую сторону из него выбираться? Только лицо Наташи светило теплым фонариком. Я понимал, что надо стремиться к нему, искать ее, искать, цепляться за эту соломинку, идти на этот единственный проблеск прежней понятной жизни, и, может, тогда удастся выбраться на твердую дорогу…
Леппих. Что-то в нем есть непростое. Как странно блеснули его глаза, когда мы подошли с Фальковским. Всем видом он показал, что меня не знает, но тут же ввязался в игру на моей стороне. Что ему нужно?
Странное лицо у Фальковского. Загар не загар, даже не цвет кожи. Такое впечатление, что все его существо дает изнутри этот сумрачный глиняный свет. Даже в глазах пробивается глиняная сила. Глиняный человек…
Вспоминаю Листова. Такое впечатление, что был знаком с ним давно, очень давно. Что-то удивительно близкое нахожу в его жестах, в том, как он говорит, как наклоняет голову, как идет. В памяти, как в фотографической ванночке, колеблются смутные силуэты опущенной туда фотографии, но она никак не может проявиться…
Я спал, когда меня разбудил Леппих. Он стоял у лестницы сеновала франт франтом. Лиловый фрак, розовая атласная жилетка и черный шейный платок. В руках какой-то сверток.
– Et bien, comment avez vous dor mi, homme curieux? (Ну, как вам спалось, любопытный человек? (франц.))
– Где Фальковский? – спросил я, спускаясь.
– Как где? Вас рыщет. Наверное, поскакал в Москву.
– Но я же здесь.
– Если вы так соскучились по вашему приятелю, то можете отправляться за ним. Я дам лошадей.
– Я бы перекусил, пожалуй!
– Parfaitement. Прекрасно. Я такого же мнения. Как вы находите мою маленькую шутку?
– Я боялся, они вас догонят и вам придется давать объяснения.
– Объяснения? – Леппих поморщился. – Объяснения я стану давать только императору или, в крайнем случае, генерал-губернатору, а не такому сморчку, как ваш приятель.
– Он вовсе мне не приятель.
– Я так и подумал. Мсье Фальковский уже три месяца не дает мне покоя. С начала работ над воздушным шаром он приставлен здесь главным надсмотрщиком, шпионом, если хотите. Любая молва вокруг шара вызывает в нем священный трепет. Он сразу начинает рыскать, искать виноватых, запирать людей в карцер и писать докладные.
– Он не показался мне таким полицейским простаком.
– Oh la, la! – Леппих свистнул. – Он не простак, далеко не простак. Но я все-таки ловко над ним подшутил. Представляю, как он всполошился, когда я выкатил в вашем мундире!
– Зачем вы это сделали?
– Думаю, в суматохе он принял меня за вас. Мне-то, собственно, бежать незачем.
– Они не догнали вас?
– Какой там! За поворотом я сразу свернул, объехал рощу, а лошадей оставил в деревне. Ваш умный приятель, конечно, помчался к Москве, считая, что вам и бежать больше некуда. По крайней мере, до утра вы можете спокойно пользоваться моим гостеприимством.
– Вы увели Фальковского, чтобы остаться со мной наедине?
– Именно! Мне нужно с вами поговорить. Надевайте вот это.
В свертке оказался новенький гусарский мундир, черный с красными шнурами и серебром позументов.
– В нем вас никто, кроме Фальковского, не узнает. Это подарок, да мне оказался маловат. Мне тут многое надарили. Русские любят дарить. Приедет какой-нибудь граф или князь-гуляка и дарит то гончую, то трубку, то пистолет.
Мундир мне пришелся впору. Я сразу почувствовал себя свободней, чем в старом тесном кителе.
– Charmant, – сказал Леппих. – Очаровательно. Теперь пойдемте обедать. Вы мой приятель. У меня их тут много появилось, как только стали ездить по пригласительным билетам.
Садом и через заднее крыльцо мы попали в дом. На блестящем фигурном паркете первого этажа были раскиданы те же доски и металлические полосы, что и во дворе.
Мы поднялись наверх. В просторном зеленом кабинете с полукруглыми кожаными диванами нам подали обед.
– Значит, вы ищете девушку по имени Наталья? – спросил Леппих.
Я сказал:
– Между прочим, не только вы провели Фальковского, но и он вас. Он знает английский и понял, что вы мне сказали.
Леппих поморщился:
– За кого вы меня принимаете? Конечно, я знал, что Фальковский сведущ в английском. Я специально подсунул приманку, а он проглотил крючок.
– Вы специально для него сказали про флигель?
– Bien sur, разумеется. Ведь я уже знал, что девушки нет во флигеле, хотя, по мнению Фальковского, должен был знать другое. Словом, я обеспечил себе алиби.
– Какое алиби?
– На случай исчезновения девушки. Mais sacredieu! Черт возьми, как вы этого не понимаете! Я хотел показать Фальковскому, что если девушка исчезнет, то я не буду иметь к этому никакого отношения.
– Но она как раз исчезла!
– В том-то и дело, – сказал Леппих.
– Уж не хотите ли вы сказать, что именно вы помогли ей бежать? – спросил я.
– Как раз это я и хотел сказать. Я замолчал.
– Et bien, mangez done (Ешьте, ешьте (франц.)), – сказал Леппих, разламывая руками курицу.
– Вы так доверяете мне, что признаетесь? – спросил я.
– В чем признаюсь? – спросил Леппих. – А впрочем, разумеется, доверяю.
– Но почему?
– Во-первых, потому, что признаваться не в чем. Если я помог невинной девушке вырваться из рук этого блюстителя, то так поступил бы любой порядочный человек. Вы не согласны?
– Допустим. Но в чем он ее обвинял и почему держал взаперти?
– So ein Schwein! (Скотина! (нем.)) Черт его знает. Девушка кому-то о чем-то проговорилась в письме. Уж не вам ли?
– Похоже, что мне.
– Я так и подумал. Вы давно с ней знакомы?
– Целую вечность.
– Целую вечность? – Леппих насторожился. – Вы сказали, целую вечность?
– Да. А что вас удивило?
– Нет, ничего. Такие слова всегда сбивают меня с толку.
– Какие слова? Такие, как «вечность»?
– Да, да! – быстро и чуть ли не раздраженно сказал он.
Странный человек, подумал я, изобретатель. Все они с причудами.
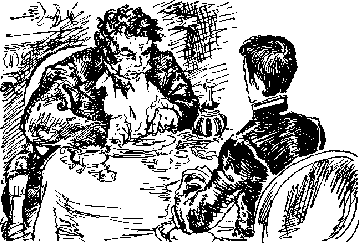 Обед подходил к концу. Я заметил, что Леппих стал нервничать. По его лицу вдруг пробегало волнение, глаза то и дело беспокойно останавливались на мне. Он даже начал постукивать ногой под столом и локтем чуть было не спихнул на пол большую соусницу.
Обед подходил к концу. Я заметил, что Леппих стал нервничать. По его лицу вдруг пробегало волнение, глаза то и дело беспокойно останавливались на мне. Он даже начал постукивать ногой под столом и локтем чуть было не спихнул на пол большую соусницу.
– Как думаете, – сказал он неожиданно резким голосом, – скоро ли будет сражение?
– По-моему, в ближайшие дни, – ответил я. – Армия уже на позиции.
– Где?
– Под Можайском.
– Через два дня я буду поднимать шар. Как думаете, он поднимется?
– Почему вы меня спрашиваете?
– Я всех спрашиваю, – буркнул Леппих и уткнулся в тарелку.
– Скажите, – начал я, – вы говорили, что доверяете мне, и при этом употребили слово «во-первых». Быть может, существует и «во-вторых»?
– Быть может, – сказал Леппих.
– В чем же оно заключается?
– Оно заключается в том, что я принимаю вас за одного человека. – Леппих встал и подошел к окну.
– Поэтому вы и решили избавить меня от Фальковского?
– Justement. (Именно (франц.)) Как раз поэтому.
– А если я не тот человек?
– Этого я и боюсь, – сказал Леппих. – Быть может, того человека вообще не существует.
– Как так?
– Ах! – Леппих взмахнул рукой. – Фантазия, домыслы! Послушайте… – Он повернулся ко мне: – Я только хочу вас спросить. Вы были в Финском походе?
– Да, был.
– А был ли у вас товарищ, который еще вам лошадь продал, белую лошадь?
– Было такое.
– А где он сейчас?
– Погиб, – сказал я, вспомнив слова Листова. – Убит под Гриссельгамом.
– Да, это вы… – пробормотал Леппих. – Кому же еще… Я как услышал фамилию Берестов, как посмотрел на вас, сразу подумал… Нет, но кому же еще, как не вам…
– О чем вы говорите?
– О чем я говорю? Если бы я сам знал толком… – Быстрыми шагами он стал расхаживать по комнате.
– И все же?
– Послушайте. – Он остановился. – По выговору за кого меня можно принять?
– Пожалуй, за немца.
– А так? Следите, следите за мной. – И чистой скороговоркой он выпалил: – Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком… Еще – шли три попа, три Прокопья-попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопья-попа, про Проскопьевича!
Все это он выговорил не переводя дух.
– А так за кого меня можно принять?
– За кого? – повторил я с недоумением.
Я слышал бойкую русскую речь, особенно непривычную в устах иностранца, который до того говорил с сильным акцентом.
– Скажите, – он подходил ко мне, словно подкрадываясь, глаза горели, – только одно мне скажите. Умоляю, скажите правду, – лицо его исказилось, сделалось неправильным, – только одно слово… Я уверяю, мне это нужно из высших соображений, вы не подумайте, ради бога… Нет, вы позволите мне задать вопрос?
– Да спрашивайте. – Я пожал плечами.
– Мм… он не из легких, этот вопрос… – На лбу его показались капли пота. – Ведь я-то вам почти уж открылся… Все рассказал.
– Открылись? Но в чем?
– Ах! – Он махнул рукой и вдруг выпалил почти с отчаянием: – Сколько вам лет?
– Сколько мне лет? – Я удивился.
– То есть… – забормотал Леппих. – Я не в том смысле… Вы не подумайте… Словом, вам, может быть, трудно назвать свой возраст?
Это был, что называется, лобовой вопрос. Он что-то знал или о чем-то догадывался.
– Мой возраст… – повторил я. – В некотором смысле мне и правда нелегко сказать, сколько мне лет. Но вы-то что имеете в виду?
Я постарался, чтобы слова мои звучали небрежно и в крайнем случае их можно было обратить в шутку. Но для него они были облегчением.
Он опустился на стул, вытер ладонью лоб, вздохнул с облегчением.
– Так знайте, – сказал он, – я не Шмидт и не Леппих. Я русский, Иван Лепихин.
Ребяческое оживление вдруг осветило его лицо. Он вскочил, подбежал к окну, выглянул, потом вернулся ко мне и шепотом, прерывистым от волнений, сообщил:
– Думаете, я шар строю? Э, нет, я жизнь положил на это… Если бы только шар. А! Все равно не поверите!
Он принялся расхаживать по комнате, махать руками, сбивчиво говорить. Он выпаливал длинную фразу, останавливался и смотрел на меня:
– Не верите?
Потом снова принимался рассказывать о себе, о своих похождениях. Опять останавливался.
– Такая вот жизнь, ни слова не вру! Имя свое упрятал, мысли упрятал, ан своего добьюсь! Так вы хотите знать, что я строю? Шарик летучий, забаву? – Почти детское ликование сияло на его лице. – Нет, дорогой мой! Это…
Дверь распахнулась – на пороге стоял Фальковский.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
2
– Садитесь, – говорю я. – Земля очень теплая.
– Нет-нет. – Она берет цветок в губы, еще раз рассеянно глядит на меня и уходит туда, где бледно-зеленые кусты всплескивают серебристо, задетые ветерком.
Я снова откидываюсь и смотрю в небо. Если смотреть долго, его голубизна начинает распадаться на дрожащие невнятные точки. Потом ветер холодком проскальзывает по глазам и смазывает картину. Несколько птиц заливается рядом. Одна пульсирующей трелью, другая точно крохотным молоточком по такой же крохотной мелодичной наковальне – тон-тон…
Кажется, ее зовут Наташей, думаю я. Или Таней? Нет, Наташа. Висит надо мной серебристый шар неба, и так сладко, так сладко лежать в траве…
Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной крыша сарая. Я сел и стал лихорадочно ощупывать руки, ноги, тело. Что со мной, где я? Это не сон. Что происходит, куда я попал? Кто я такой, наконец?
Несколько мгновений длилось это мучительное недоумение. Потом оно отодвинулось, и телом снова овладело состояние отдаленности. Но вопросы не исчезли.
Кто же я все-таки, Берестов или тот, прежний «я», ставший Берестовым на время? Быть может, мы поменялись местами, и сейчас по тому Бородинскому полю, на которое я пришел с рюкзаком, бродит мой изумленный двойник, переселившийся на полтора века вперед? Какой смысл в этом перемещении и надолго ли оно? Быть может, навсегда, и мне пора привыкать к новой жизни, гнать из себя раздвоенность и попытаться понять, что же я, теперь Берестов, представляю в этой жизни?
Но это совсем не легко. «Наследство», которое я получил, опустившись по временной шкале, мягко говоря, своеобразно. Странная обрывочная биография, неясность во всем и водоворот событий, в который попал сразу. В какую сторону из него выбираться? Только лицо Наташи светило теплым фонариком. Я понимал, что надо стремиться к нему, искать ее, искать, цепляться за эту соломинку, идти на этот единственный проблеск прежней понятной жизни, и, может, тогда удастся выбраться на твердую дорогу…
Леппих. Что-то в нем есть непростое. Как странно блеснули его глаза, когда мы подошли с Фальковским. Всем видом он показал, что меня не знает, но тут же ввязался в игру на моей стороне. Что ему нужно?
Странное лицо у Фальковского. Загар не загар, даже не цвет кожи. Такое впечатление, что все его существо дает изнутри этот сумрачный глиняный свет. Даже в глазах пробивается глиняная сила. Глиняный человек…
Вспоминаю Листова. Такое впечатление, что был знаком с ним давно, очень давно. Что-то удивительно близкое нахожу в его жестах, в том, как он говорит, как наклоняет голову, как идет. В памяти, как в фотографической ванночке, колеблются смутные силуэты опущенной туда фотографии, но она никак не может проявиться…
Я спал, когда меня разбудил Леппих. Он стоял у лестницы сеновала франт франтом. Лиловый фрак, розовая атласная жилетка и черный шейный платок. В руках какой-то сверток.
– Et bien, comment avez vous dor mi, homme curieux? (Ну, как вам спалось, любопытный человек? (франц.))
– Где Фальковский? – спросил я, спускаясь.
– Как где? Вас рыщет. Наверное, поскакал в Москву.
– Но я же здесь.
– Если вы так соскучились по вашему приятелю, то можете отправляться за ним. Я дам лошадей.
– Я бы перекусил, пожалуй!
– Parfaitement. Прекрасно. Я такого же мнения. Как вы находите мою маленькую шутку?
– Я боялся, они вас догонят и вам придется давать объяснения.
– Объяснения? – Леппих поморщился. – Объяснения я стану давать только императору или, в крайнем случае, генерал-губернатору, а не такому сморчку, как ваш приятель.
– Он вовсе мне не приятель.
– Я так и подумал. Мсье Фальковский уже три месяца не дает мне покоя. С начала работ над воздушным шаром он приставлен здесь главным надсмотрщиком, шпионом, если хотите. Любая молва вокруг шара вызывает в нем священный трепет. Он сразу начинает рыскать, искать виноватых, запирать людей в карцер и писать докладные.
– Он не показался мне таким полицейским простаком.
– Oh la, la! – Леппих свистнул. – Он не простак, далеко не простак. Но я все-таки ловко над ним подшутил. Представляю, как он всполошился, когда я выкатил в вашем мундире!
– Зачем вы это сделали?
– Думаю, в суматохе он принял меня за вас. Мне-то, собственно, бежать незачем.
– Они не догнали вас?
– Какой там! За поворотом я сразу свернул, объехал рощу, а лошадей оставил в деревне. Ваш умный приятель, конечно, помчался к Москве, считая, что вам и бежать больше некуда. По крайней мере, до утра вы можете спокойно пользоваться моим гостеприимством.
– Вы увели Фальковского, чтобы остаться со мной наедине?
– Именно! Мне нужно с вами поговорить. Надевайте вот это.
В свертке оказался новенький гусарский мундир, черный с красными шнурами и серебром позументов.
– В нем вас никто, кроме Фальковского, не узнает. Это подарок, да мне оказался маловат. Мне тут многое надарили. Русские любят дарить. Приедет какой-нибудь граф или князь-гуляка и дарит то гончую, то трубку, то пистолет.
Мундир мне пришелся впору. Я сразу почувствовал себя свободней, чем в старом тесном кителе.
– Charmant, – сказал Леппих. – Очаровательно. Теперь пойдемте обедать. Вы мой приятель. У меня их тут много появилось, как только стали ездить по пригласительным билетам.
Садом и через заднее крыльцо мы попали в дом. На блестящем фигурном паркете первого этажа были раскиданы те же доски и металлические полосы, что и во дворе.
Мы поднялись наверх. В просторном зеленом кабинете с полукруглыми кожаными диванами нам подали обед.
– Значит, вы ищете девушку по имени Наталья? – спросил Леппих.
Я сказал:
– Между прочим, не только вы провели Фальковского, но и он вас. Он знает английский и понял, что вы мне сказали.
Леппих поморщился:
– За кого вы меня принимаете? Конечно, я знал, что Фальковский сведущ в английском. Я специально подсунул приманку, а он проглотил крючок.
– Вы специально для него сказали про флигель?
– Bien sur, разумеется. Ведь я уже знал, что девушки нет во флигеле, хотя, по мнению Фальковского, должен был знать другое. Словом, я обеспечил себе алиби.
– Какое алиби?
– На случай исчезновения девушки. Mais sacredieu! Черт возьми, как вы этого не понимаете! Я хотел показать Фальковскому, что если девушка исчезнет, то я не буду иметь к этому никакого отношения.
– Но она как раз исчезла!
– В том-то и дело, – сказал Леппих.
– Уж не хотите ли вы сказать, что именно вы помогли ей бежать? – спросил я.
– Как раз это я и хотел сказать. Я замолчал.
– Et bien, mangez done (Ешьте, ешьте (франц.)), – сказал Леппих, разламывая руками курицу.
– Вы так доверяете мне, что признаетесь? – спросил я.
– В чем признаюсь? – спросил Леппих. – А впрочем, разумеется, доверяю.
– Но почему?
– Во-первых, потому, что признаваться не в чем. Если я помог невинной девушке вырваться из рук этого блюстителя, то так поступил бы любой порядочный человек. Вы не согласны?
– Допустим. Но в чем он ее обвинял и почему держал взаперти?
– So ein Schwein! (Скотина! (нем.)) Черт его знает. Девушка кому-то о чем-то проговорилась в письме. Уж не вам ли?
– Похоже, что мне.
– Я так и подумал. Вы давно с ней знакомы?
– Целую вечность.
– Целую вечность? – Леппих насторожился. – Вы сказали, целую вечность?
– Да. А что вас удивило?
– Нет, ничего. Такие слова всегда сбивают меня с толку.
– Какие слова? Такие, как «вечность»?
– Да, да! – быстро и чуть ли не раздраженно сказал он.
Странный человек, подумал я, изобретатель. Все они с причудами.
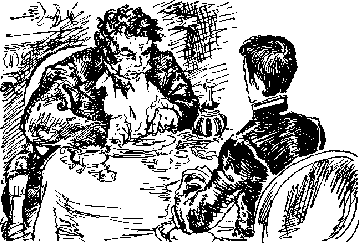
– Как думаете, – сказал он неожиданно резким голосом, – скоро ли будет сражение?
– По-моему, в ближайшие дни, – ответил я. – Армия уже на позиции.
– Где?
– Под Можайском.
– Через два дня я буду поднимать шар. Как думаете, он поднимется?
– Почему вы меня спрашиваете?
– Я всех спрашиваю, – буркнул Леппих и уткнулся в тарелку.
– Скажите, – начал я, – вы говорили, что доверяете мне, и при этом употребили слово «во-первых». Быть может, существует и «во-вторых»?
– Быть может, – сказал Леппих.
– В чем же оно заключается?
– Оно заключается в том, что я принимаю вас за одного человека. – Леппих встал и подошел к окну.
– Поэтому вы и решили избавить меня от Фальковского?
– Justement. (Именно (франц.)) Как раз поэтому.
– А если я не тот человек?
– Этого я и боюсь, – сказал Леппих. – Быть может, того человека вообще не существует.
– Как так?
– Ах! – Леппих взмахнул рукой. – Фантазия, домыслы! Послушайте… – Он повернулся ко мне: – Я только хочу вас спросить. Вы были в Финском походе?
– Да, был.
– А был ли у вас товарищ, который еще вам лошадь продал, белую лошадь?
– Было такое.
– А где он сейчас?
– Погиб, – сказал я, вспомнив слова Листова. – Убит под Гриссельгамом.
– Да, это вы… – пробормотал Леппих. – Кому же еще… Я как услышал фамилию Берестов, как посмотрел на вас, сразу подумал… Нет, но кому же еще, как не вам…
– О чем вы говорите?
– О чем я говорю? Если бы я сам знал толком… – Быстрыми шагами он стал расхаживать по комнате.
– И все же?
– Послушайте. – Он остановился. – По выговору за кого меня можно принять?
– Пожалуй, за немца.
– А так? Следите, следите за мной. – И чистой скороговоркой он выпалил: – Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком… Еще – шли три попа, три Прокопья-попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопья-попа, про Проскопьевича!
Все это он выговорил не переводя дух.
– А так за кого меня можно принять?
– За кого? – повторил я с недоумением.
Я слышал бойкую русскую речь, особенно непривычную в устах иностранца, который до того говорил с сильным акцентом.
– Скажите, – он подходил ко мне, словно подкрадываясь, глаза горели, – только одно мне скажите. Умоляю, скажите правду, – лицо его исказилось, сделалось неправильным, – только одно слово… Я уверяю, мне это нужно из высших соображений, вы не подумайте, ради бога… Нет, вы позволите мне задать вопрос?
– Да спрашивайте. – Я пожал плечами.
– Мм… он не из легких, этот вопрос… – На лбу его показались капли пота. – Ведь я-то вам почти уж открылся… Все рассказал.
– Открылись? Но в чем?
– Ах! – Он махнул рукой и вдруг выпалил почти с отчаянием: – Сколько вам лет?
– Сколько мне лет? – Я удивился.
– То есть… – забормотал Леппих. – Я не в том смысле… Вы не подумайте… Словом, вам, может быть, трудно назвать свой возраст?
Это был, что называется, лобовой вопрос. Он что-то знал или о чем-то догадывался.
– Мой возраст… – повторил я. – В некотором смысле мне и правда нелегко сказать, сколько мне лет. Но вы-то что имеете в виду?
Я постарался, чтобы слова мои звучали небрежно и в крайнем случае их можно было обратить в шутку. Но для него они были облегчением.
Он опустился на стул, вытер ладонью лоб, вздохнул с облегчением.
– Так знайте, – сказал он, – я не Шмидт и не Леппих. Я русский, Иван Лепихин.
Ребяческое оживление вдруг осветило его лицо. Он вскочил, подбежал к окну, выглянул, потом вернулся ко мне и шепотом, прерывистым от волнений, сообщил:
– Думаете, я шар строю? Э, нет, я жизнь положил на это… Если бы только шар. А! Все равно не поверите!
Он принялся расхаживать по комнате, махать руками, сбивчиво говорить. Он выпаливал длинную фразу, останавливался и смотрел на меня:
– Не верите?
Потом снова принимался рассказывать о себе, о своих похождениях. Опять останавливался.
– Такая вот жизнь, ни слова не вру! Имя свое упрятал, мысли упрятал, ан своего добьюсь! Так вы хотите знать, что я строю? Шарик летучий, забаву? – Почти детское ликование сияло на его лице. – Нет, дорогой мой! Это…
Дверь распахнулась – на пороге стоял Фальковский.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Приди, как дальняя звезда…
А. Пушкин
1
С Леппиха-Шмидта, с Ивана Лепихина, начались открытия, которых я не мог сделать за библиотечным столом или в музее. Нет-нет да на моем пути стали возникать расхождения с тем, что успел вычитать о двенадцатом годе, в который так стремительно переселился во время поездки на Бородинское поле.
Не сразу я поверил странному изобретателю и сначала подозревал его в тайной игре. Еще бы! Все, что я знал об этом человеке, не очень сходилось с его признанием. Но потом события развивались так, что оснований не верить у меня не осталось.
Яркая, необычная судьба! Его беспокоило то, о чем мечтают фантасты двадцатого века. Не воздушные шары, не полеты по воздуху – его занимали полеты во времени!
Он вообразил, что может построить машину для постижения веков. Я не берусь объяснить, как он представлял себе эту машину, о ней он говорил слишком путано и сбивчиво. Но именно такую машину он и пытался строить в имении Репнина, одновременно готовя воздушный шар для полета.
Его жизнь я узнал в самых общих чертах. Он рассказал, что родился в Туле и отец его был оружейником. Если тульский Левша блоху подковал, то и сын оружейника стал мастером на все руки. Да и не только на руки, мысль у него была любопытная, голова ясная, глаз острый.
Учился он сумбурно, то в школе, то у знающих людей.
Очень легко давались языки. Годам к шестнадцати он свободно читал на немецком, французском, английском, знал древнегреческий и латынь.
– Я на пари в два месяца любой язык могу выучить! – говорил он. – Не верите?
Такими самоучками богата наша земля. Легко пройдясь по верхам, а то и по глубоким пластам знаний, они в конце концов начинают вынашивать дерзкие замыслы. Лепихин был из таких.
Когда семья перебралась в Москву, началась бурная часть его жизни. С каким-то штаб-лекарем он строил воздушный шар и даже пытался поднять его с Воробьевых гор. Он делал наброски паровых машин, летательных аппаратов и даже лодок, которые должны ходить под водой. Но одна мечта все более властно пробивалась в сумбуре его механических фантазий.
Постичь время! Ни больше ни меньше. Он задумал серию опытов. Воздушные шары играли в них большую роль, но возможностей строить их не хватало.
– Деньги, деньги! – говорил он. – Никто не давал денег! Кому нужны мои опыты?
Лет двадцати он перебрался за границу, чтобы там попытаться сколотить средства. В Германии сумел прослушать несколько курсов Гейдельбергского университета, на учение зарабатывал летом в портах или на баварских виноградниках.
Там же ему пришла в голову мысль, что если выдать себя в России за ученого немца, то можно добиться денег на опыты. Он пристально следил за сведениями о первых аэростатах и даже ездил во Францию, чтобы посмотреть школу воздухоплавания в Мобеже. Но Бонапарт уже закрыл эту школу и больше не строил шаров.
– Аэростаты! Разве в них дело! – Он взмахивал рукой. – Но даже французский император давал на них деньги! Деньги, мне нужны были деньги и целые годы на опыты!
Дальше биография Лепихина совпадала с тем, что я успел о нем вычитать. Он выправил себе документы на имя Франца Леппиха, уроженца Мюдесхайма, прибавив для солидности несколько лет. Год служил в инженерных войсках Виртембергского герцогства, а потом познакомился с русским посланником при Штутгартском дворе.
Как и рассчитывал Лепихин, русский император заинтересовался предложением ученого человека из Германии, хотя тот же человек, только в русском обличье, уже выдвигал такую идею, но не мог допроситься средств для работ.
Леппих-Лепихин обещал построить управляемый воздушный шар для военных целей.
И вот он снова в России. Ему отведено целое имение, император Александр пишет об этом секретные письма, а генерал-губернатор Ростопчин пылко увлечен новой идеей спасения отечества. Он требует, чтобы с шара можно было забросать французскую армию разрывными снарядами.
– Он верит во всякую чепуху! – сказал Лепихин.
– Но вы обещали такой аэростат, – сказал я.
– Никогда! Я только уклонялся от разговоров на эту тему. Если бы граф хоть что-нибудь смыслил, то понял бы, что шар не поднимет и пяти человек, не то что сто пудов бомб, которыми он хочет разнести в клочья французов. Ведь сколько раз смотрел чертежи и приезжал сюда! Этот граф, как красная девица, без ума влюбляется в то и другое, желает неисполнимого и ничего не видит перед собой.
Потом он сказал:
– Шар в смысле военном годится только для наблюдения, как у французов при Флерюссе. Но мне это не важно. С нашим бестолковым начальством не будет толка ни от какого шара. Другое мне нужно, другое!..
В середине этого разговора, который нам удалось продолжить потом, и появился Фальковский. Помню, я хотел спросить Лепихина о Наташе, о том, что он знает обо мне и чего от меня хочет. Но тут распахнулась дверь.
– Qu’y a-t-il? (В чем дело? (франц.)) Что вам угодно? – резко спросил Леппих-Лепихин. В его речи тотчас появился акцент.
Фальковский переводил дыхание, на щеках проступил темный румянец.
– Что мне угодно?.. Мне угодно напомнить поручику, что время его визита кончается. Он, кажется, обещал графу быть с ним на ужине?
Холодный взгляд, насколько это было возможно, выражал беспокойство. Он, видимо, еще не опомнился от скачки, но, во всяком случае, оказался здесь не утром, как рассчитывал Лепихин, а спустя два часа и тем самым доказывал, что провести его не так-то просто.
– А куда же вы пропали? – насмешливо спросил Лепихин. – Quel dommage! (Какая жалость! (франц.)) Мы и обедали без вас.
– О! – сказал Фальковский, усмешка тронула его губы. – На вас новый костюм.
– Мой костюм? – спросил Лепихин. – На мне? Он не новый. Этот сюртук я сшил прошлым летом.
– Я имею в виду новый мундир поручика, – сказал Фальковский. – Его приняли в гусары?
– Quoi done? (Что такое? (франц.)) – Лепихин повернулся ко мне и стал разглядывать, будто видел впервые. – О каком новом костюме речь? Разве не в нем вы приехали? Или я схожу с ума?
– Вы можете шутить до поры до времени, – спокойно сказал Фальковский и повернулся ко мне: – Зачем вы загнали дрожки в соседнюю деревню?
– Дрожки? – Я сделал изумленный вид. – Клянусь, я не выходил из усадьбы.
– Подтверждаю! – сказал Лепихин. – С тех пор, как вы куда-то умчались, поручик все время на моих глазах.
– Мсье Леппих, – сказал Фальковский, – ваши странности мне известны. Но зачем вмешиваться в дела, которые вас не касаются? Поручик Берестов находится под условным арестом, заявляю это от имени графа Ростопчина. Для какой цели вы укрываете его у себя и даете другую одежду?
– Вы с ума сошли! – сказал Лепихин.
– Сомневаюсь, – сказал Фальковский. – Признаться, мы надеялись, что вы поможете прояснить личность этого человека. Из частного письма мы узнали, что вы знакомы. Но оказалось, у вас чуть ли не сговор.
– Два человека пообедали вместе, у вас уж и сговор, – проворчал Лепихин.
Он явно смеялся над Фальковским. – А что надо прояснять?
– Я теперь не имею желания продолжать этот разговор, – сухо сказал Фальковский. – Вас, как я вижу, связывает гораздо больше, чем я ожидал. Я только хочу предложить поручику вернуться в Москву. Что касается вас, мсье Леппих, я буду просить полномочий на более серьезный разговор с вами.
– Забываетесь! – крикнул Лепихин. – Кто вы и кто я? Que diable vous emporte! (Черт вас побери! (франц.)) Я императору напишу! Вы мне мешаете работать! Я занят спасением отечества!
– Еще не известно, чем вы заняты, – мрачно сказал Фальковский. – Поручик, я жду вас внизу через две минуты.
Он вышел.
– Каналья! – дрожа от злости, сказал Лепихин. – Он что-то пронюхал. Я уже замечал, что в моих чертежах и записках копались. Послушайте, Берестов, плюньте на эту ищейку! Давайте я выведу вас черным ходом и через сад… Ах, нет, там наверняка солдаты…
– А Наташа, – начал было я, – та девушка…
Он приложил палец к губам и показал на дверь.
– Ничего не знаю! – сказал он громко. – Что касается девушки, увы, не моя область. – При этом он быстро черкнул на столе записку и сунул мне в карман доломана.
– Ну, прощайте, – сказал он, пожимая руку, – жалко, что капитан лишил меня приятного общества.
Он проводил меня до двери и жарко шепнул в самое ухо:
– Вы мне нужны! Не потеряйте записку.
Фальковский ждал меня у дрожек. Румянец сошел с его щек, лицо приняло прежнее насмешливое выражение.
– Капитан, – сказал я, – вы не боитесь, что я могу стукнуть вас чем-нибудь по голове и укатить бог весть куда в этой таратайке?
– Второе вы уже пытались совершить, – довольно любезным тоном сказал Фальковский.
– Ошибка! – сказал я. – Ваша первая ошибка! Я никуда не уезжал.
– В таком случае кто же уехал?
«Э, – подумал я, – не раскусил ты еще Лепихина, раз и думать не можешь, что он способен на такие штуки».
– Мой двойник, – сказал я серьезным тоном. – Двойник мой уехал. Я вас предупреждал, что способен на всякое, в том числе и на раздвоение… А все-таки? Вдруг на самом деле сбегу?..
Он промолчал.
Золотистое небо сгущалось над Россией. Нежно-оранжевым светом наливался вечерний горизонт. Дрожки катили, покачиваясь.
Не сразу я поверил странному изобретателю и сначала подозревал его в тайной игре. Еще бы! Все, что я знал об этом человеке, не очень сходилось с его признанием. Но потом события развивались так, что оснований не верить у меня не осталось.
Яркая, необычная судьба! Его беспокоило то, о чем мечтают фантасты двадцатого века. Не воздушные шары, не полеты по воздуху – его занимали полеты во времени!
Он вообразил, что может построить машину для постижения веков. Я не берусь объяснить, как он представлял себе эту машину, о ней он говорил слишком путано и сбивчиво. Но именно такую машину он и пытался строить в имении Репнина, одновременно готовя воздушный шар для полета.
Его жизнь я узнал в самых общих чертах. Он рассказал, что родился в Туле и отец его был оружейником. Если тульский Левша блоху подковал, то и сын оружейника стал мастером на все руки. Да и не только на руки, мысль у него была любопытная, голова ясная, глаз острый.
Учился он сумбурно, то в школе, то у знающих людей.
Очень легко давались языки. Годам к шестнадцати он свободно читал на немецком, французском, английском, знал древнегреческий и латынь.
– Я на пари в два месяца любой язык могу выучить! – говорил он. – Не верите?
Такими самоучками богата наша земля. Легко пройдясь по верхам, а то и по глубоким пластам знаний, они в конце концов начинают вынашивать дерзкие замыслы. Лепихин был из таких.
Когда семья перебралась в Москву, началась бурная часть его жизни. С каким-то штаб-лекарем он строил воздушный шар и даже пытался поднять его с Воробьевых гор. Он делал наброски паровых машин, летательных аппаратов и даже лодок, которые должны ходить под водой. Но одна мечта все более властно пробивалась в сумбуре его механических фантазий.
Постичь время! Ни больше ни меньше. Он задумал серию опытов. Воздушные шары играли в них большую роль, но возможностей строить их не хватало.
– Деньги, деньги! – говорил он. – Никто не давал денег! Кому нужны мои опыты?
Лет двадцати он перебрался за границу, чтобы там попытаться сколотить средства. В Германии сумел прослушать несколько курсов Гейдельбергского университета, на учение зарабатывал летом в портах или на баварских виноградниках.
Там же ему пришла в голову мысль, что если выдать себя в России за ученого немца, то можно добиться денег на опыты. Он пристально следил за сведениями о первых аэростатах и даже ездил во Францию, чтобы посмотреть школу воздухоплавания в Мобеже. Но Бонапарт уже закрыл эту школу и больше не строил шаров.
– Аэростаты! Разве в них дело! – Он взмахивал рукой. – Но даже французский император давал на них деньги! Деньги, мне нужны были деньги и целые годы на опыты!
Дальше биография Лепихина совпадала с тем, что я успел о нем вычитать. Он выправил себе документы на имя Франца Леппиха, уроженца Мюдесхайма, прибавив для солидности несколько лет. Год служил в инженерных войсках Виртембергского герцогства, а потом познакомился с русским посланником при Штутгартском дворе.
Как и рассчитывал Лепихин, русский император заинтересовался предложением ученого человека из Германии, хотя тот же человек, только в русском обличье, уже выдвигал такую идею, но не мог допроситься средств для работ.
Леппих-Лепихин обещал построить управляемый воздушный шар для военных целей.
И вот он снова в России. Ему отведено целое имение, император Александр пишет об этом секретные письма, а генерал-губернатор Ростопчин пылко увлечен новой идеей спасения отечества. Он требует, чтобы с шара можно было забросать французскую армию разрывными снарядами.
– Он верит во всякую чепуху! – сказал Лепихин.
– Но вы обещали такой аэростат, – сказал я.
– Никогда! Я только уклонялся от разговоров на эту тему. Если бы граф хоть что-нибудь смыслил, то понял бы, что шар не поднимет и пяти человек, не то что сто пудов бомб, которыми он хочет разнести в клочья французов. Ведь сколько раз смотрел чертежи и приезжал сюда! Этот граф, как красная девица, без ума влюбляется в то и другое, желает неисполнимого и ничего не видит перед собой.
Потом он сказал:
– Шар в смысле военном годится только для наблюдения, как у французов при Флерюссе. Но мне это не важно. С нашим бестолковым начальством не будет толка ни от какого шара. Другое мне нужно, другое!..
В середине этого разговора, который нам удалось продолжить потом, и появился Фальковский. Помню, я хотел спросить Лепихина о Наташе, о том, что он знает обо мне и чего от меня хочет. Но тут распахнулась дверь.
– Qu’y a-t-il? (В чем дело? (франц.)) Что вам угодно? – резко спросил Леппих-Лепихин. В его речи тотчас появился акцент.
Фальковский переводил дыхание, на щеках проступил темный румянец.
– Что мне угодно?.. Мне угодно напомнить поручику, что время его визита кончается. Он, кажется, обещал графу быть с ним на ужине?
Холодный взгляд, насколько это было возможно, выражал беспокойство. Он, видимо, еще не опомнился от скачки, но, во всяком случае, оказался здесь не утром, как рассчитывал Лепихин, а спустя два часа и тем самым доказывал, что провести его не так-то просто.
– А куда же вы пропали? – насмешливо спросил Лепихин. – Quel dommage! (Какая жалость! (франц.)) Мы и обедали без вас.
– О! – сказал Фальковский, усмешка тронула его губы. – На вас новый костюм.
– Мой костюм? – спросил Лепихин. – На мне? Он не новый. Этот сюртук я сшил прошлым летом.
– Я имею в виду новый мундир поручика, – сказал Фальковский. – Его приняли в гусары?
– Quoi done? (Что такое? (франц.)) – Лепихин повернулся ко мне и стал разглядывать, будто видел впервые. – О каком новом костюме речь? Разве не в нем вы приехали? Или я схожу с ума?
– Вы можете шутить до поры до времени, – спокойно сказал Фальковский и повернулся ко мне: – Зачем вы загнали дрожки в соседнюю деревню?
– Дрожки? – Я сделал изумленный вид. – Клянусь, я не выходил из усадьбы.
– Подтверждаю! – сказал Лепихин. – С тех пор, как вы куда-то умчались, поручик все время на моих глазах.
– Мсье Леппих, – сказал Фальковский, – ваши странности мне известны. Но зачем вмешиваться в дела, которые вас не касаются? Поручик Берестов находится под условным арестом, заявляю это от имени графа Ростопчина. Для какой цели вы укрываете его у себя и даете другую одежду?
– Вы с ума сошли! – сказал Лепихин.
– Сомневаюсь, – сказал Фальковский. – Признаться, мы надеялись, что вы поможете прояснить личность этого человека. Из частного письма мы узнали, что вы знакомы. Но оказалось, у вас чуть ли не сговор.
– Два человека пообедали вместе, у вас уж и сговор, – проворчал Лепихин.
Он явно смеялся над Фальковским. – А что надо прояснять?
– Я теперь не имею желания продолжать этот разговор, – сухо сказал Фальковский. – Вас, как я вижу, связывает гораздо больше, чем я ожидал. Я только хочу предложить поручику вернуться в Москву. Что касается вас, мсье Леппих, я буду просить полномочий на более серьезный разговор с вами.
– Забываетесь! – крикнул Лепихин. – Кто вы и кто я? Que diable vous emporte! (Черт вас побери! (франц.)) Я императору напишу! Вы мне мешаете работать! Я занят спасением отечества!
– Еще не известно, чем вы заняты, – мрачно сказал Фальковский. – Поручик, я жду вас внизу через две минуты.
Он вышел.
– Каналья! – дрожа от злости, сказал Лепихин. – Он что-то пронюхал. Я уже замечал, что в моих чертежах и записках копались. Послушайте, Берестов, плюньте на эту ищейку! Давайте я выведу вас черным ходом и через сад… Ах, нет, там наверняка солдаты…
– А Наташа, – начал было я, – та девушка…
Он приложил палец к губам и показал на дверь.
– Ничего не знаю! – сказал он громко. – Что касается девушки, увы, не моя область. – При этом он быстро черкнул на столе записку и сунул мне в карман доломана.
– Ну, прощайте, – сказал он, пожимая руку, – жалко, что капитан лишил меня приятного общества.
Он проводил меня до двери и жарко шепнул в самое ухо:
– Вы мне нужны! Не потеряйте записку.
Фальковский ждал меня у дрожек. Румянец сошел с его щек, лицо приняло прежнее насмешливое выражение.
– Капитан, – сказал я, – вы не боитесь, что я могу стукнуть вас чем-нибудь по голове и укатить бог весть куда в этой таратайке?
– Второе вы уже пытались совершить, – довольно любезным тоном сказал Фальковский.
– Ошибка! – сказал я. – Ваша первая ошибка! Я никуда не уезжал.
– В таком случае кто же уехал?
«Э, – подумал я, – не раскусил ты еще Лепихина, раз и думать не можешь, что он способен на такие штуки».
– Мой двойник, – сказал я серьезным тоном. – Двойник мой уехал. Я вас предупреждал, что способен на всякое, в том числе и на раздвоение… А все-таки? Вдруг на самом деле сбегу?..
Он промолчал.
Золотистое небо сгущалось над Россией. Нежно-оранжевым светом наливался вечерний горизонт. Дрожки катили, покачиваясь.
2
До самой Москвы Фальковский молчал. Я тоже не разговаривал, а только смотрел по сторонам. Впервые я обратил внимание на солдата, который сидел на козлах. Он как-то особенно сутулился. Надвинутая на самые брови каска и большие черные усы придавали ему торжественно-мрачный вид.
– Поедешь на Пречистенку к дому Долгорукова, – сказал Фальковский.
Солдат не ответил.
– Ты слышал меня, Федор? – спросил Фальковский.
– Так точно, – глухо ответил тот, не повернув головы.
Мы снова проехали Каменный мост. Теперь я увидел Кремль на фоне густо-желтого закатного неба. Его стены и башни казались легкими, чуть ли не прозрачными с неожиданным то голубым, то розовым оттенком, а зелень холмов и подступившей к стене насыпи темно-изумрудной, как на раскрашенном лубке.
Иван Великий, вытянув лебединую шею, врезался в темнеющий небосвод одиноким перстом. Яркими золотыми точками горели орлы на башнях.
Справа проплыл дом Пашкова. За черной витой оградой неровным пульсом вздрагивал фонтан, и одинокий павлин с длинным волочащимся хвостом неподвижно стоял на взгорье пашковского сада, не то задумавшись, не то разглядывая панораму Кремля и Замоскворечья.
Волхонка была пуста. Мелькнул собор, косым рядом пошли деревянные дома. Мы проехали грязный ручей и круто взяли вверх по Пречистенке.
Внезапно я сказал:
– Остановите.
– Что? – спросил Фальковский.
Солдат натянул вожжи.
– Мне нужно повидать знакомого. Ведь я под условным арестом, не так ли? И могу еще пользоваться кое-какой свободой?
Мы стояли перед домом Листова. Крыша его виднелась за углом переулка.
– Хорошо, – сказал Фальковский.
Мы въехали во двор. Ворота распахнуты, никто не вышел навстречу. Я выпрыгнул из дрожек и пошел к дому.
Уж если Ростопчин знает про Листова, то скрывать нечего. Терять Листова из виду я не хотел. А кто знает, как развернутся события дальше, куда завезут меня дрожки Фальковского.
Я вошел на крыльцо. Вдруг кто-то вскрикнул за моей спиной. Всхрапнули кони, взвизгнули колеса. Я обернулся и успел увидеть выезжающие, точнее, выпрыгивающие из ворот дрожки и лежащего на их спинке навзничь, лицом ко мне, с раскинутыми руками Фальковского.
Черная треуголка осталась лежать на земле.
Я постоял, ожидая продолжения внезапного происшествия. Потом вышел за ворота, оглядел переулок. Никого. Странно. Что произошло? Я поднял треуголку и обошел дом. И здесь никого.
– Никодимыч! – крикнул я во дворе. – Никодимыч!
Где-то залаяла собака, другая ответила, и собачья перекличка огласила пречистенские дворы.
Что случилось с Фальковским? Почему так стремительно умчался экипаж? Уж не хватил ли его какой-нибудь удар? А этот солдат, Федор? Я даже не заметил, был ли он на козлах.
Я достал записку Лепихина и в сумеречном свете догорающего заката разобрал:
«Завтра не позже восьми утра у Красных ворот Зачатьевского монастыря, что на Остоженке».
Я задумался. Куда теперь? Ждать Листова? Куда запропастился Никодимыч? Листов, должно быть, ищет свою невесту. Я также не исключал, что его задерживает Ростопчин. Пожалуй, нужно побродить по Москве, а потом вернуться. Но в какую отправиться сторону?
Я пошел вверх по Пречистенке… Кропоткинская! Я тебя не узнавал, но внутренним чутьем понимал, что это ты, моя улица. Я знал, что ты сгорела, сгоришь этим яростным летом двенадцатого года, а потом отстроишься заново, и я полюблю твои разновысокие особняки, твои переулки и спокойные закаты над тобой.
Ни одного дома! Ни одного дома из тех, что будут стоять потом, но все-таки это ты, без сомнения. Быть может, у каждой улицы с рождения есть душа, а дома – только одежда, которую можно сменить?
В некоторых окнах уже выставлены свечки, но их слабый огонь еще не тревожит коричневатого сумрака. Вдали над подъездом какого-то особняка горят масляные фонари, там видно движение.
– Поедешь на Пречистенку к дому Долгорукова, – сказал Фальковский.
Солдат не ответил.
– Ты слышал меня, Федор? – спросил Фальковский.
– Так точно, – глухо ответил тот, не повернув головы.
Мы снова проехали Каменный мост. Теперь я увидел Кремль на фоне густо-желтого закатного неба. Его стены и башни казались легкими, чуть ли не прозрачными с неожиданным то голубым, то розовым оттенком, а зелень холмов и подступившей к стене насыпи темно-изумрудной, как на раскрашенном лубке.
Иван Великий, вытянув лебединую шею, врезался в темнеющий небосвод одиноким перстом. Яркими золотыми точками горели орлы на башнях.
Справа проплыл дом Пашкова. За черной витой оградой неровным пульсом вздрагивал фонтан, и одинокий павлин с длинным волочащимся хвостом неподвижно стоял на взгорье пашковского сада, не то задумавшись, не то разглядывая панораму Кремля и Замоскворечья.
Волхонка была пуста. Мелькнул собор, косым рядом пошли деревянные дома. Мы проехали грязный ручей и круто взяли вверх по Пречистенке.
Внезапно я сказал:
– Остановите.
– Что? – спросил Фальковский.
Солдат натянул вожжи.
– Мне нужно повидать знакомого. Ведь я под условным арестом, не так ли? И могу еще пользоваться кое-какой свободой?
Мы стояли перед домом Листова. Крыша его виднелась за углом переулка.
– Хорошо, – сказал Фальковский.
Мы въехали во двор. Ворота распахнуты, никто не вышел навстречу. Я выпрыгнул из дрожек и пошел к дому.
Уж если Ростопчин знает про Листова, то скрывать нечего. Терять Листова из виду я не хотел. А кто знает, как развернутся события дальше, куда завезут меня дрожки Фальковского.
Я вошел на крыльцо. Вдруг кто-то вскрикнул за моей спиной. Всхрапнули кони, взвизгнули колеса. Я обернулся и успел увидеть выезжающие, точнее, выпрыгивающие из ворот дрожки и лежащего на их спинке навзничь, лицом ко мне, с раскинутыми руками Фальковского.
Черная треуголка осталась лежать на земле.
Я постоял, ожидая продолжения внезапного происшествия. Потом вышел за ворота, оглядел переулок. Никого. Странно. Что произошло? Я поднял треуголку и обошел дом. И здесь никого.
– Никодимыч! – крикнул я во дворе. – Никодимыч!
Где-то залаяла собака, другая ответила, и собачья перекличка огласила пречистенские дворы.
Что случилось с Фальковским? Почему так стремительно умчался экипаж? Уж не хватил ли его какой-нибудь удар? А этот солдат, Федор? Я даже не заметил, был ли он на козлах.
Я достал записку Лепихина и в сумеречном свете догорающего заката разобрал:
«Завтра не позже восьми утра у Красных ворот Зачатьевского монастыря, что на Остоженке».
Я задумался. Куда теперь? Ждать Листова? Куда запропастился Никодимыч? Листов, должно быть, ищет свою невесту. Я также не исключал, что его задерживает Ростопчин. Пожалуй, нужно побродить по Москве, а потом вернуться. Но в какую отправиться сторону?
Я пошел вверх по Пречистенке… Кропоткинская! Я тебя не узнавал, но внутренним чутьем понимал, что это ты, моя улица. Я знал, что ты сгорела, сгоришь этим яростным летом двенадцатого года, а потом отстроишься заново, и я полюблю твои разновысокие особняки, твои переулки и спокойные закаты над тобой.
Ни одного дома! Ни одного дома из тех, что будут стоять потом, но все-таки это ты, без сомнения. Быть может, у каждой улицы с рождения есть душа, а дома – только одежда, которую можно сменить?
В некоторых окнах уже выставлены свечки, но их слабый огонь еще не тревожит коричневатого сумрака. Вдали над подъездом какого-то особняка горят масляные фонари, там видно движение.
