Страница:
Константин Иванович Тарасов
Погоня на Грюнвальд
Год 1409
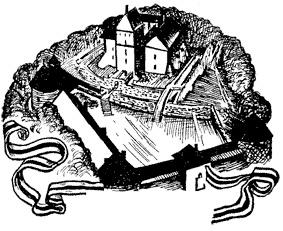
ПОЛОЦКО-НОВГОРОДСКОЕ ПОРУБЕЖЬЕ.
24 ОКТЯБРЯ
С мая месяца, когда восстала Жмудь и началась война с Тевтонским орденом, вот уже без малого половину года Андрей Ильинич был с сотней в разъездах, не сходил с коня. Весь светлый день проводили в седлах, пока солнце не закатывалось или кони не падали. А если падали, на других садились. Помолиться бывало некогда, поесть горячего в иные дни не выпадало. Вечером до соломы, до попоны раскоряками шли. Кинешься, укроешься епанчой, веки слипнутся – а уже восход, вновь на коня, остроги в бок; лес, дорога, грязь, пыль, дождь, жара, жажда. На все четыре стороны кидало, куда только ни отряжали, где только ни побывал. В столицу крыжацкую Мальборк ездили. На Подолье князю Ивану Жедевиду возили письмо – месяц прокачались в седлах, испеклись, иссохлись под солнцем. Князя Витовта в Ленчицу на встречу с королем Ягайлой сопровождали – опять три недели бесслазно. Из Ленчицы вернулись, тут же великий князь выправил на Новгородское порубежье – Семена Ольгердовича встречать. Встретили, проводили в Троки. Князь Семен полдня с князем Витовтом, запершись, проговорили – и в обратный путь. Выслали провожать. Теперь дойти до границы, а там князь сам поскачет. Семена Ольгердовича охранять не то что князя Витовта. У того гон оголтелый, беспрерывно галоп, свист в ушах; сам не отдыхает и другим не дает; все не терпится, все дела, каждая минута будто из золота – боится утратить. Князь Семен не торопится: дорога в Великий Новгород дальняя, день не выиграешь, а час не важен. Спокойно рысит. Тишина. Кони обучены – сами знают строй. Сотня затихла, каждый в свои думы окунулся, соседа словом не дергает, да и о чем говорить: все обговорено, все за пять месяцев вдоль и поперек обсуждено – не дождаться, когда распустят по дворам на зимнее сидение.
Затихла сотня, погрузилась в думы, а думы редко у кого веселые. О чем думает боярин на службе? О хреновой жизни, скверной доле, убогой судьбе. Служи, служи, а в благодарность – кукиш. За пять лет всего и выслужил две деревеньки – одну в три, другую в пять дворов. Потому что веры древней, не латинской. Кто латинской, тому в пять крат быстрей жалуют. А кто они? Кто прежде креста не носил, на огонь молился, сейчас они все в почете, чести, силе. Господи, вон Немировичи... Давно ль старый Немир позади отца в походах держался – ныне полоцкий наместник, в бывшем княжеском дворце сидит повелевает, над древними полоцкими родами возвышен.
Да что бояре! Князей принизили, повыгнали с насиженных мест. Уж на что Семен Ольгердович – лучший воин на всей Литве, Руси и Жмуди, ни одной битвы не проиграл, во всех победил, а в удел получил Мстиславское княжество. А оно пограничное. Кто Смоленск воюет, тот мстиславцев топчет, и смоляне топчут. Но мало, что княжество бедное людьми, с трудом средняя хоругвь соберется, так отправили и самого князя Семена с глаз долой в Великий Новгород. Великий-то он великий, да за реками лежит, две недели гона, два месяца обозы идут. Вот война нависла, сразу вспомнили – надо Мстиславского позвать, он и новгородцев приведет, его любят. Почему же ему Киев не дали согласно заслугам, уму и крови, или Полоцк, или Витебск, или Брест? Потому что веры на латинскую не сменил, подобно Ягайле и Витовту. А ведь он, Семен,– брат королевский, у него побольше прав на виленский посад, чем у князя Витовта.
А вот если бы ему, подумал Андрей, предложили, ну кто, ну великий князь призвал бы и предложил: перекрестись в веру латинскую – огромную получишь вотчину, как у Кезгайлы или у Остика, согласен? Пустой был бы вопрос, Андрей бы и не раздумывал, как надлежало ответить. Только кто предложит? С какой стати? Никто о нем и не припомнит, если счастливый случай бог не пошлет. Вот так годами и будешь мыкаться в седле, мокнуть под дождем, дубеть под солнцем, князей встречать-провожать, возить письма, пока не пробьют лоб чеканом в какой-нибудь стычке или не прошьют стрелой. Девятерых потеряла сотня за это лето, хоть ни с кем и не бились. В Ковно гнали с письмами; вот так же, как здесь, лес обступал. Стволы, зелень, глухие стены с обеих сторон – пуща, вечная глушь. Час предзакатный, тишина, вдруг – жиг! жиг! – и двое валятся с седел, в спине стрелы. Поминай как звали! Кто стрелял? Немцы ли в засаде сидели? Жмудины ли подкупленные? А на Подолье – солнцегар, духота, пёк, в рубахе потно, по три дня кольчуг не снимали: по пятам втрое больший отряд вражий шел. Бой не примешь – вырубят. В железе три дня и скакали, варились, как раки в котле, как грешники в пекле. Тоже пятерых недосчитались. Так всю жизнь можно и промотаться.
Дорога, бесконечная скачка, одурь в уме. Пять месяцев пронеслось скорее недели. Выехали – зеленело, а уже лист облетает, прелью осенней дышит лес, и ничего в памяти – лишь конская грива, сзади храп, топот, ржание коней, да друг Мишка Росевич обок. Случай бы бог послал, вот о чем надо помолиться.
Росевичу хорошо, его нужда не заботит: единственный сын, отцовская вотчина вся ему перейдет. Ну сестрам приданое выделит – невелик ущерб! А их, Ильиничей, шестеро братьев. Раздели вотчину на шесть кусков – что достанется? Дом срубишь, курятник, хлев, а уж сеять тогда только на крыше. Отец и думать не стал: старшим по половине, а младшим – вот мечи, вот кони – выслуживайте.
И отец Мишкин известен на княжеском дворе – товарищем Витовту был, из Крева помогал бежать, коней привел под стены, во всех боях при князе безотлучно ходил, от смерти спасал. Только под Ворсклой ему не повезло, татары саблями покусали – охромел, окривел, сидит в своей Роси, но князь его помнит и на Мишку ласково глядит. Мишке бога не просить. Его великий князь и без бога найдет случай возвысить.
Случай, думал Ильинич. Еще угадать надо, тот ли случай. Ошибиться стало легко. Вон Рамбольд решил отличиться, повел хоругвь на пруссаков, два замка сожгли, рыцарей порубили – и не угадал. Не надо было, мир нарушил. Ягайла с немцами примирился до лета, немцев до лета тронуть не моги. И оказалось, крыжаков рубили на свою же беду. Самому Рамбольду голову и отделили. А не рвался бы – жил-был по сей бы день. Ильинич невольно перекрестился.
– Ты чего? – удивленно спросил Мишка.
– Рамбольд припомнился. Царство ему небесное!
– Да,– вздохнул Мишка,– горько погиб.
Еще бы не горько! Зря, ни за что, за доброе дело. Жесток князь Витовт. Зачем было голову сечь? Хватило бы в подвал кинуть. Война на носу, каждый меч пригодится будущим летом. Умелый был рыцарь, отважный, а его, как татя, трыкнули топором на радость немцам. Суров князь Витовт, думал Андрей. Так любого можно казнить, так каждый может провиниться. На порубежье это легче легкого. Не по вине озлился князь. Конечно, Рамбольд приказ нарушил – потрогал немцев. А что ему оставалось, если крыжаки схитрили, как они любят: в канун перемирия сожгли деревню. Закат догорит – считается уже мир, так ведь не мирно: в деревне хаты догорают, трупы не убраны – некому, всех перебили, и Рамбольдовы люди были там на постое – тоже погибли. Ну как ему было стерпеть? Его друзья посечены, а в двух верстах, в крепости, за деревянной стеной, над которой высятся колокольня и островерхие крыши, пируют немцы: им весело, безопасно, закат угаснет – мир, они песни орут в сотню глоток, этот рев разносится эхом. Как удержаться? Чем ярость свою загасить? Вы нам спели, мы вам споем! Кровь за кровь! Вы с вечерней зарей нас пожгли, мы вас с утренней. А взойдет солнце – тогда и мир, по-честному, на равных.
Печалясь о товарище, Андрей вообразил себя на его месте и сказал себе, что поступил бы так же – сжег бы эту крепость,– и еще признал, что Рамбольд сжег ее ловко – без боя и без потерь. И князь Витовт, наоборот, должен был наградить его за решительность. Андрей представил себя возле Рамбольда, увидел осторожный переход хоругви через лес, долгое томленье на опушке. Между лесом и крепостью лежало просторное жнивье. Солнце садилось, редкие, высокие скирды отбрасывали длинную тень, багряный закат неспешно сходил за край земли. Настала ночь. Угомонились в крепости немцы. Только охрана ходила вдоль стен по внутреннему навесу. Рамбольд сказал: «Ну, за дело!» И два десятка парней тихо, как волки, поползли по колкой стерне, держа на спинах лестницы, связанные из сухостоин. Подобрались, приставили лестницы, полезли на стены. Крыжак охраны услышал шорохи, высунулся поглядеть и получил в лоб стрелу. А уже наши в крепости, прыгают с навеса, бегут к воротам, рубят воротную стражу. Ворота распахнулись, вспыхнул факел – Рамбольд пустил свою полусотню в галоп. Яростный крик мщения разорвал тишину ночи, обрушился на дома, пробудил спящих, и они оцепенели, постигнув, что пришла смерть. Была крыжацкая крепость – стала черная плешь на земле...
А через три дня прибыли к Витовту орденские братья, трое рыжебородых мрачных немцев в белых плащах. Магистр и капитул удивлены: почему великий князь не держит слово? Или нарочно не держит – хочет воевать? Или слово великого князя не закон: кто захочет – нарушит? Кто нарушил – ответит, сказал Витовт. Вынесли плаху, привели Рамбольда, блеснул топор, все невольно зажмурились – горько было глядеть, как погибает смелый жмудин, только палач глядел – чтобы не промахнуться – и немцы – им маслом по сердцу. Да брат Рамбольда надрывно кричал: «Князь, пощади!» И зачем было ублажать этих немцев? Не из-за Рамбольда война началась. Нет Рамбольда, все равно ее не миновать.
Темно, думал Андрей, не понять, о чем думает великий князь. Да и как разобраться в больших делах маленькому человеку? Боярин что воробей – из какой бы кучи зерно утянуть, а великий князь орлом парит над княжеством, все видно ему, все грозы на рубежах – там ливонцы, там пруссаки, там венгры, там татарская орда, обо всех надо думать. Князь сейчас не проигрывает, метко бьет, научила Ворскла. Так звезданули татары, как отроду не терпел. Сам князь стрижом улетал, в Вильно опомнился.
Теперь те же самые татары, что из нас дух выбивали, косяками приняты в княжестве; в Лиде и Троках осажены тысячами, под Гродно огромные таборы стоят. Они не сеют, не жнут, а их поят, кормят, табуны на лучших лугах пасутся; свои, если от голода дохнут,– пусть дохнут, а этим, что ни попросят,– велено сразу же подавать. Почему? Зачем? За какие заслуги?
Поднялись на пологий лысый холм, увенчанный пограничным камнем. Князь Семен Ольгердович дернул поводья – послушный конь застыл. Огляделись. В низине блестела черная петля реки. И леса, леса, ель с сосною, желтые – ольховые, кленовые, березовые перелески. Жухлые метины болот. Порубежье. Влево – псковская, вправо – новгородская, сюда – полоцкая земли.
– Ну что, други,– улыбнулся князь Семен,– спасибо за проводы. Распрощаемся до новой встречи. Даст бог, летом в другую сторону пойдем.
Ильинич с Росевичем и по их примеру сотня поклонились; князь тронул коня и пустил с холма вскачь. И новгородский отряд дружно зарысил следом. «Бывайте!» – «Береги вас бог!» Стояли на холме, смотрели, как новгородцы втягиваются в глухой, вековечный, тронутый багрянцем лес. Отблескивали пристегнутые к седлам шлемы, мелькали красные и бронзовые щиты на широких спинах, колыхались копья, летела из-под копыт дорожная грязь. Скоро скрылись в чаще, и долго уходил гулкий, тяжелый топот, стихал, гас под холодным ветром.
Сотня повернулась и прежней дорогой зарысила к Полоцку. Все заугрюмились – где ночевать? Хоть насмерть загони коней, до вечера в полоцкий замок не успеть, а ночью стража не пустит. У костров – грудью жариться, спиной мерзнуть – опостылело за эту осень. И дождище, похоже, зарядит, ему не прикажешь...
Скоро и впрямь небо затянулось серыми тучами, стало крапать редко, легко, словно нащупывать сухие места. Тогда Селява прискакал к Ильиничу, предложил свернуть с Полоцкого шляха – в двенадцати верстах его вотчина. – К вечере доскачем, медом согреемся. Как-нибудь вповалку – бояре в покоях, в сенях, паробки на гумне, в овине – все укладутся.
Понурая сотня повеселела, жикнула плетьми, кони рванули, помчали на боярский двор, под крышу, к огню.
Задождило, однако, надолго. Серый ситничек сухой нитки не оставит. И новгородцам бедным достанется, вымочит, как нивку, у костра не обсушишься, натерпятся мужики. Но для них это понятно – служба. А князю зачем терпеть? Вот уж услада туда-обратно скакать тысячу верст. На что ему Великий Новгород? Сидел бы в своем Мстиславле. Славы, власти не ищет, как прочие Ольгердовичи; бесы не дергают людям головы сносить. Чем Новгород мять поборами, лучше ливонцев давить.
Но у нас все, думал Ильинич, через пень-колоду: немцу Жмудь отдаем, сами Смоленск воюем. Да что Жмудь! Бывало, полоцкие земли немцам отписывали, ливонцам, крыжакам, извечному своему врагу. Ягайло додумался, когда начал борьбу за власть со старшим братом Андреем, князем Полоцким. Ненавидел Андрея, у того больше прав на виленский трон было, вытеснил из Полоцка, тому и бежать пришлось. Князь Андрей какой-то год в Москве жил, Псков его принял боевым князем, он полоцкую и псковскую хоругви привел Дмитрию Донскому в помощь. На Куликовом поле полк правой руки держал, полоцкие ратники
славой себя покрыли, им архангел Михаил помогал татар сечь, сам бог на их доблесть дивился.
А Ягайла хотел Мамаю помочь, но в битву не вступил – побоялся. Потому и живой. Невзлюбил князя Андрея насмерть, вообще отнял Полоцк, а полочанам наказал: любите, жалуйте младшего моего брата, Скиргайлу. Пожаловали. На старую клячу, обляпанную навозом, посадили мордой к хвосту и выправили на Виленскую дорогу. Юродивые Спасо-Евфросиньевской церкви в свите шли, задницы показывали. И не пикнул, иначе головы бы не унес. Вот тогда Полоцк немцам и подарили. Те пришли, три месяца под стенами проторчали и снялись, когда их споловинили.
А уж затем князя Андрея сглазили бесы, сглупел на старости лет, тронулся умом: своей волей отписал полоцкую землю под власть ливонских крыжаков. Мог великим князем стать, бросил бы клич – Витебск, Мстиславль дали бы людей, вся Белая Русь присоединилась, Полесье, все православное боярство пришло бы в хоругви. Побоялся своих звать, решил – немцы лучше помогут, они в латы одеты, их рубить труднее. Помогли, не отказались, семнадцать трокских и виленских поветов начисто выжгли, нарубились, награбились всласть, три тысячи людей с собою увели – князь Андрей благословил. На том этот князь и кончился, кто любил – все отшатнулись. Скиргайла и Семен Ольгердович скрутили его и куда-то вывезли в подвал на семь лет.
Было времечко – головы слетали, как листья в листопад. Князья дрались, бояре головы ложили: полоцкие за Андрея, гродненские за Витовта, киевские за Владимира. Разберись, боярин, кто удержится, кого завтра скинут, кто ногами засучит от цикуты? Ошибся – плати горлом, в лучшем случае – вотчиной, иди казаковать на лесную дорогу, пока на колесо не покладут. Да и сейчас не легче. Рвешься, служишь, гоняешься за удачей; кажется, пришла, ухватил ее – нет, кукиш, промахнулся, отдай жизнь, как Рамбольд.
Хоть мыслями Андрей цепился ко всему, что убеждало – не надо из кожи лезть, тогда жизнь удлинится, но сердце, нутро все ныло, желало внезапного счастья, того единственного случая, что сразу вознесет в гору. Можно десятками лет выслуживать, к старости по крохам немало собрать, но какая радость старому от табунов, дорогого оружия, богатых одежд: рубиться силы нет, верхом ездить – душу вытрясает, в церковь под руки ведут. А желалось немедленно, пока молод, пока в битвах впереди хоругви становишься, живешь на людях, девок взглядом смущаешь, сейчас, без отсрочки, иметь крепкий двор, сотни коней, десятки паробков, чтобы никто не смел ухмыляться: мол, храбрый ты, конечно, боярин, да что с того, если пять человек выставляешь, а я – тридцать. И случится между нами ссора, мои твоих не мечами, шапками закидают.
Выпал бы случай великому князю услужить, мечталось Ильиничу, особенное для него сделать, ну хоть жизнь спасти. Часто на его жизнь охотятся. Вроде бы и врагов нет, всех побил, прижал, поизвел, кажется, прочно княжествует, а недавно из кухонных подвалов бочонок меда подняли – счастье, собака возле кухаря вертелась, дал руку облизать, тут же глаза и выкатила, завыла, захрипела, пеной захлебнулась, ноги разъехались – выбрасывай. Сейчас стая псов пробы снимает. Но кто замыслил? Как отравленный мед в припасы попал? Конечно, не обошлось без крыжаков. Но как? Кого наняли, подкупили? Это нетрудно: немцы на князев двор как на свой ездят. То жалобы везут, то подарки. Княгине Анне клавикорды прислали, а при них немец – монах, черный ворон,– играет княгине по вечерам, а днем по замку таскается, в каждую щель глаз пялит. Спросят что-нибудь, отвечает: «Не понимайт!» Все понимает, на каждый разговор ухо вострит. Лазутчик! Ему вместо креста камень на шею – и в Гальве...
Вдруг сквозь пелену ситничка потянуло дымом. Селява поровнялся, объяснил: в полуверсте деревенька тут в три двора. Бортники осажены. Мало походило на печной дым, рассеяло бы еще у Хаты. Похоже, жгли что-то или горели. К зиме погореть – смерть. Переглянулись с Селявой – и припустили во весь дух.
Скоро вынеслись на поляну: пожня была по левую руку, небольшое поле по правую и дворы. Действительно, горела правая хата, выли там, кто-то суетливо метался. Но что было неожиданно – на пожне стояли толпой всадники. Андрей сразу прикинул – в толпе поменьше людей, чем при нем. За шорохом дождя, за треском пожара, за бабьими воплями прихода Ильиничевой сотни сразу не заметили, но сейчас кто-то выкрикнул, махнул рукой, толпа обернулась, тут же стала выстраиваться гуфом, а вперед выехал осанистый, сильно уверенный в себе человек и крикнул повелительно:
– Кто такие?
Ильинич близился к нему шагом, решил тянуть время, чтобы сотня полностью вышла из леса. Молчал, приглядывался, увидел на дороге посеченных мужиков в колтришах, понял, что пытались отбиваться секирами, увидел зарубленного боярина и подорванного в брюхо ножом коня —
тот еще вскидывал головой. Поднял руку – это был знак, чтобы сотня развернулась боевым строем. Их старший нетерпеливо и уже с угрозой выкрикнул вторично:
– Кто такие?
– А ты кто? – рявкнул, взбесясь на угрозу, Ильинич.
– Великий князь Швйдригайла!
Сказано было ледяным голосом, с пониманием, что подействует. И подействовало – Ильинич оторопел: Швидригайла, родной брат польского короля, стоял напротив него, прожигал гневным взглядом. Только на миг кольнул Андрея привычный страх перед знатным и страшным именем, кольнул и сменился радостью. Вот он, случай, желанный, единственный, неповторимый! Услыхал бог молитвы, дождик послал, надоумил с полоцкого пути повернуть. Удача! Нареченный час! Швидригайла – трижды изменник, бешеный властолюбец, беглец, душегуб, предатель – шкодит на порубежье. Вспомнилось: князь Витовт чертом носился по Троцкому замку неделю назад – Швидригайлу упустили, ушел, бесследно исчез; кричал искать, найти, хватать, везти обратно; чем скорей – тем больше награда. Много бед натворил тот за последние годы. Другой за всю жизнь столько не наделает, сколько этот сумеет за один день. Василю Дмитриевичу, князю московскому, бегал служить. Из-за него воевать ходили с Москвой, едва примирились. Но и там не усидел, не понравилось среди малых князей ходить. И московскому князю изменил, а чтобы все про это узнали, сжег Серпухов, огнем измену свою припечатал, вернулся с повинной в Троки: «Родине буду служить!» – а спустя неделю выслал кого-то к прусским крыжакам помощи просить – князю Витовту в спину ножом ударить в удобный миг. Хватать его надо, вязать, Витовт не поскупится, отблагодарит, но тень Рамбольда вдруг промелькнула в памяти, остужая решимость. Решил убедиться.
– Почему, князь, свободных людей выбиваешь?
– Не знаю, кто спрашивает?
– Великого князя Александра сотник Ильинич.
В ответ услышал Андрей полные презренья, словно плевок, четыре слова:
– Не твоего ума, холоп, дело!
Захотелось в морду кулаком за «холопа», но сразу же вновь возникло сомнение: может, помирились с Витовтом, может, простили ему грехи, как многажды прощали?... Что-то слишком уверенно глядит. Но примирились бы – не стоял на порубежье в глухих лесах. Потому, решился Ильинич, возьмем. Только живым надо брать, непораненым, брат королевский, Гедиминова корня, Ольгердова кровь, нельзя убить, даже поранить, поцарапать нельзя, с самого потом шкуру снимут. Пусть его князь Витовт хоть на крюк навешивает, а нам ему и зуб выбить опасно. Головы может стоить этот зуб. Но ведь оружия не сложат, вон какие угрюмые, отбиться попробуют. Черт с ними, решил Андрей, с божьей помощью посечем. Приказал твердо:
– Я, князь, тебя и дружину задерживаю. В Полоцк поскачем. Отдай меч!
Швидригайла обнажил меч, тронул лезвие пальцем, сказал жутко:
– Сейчас получишь! – вскинулся на стременах и рванулся к Ильиничу: – Бей! Руби!
Андрей своим людям и знака не подал, сами знали, что делать, не первый был бой. Лишь крикнул, обернувшись:
– Князя брать живым!
Сотня тронулась и, обнимая серпом отряд Швидригайлы, завыла на татарский лад истошными голосами.
Хоть князь Швидригайла в бой ринулся первым, но биться Ильиничу пришлось не с ним. Князя закрыли, он остался за спинами, а на Андрея летели, наставив копье, мрачный, черный крепыш в колонтаре и еще боярин с поднятым мечом. От копья нечем было защищаться – щит лежал на спине, в горячке забыл взять на руку. Андрей решил: «Повалюсь на бок и ударю в живот». Но Андреев лучник Никита упредил, выпустил стрелу – метко, в щеку,– крепыш и запрокинулся – готов. Тут лоб в лоб столкнулись гуфы – треск, звон, крики, конский храп, вопли! Пока Ильинич отбивал удар меча и сек боярина, князя пришлось выпустить из виду, а когда глазами отыскал – обмер и взбесился: окружившись десятком приспешников, тот уходил. «Ромка, Докша, Ямунт, Юшко, ты, ты, ты! – закричал Андрей в лица.– За мной!» – и вынесся из сечи. Коню так вонзил остроги – тот завизжал. Пошли наперерез. Ни страха, ни жестокости не имел, одно заботило: как взять? Бить нельзя, на коне не сдастся, не дай бог к лесу повернет – скроется в буреломе, не найдешь. Краем глаза заметил у Докши сулицу. Крикнул: «Дай!» Взял меч в левую руку, прижал копье локтем – собью! Неслись навстречу бешено. Швидригайла прикрылся щитом, высоко поднял меч. Вороной его конь сверкал черными глазами, серебрилась мокрая шкура, страшно желтели в разинутой пасти зубы, и пена шла из ноздрей. Хороший конь! Жаль было коня, но в шею, чтобы наверняка, насмерть, сулицу и вогнал. Вороной удивленно и горько вздыбился, миг постоял и рухнул на подогнутые ноги. Князь с мечом и щитом полетел через голову, чуть сам себя не заколол. Попытался вскочить, но Ильинич уже падал на него и, зажав голову, душил. Приспешники князя дрогнули, их мечами оттеснили и посекли.
Полупридушенный Швидригайла лежал на мокрой траве. Можно было и продышаться, глянуть по сторонам. Князевых людей крепко уменьшилось, их обложили, и стрельцы спокойно их выбивали. Никита меж тем вязал князю руки; тот приходил в себя, дергался скособоченной головой, хватал ртом воздух, зло всхлипывал. Потом затих, наблюдая, как гибнет его отряд.
Через четверть часа, кто оставался живым, побросали мечи, сдались на милость. Тут случилась приятная неожиданность. Меж пленных оказалось трое немцев. Андрей обрадовался: выкуп за них будет, прибыток нечаянный. Немцев обыскали и нашли два письма, писанных на латыни; кому письма, о чем, и гадать не могли. Но, видя, как немцы и Швидригайла на эти бумаги глядят, Андрей понял – важные. Понравится Витовту, будет за них княжеская милость и награда. Взял их себе, бережно запрятал в свитку. Поднял глаза к серому небу: «Спасибо, господи, удалось, скрутил именитого князя, царапины не поставил; приедем в Полоцк – свечу воскурю в древней Софии, а не казнят – еще одну воскурю, а наградят – пять, десять зажгу». Андрей скрепил обещание крестом и пошел к груде тел. Там стенали о помощи люди, вспоротые лошади вдруг вскидывались и смертельным ржанием звали неживого уже хозяина. Лучники, паробки разбирались: кто дышит, кто дух испустил. С мертвых стягивали кольчуги, панцири, колонтари, снимали пояса. Резали порченых коней, выносили своих раненых, добивали Швидригайловых, потому что не было куда и на чем их вывозить, а оставить на пожне – все равно помрут, только настрадаются в придачу. Жуть взяла. Тридцать человек потеряла сотня, девятнадцать – насмерть, уже в рай стучатся. И Мишка Росевич не уберегся, копьем выдрали бок, едва ль вытянет. Опустился на колени над беззвучным приятелем. Горечь, жалость, терзание в душе. Не стоил такой утраты князь Швидригайла. Не сосчитать верст, что с Мишкой отмерены, а сколько спасали один одного, сколько вместе рисковали, вытерпели дождей, голода, бессонных ночей. Одиноко станет на свете жить, пусто будет без Мишки в сотне. Взмолился: «Иисусе, милый, всемогущий, справедливый, спаси! Дал мне удачу, верни другу моему жизнь. Прояви свою милость и щедрость. Вон наших без одного два десятка лежат, не кругли счет, позволь выжить. Святую душу для жизни спасешь!»
Пришли бабы из деревеньки – жены побитых бортников – своих мужей забирать. Объяснилось, за что их разорили и посекли. Князевы люди сказали: «Дайте на всех поесть и с собой дайте». Мужья ответили: «Если на всех дадим, с чем сами останемся?» Князевы люди сказали: «Силой возьмем», вошли в один хлев – кабан под мечом заверещал. Мужья за рогатины и секиры: оборонимся! Господи, куда ж ты глядишь, как жить теперь?
Ильинич и жалел, и досадовал. С кем заспорили, кому перечили? Он Серпухов сжег, полный город, греха не убоялся. Что ваши дворы? Отдали бы, новое нажили. А так – лежат, головы расколоты, бабы – вдовы, дети – сироты. Никому не нужны. Майся до конца жизни. Но и мужиков можно понять. Почему дай? Насыть такую прорву, они своих жил летом не рвали, а все сожрут, придется кору глодать. Ещё раз убедился – врага взял, который о людях не задумался, с крыжаками шел. Большой дорогой им было нельзя – заставы, а стежками, лесами в обход – голодно, вот натолкнулись на осадников, решили запастись. Хорошо запаслись, половине уже ничего не надо – ни хлеба, ни воды.
Затихла сотня, погрузилась в думы, а думы редко у кого веселые. О чем думает боярин на службе? О хреновой жизни, скверной доле, убогой судьбе. Служи, служи, а в благодарность – кукиш. За пять лет всего и выслужил две деревеньки – одну в три, другую в пять дворов. Потому что веры древней, не латинской. Кто латинской, тому в пять крат быстрей жалуют. А кто они? Кто прежде креста не носил, на огонь молился, сейчас они все в почете, чести, силе. Господи, вон Немировичи... Давно ль старый Немир позади отца в походах держался – ныне полоцкий наместник, в бывшем княжеском дворце сидит повелевает, над древними полоцкими родами возвышен.
Да что бояре! Князей принизили, повыгнали с насиженных мест. Уж на что Семен Ольгердович – лучший воин на всей Литве, Руси и Жмуди, ни одной битвы не проиграл, во всех победил, а в удел получил Мстиславское княжество. А оно пограничное. Кто Смоленск воюет, тот мстиславцев топчет, и смоляне топчут. Но мало, что княжество бедное людьми, с трудом средняя хоругвь соберется, так отправили и самого князя Семена с глаз долой в Великий Новгород. Великий-то он великий, да за реками лежит, две недели гона, два месяца обозы идут. Вот война нависла, сразу вспомнили – надо Мстиславского позвать, он и новгородцев приведет, его любят. Почему же ему Киев не дали согласно заслугам, уму и крови, или Полоцк, или Витебск, или Брест? Потому что веры на латинскую не сменил, подобно Ягайле и Витовту. А ведь он, Семен,– брат королевский, у него побольше прав на виленский посад, чем у князя Витовта.
А вот если бы ему, подумал Андрей, предложили, ну кто, ну великий князь призвал бы и предложил: перекрестись в веру латинскую – огромную получишь вотчину, как у Кезгайлы или у Остика, согласен? Пустой был бы вопрос, Андрей бы и не раздумывал, как надлежало ответить. Только кто предложит? С какой стати? Никто о нем и не припомнит, если счастливый случай бог не пошлет. Вот так годами и будешь мыкаться в седле, мокнуть под дождем, дубеть под солнцем, князей встречать-провожать, возить письма, пока не пробьют лоб чеканом в какой-нибудь стычке или не прошьют стрелой. Девятерых потеряла сотня за это лето, хоть ни с кем и не бились. В Ковно гнали с письмами; вот так же, как здесь, лес обступал. Стволы, зелень, глухие стены с обеих сторон – пуща, вечная глушь. Час предзакатный, тишина, вдруг – жиг! жиг! – и двое валятся с седел, в спине стрелы. Поминай как звали! Кто стрелял? Немцы ли в засаде сидели? Жмудины ли подкупленные? А на Подолье – солнцегар, духота, пёк, в рубахе потно, по три дня кольчуг не снимали: по пятам втрое больший отряд вражий шел. Бой не примешь – вырубят. В железе три дня и скакали, варились, как раки в котле, как грешники в пекле. Тоже пятерых недосчитались. Так всю жизнь можно и промотаться.
Дорога, бесконечная скачка, одурь в уме. Пять месяцев пронеслось скорее недели. Выехали – зеленело, а уже лист облетает, прелью осенней дышит лес, и ничего в памяти – лишь конская грива, сзади храп, топот, ржание коней, да друг Мишка Росевич обок. Случай бы бог послал, вот о чем надо помолиться.
Росевичу хорошо, его нужда не заботит: единственный сын, отцовская вотчина вся ему перейдет. Ну сестрам приданое выделит – невелик ущерб! А их, Ильиничей, шестеро братьев. Раздели вотчину на шесть кусков – что достанется? Дом срубишь, курятник, хлев, а уж сеять тогда только на крыше. Отец и думать не стал: старшим по половине, а младшим – вот мечи, вот кони – выслуживайте.
И отец Мишкин известен на княжеском дворе – товарищем Витовту был, из Крева помогал бежать, коней привел под стены, во всех боях при князе безотлучно ходил, от смерти спасал. Только под Ворсклой ему не повезло, татары саблями покусали – охромел, окривел, сидит в своей Роси, но князь его помнит и на Мишку ласково глядит. Мишке бога не просить. Его великий князь и без бога найдет случай возвысить.
Случай, думал Ильинич. Еще угадать надо, тот ли случай. Ошибиться стало легко. Вон Рамбольд решил отличиться, повел хоругвь на пруссаков, два замка сожгли, рыцарей порубили – и не угадал. Не надо было, мир нарушил. Ягайла с немцами примирился до лета, немцев до лета тронуть не моги. И оказалось, крыжаков рубили на свою же беду. Самому Рамбольду голову и отделили. А не рвался бы – жил-был по сей бы день. Ильинич невольно перекрестился.
– Ты чего? – удивленно спросил Мишка.
– Рамбольд припомнился. Царство ему небесное!
– Да,– вздохнул Мишка,– горько погиб.
Еще бы не горько! Зря, ни за что, за доброе дело. Жесток князь Витовт. Зачем было голову сечь? Хватило бы в подвал кинуть. Война на носу, каждый меч пригодится будущим летом. Умелый был рыцарь, отважный, а его, как татя, трыкнули топором на радость немцам. Суров князь Витовт, думал Андрей. Так любого можно казнить, так каждый может провиниться. На порубежье это легче легкого. Не по вине озлился князь. Конечно, Рамбольд приказ нарушил – потрогал немцев. А что ему оставалось, если крыжаки схитрили, как они любят: в канун перемирия сожгли деревню. Закат догорит – считается уже мир, так ведь не мирно: в деревне хаты догорают, трупы не убраны – некому, всех перебили, и Рамбольдовы люди были там на постое – тоже погибли. Ну как ему было стерпеть? Его друзья посечены, а в двух верстах, в крепости, за деревянной стеной, над которой высятся колокольня и островерхие крыши, пируют немцы: им весело, безопасно, закат угаснет – мир, они песни орут в сотню глоток, этот рев разносится эхом. Как удержаться? Чем ярость свою загасить? Вы нам спели, мы вам споем! Кровь за кровь! Вы с вечерней зарей нас пожгли, мы вас с утренней. А взойдет солнце – тогда и мир, по-честному, на равных.
Печалясь о товарище, Андрей вообразил себя на его месте и сказал себе, что поступил бы так же – сжег бы эту крепость,– и еще признал, что Рамбольд сжег ее ловко – без боя и без потерь. И князь Витовт, наоборот, должен был наградить его за решительность. Андрей представил себя возле Рамбольда, увидел осторожный переход хоругви через лес, долгое томленье на опушке. Между лесом и крепостью лежало просторное жнивье. Солнце садилось, редкие, высокие скирды отбрасывали длинную тень, багряный закат неспешно сходил за край земли. Настала ночь. Угомонились в крепости немцы. Только охрана ходила вдоль стен по внутреннему навесу. Рамбольд сказал: «Ну, за дело!» И два десятка парней тихо, как волки, поползли по колкой стерне, держа на спинах лестницы, связанные из сухостоин. Подобрались, приставили лестницы, полезли на стены. Крыжак охраны услышал шорохи, высунулся поглядеть и получил в лоб стрелу. А уже наши в крепости, прыгают с навеса, бегут к воротам, рубят воротную стражу. Ворота распахнулись, вспыхнул факел – Рамбольд пустил свою полусотню в галоп. Яростный крик мщения разорвал тишину ночи, обрушился на дома, пробудил спящих, и они оцепенели, постигнув, что пришла смерть. Была крыжацкая крепость – стала черная плешь на земле...
А через три дня прибыли к Витовту орденские братья, трое рыжебородых мрачных немцев в белых плащах. Магистр и капитул удивлены: почему великий князь не держит слово? Или нарочно не держит – хочет воевать? Или слово великого князя не закон: кто захочет – нарушит? Кто нарушил – ответит, сказал Витовт. Вынесли плаху, привели Рамбольда, блеснул топор, все невольно зажмурились – горько было глядеть, как погибает смелый жмудин, только палач глядел – чтобы не промахнуться – и немцы – им маслом по сердцу. Да брат Рамбольда надрывно кричал: «Князь, пощади!» И зачем было ублажать этих немцев? Не из-за Рамбольда война началась. Нет Рамбольда, все равно ее не миновать.
Темно, думал Андрей, не понять, о чем думает великий князь. Да и как разобраться в больших делах маленькому человеку? Боярин что воробей – из какой бы кучи зерно утянуть, а великий князь орлом парит над княжеством, все видно ему, все грозы на рубежах – там ливонцы, там пруссаки, там венгры, там татарская орда, обо всех надо думать. Князь сейчас не проигрывает, метко бьет, научила Ворскла. Так звезданули татары, как отроду не терпел. Сам князь стрижом улетал, в Вильно опомнился.
Теперь те же самые татары, что из нас дух выбивали, косяками приняты в княжестве; в Лиде и Троках осажены тысячами, под Гродно огромные таборы стоят. Они не сеют, не жнут, а их поят, кормят, табуны на лучших лугах пасутся; свои, если от голода дохнут,– пусть дохнут, а этим, что ни попросят,– велено сразу же подавать. Почему? Зачем? За какие заслуги?
Поднялись на пологий лысый холм, увенчанный пограничным камнем. Князь Семен Ольгердович дернул поводья – послушный конь застыл. Огляделись. В низине блестела черная петля реки. И леса, леса, ель с сосною, желтые – ольховые, кленовые, березовые перелески. Жухлые метины болот. Порубежье. Влево – псковская, вправо – новгородская, сюда – полоцкая земли.
– Ну что, други,– улыбнулся князь Семен,– спасибо за проводы. Распрощаемся до новой встречи. Даст бог, летом в другую сторону пойдем.
Ильинич с Росевичем и по их примеру сотня поклонились; князь тронул коня и пустил с холма вскачь. И новгородский отряд дружно зарысил следом. «Бывайте!» – «Береги вас бог!» Стояли на холме, смотрели, как новгородцы втягиваются в глухой, вековечный, тронутый багрянцем лес. Отблескивали пристегнутые к седлам шлемы, мелькали красные и бронзовые щиты на широких спинах, колыхались копья, летела из-под копыт дорожная грязь. Скоро скрылись в чаще, и долго уходил гулкий, тяжелый топот, стихал, гас под холодным ветром.
Сотня повернулась и прежней дорогой зарысила к Полоцку. Все заугрюмились – где ночевать? Хоть насмерть загони коней, до вечера в полоцкий замок не успеть, а ночью стража не пустит. У костров – грудью жариться, спиной мерзнуть – опостылело за эту осень. И дождище, похоже, зарядит, ему не прикажешь...
Скоро и впрямь небо затянулось серыми тучами, стало крапать редко, легко, словно нащупывать сухие места. Тогда Селява прискакал к Ильиничу, предложил свернуть с Полоцкого шляха – в двенадцати верстах его вотчина. – К вечере доскачем, медом согреемся. Как-нибудь вповалку – бояре в покоях, в сенях, паробки на гумне, в овине – все укладутся.
Понурая сотня повеселела, жикнула плетьми, кони рванули, помчали на боярский двор, под крышу, к огню.
Задождило, однако, надолго. Серый ситничек сухой нитки не оставит. И новгородцам бедным достанется, вымочит, как нивку, у костра не обсушишься, натерпятся мужики. Но для них это понятно – служба. А князю зачем терпеть? Вот уж услада туда-обратно скакать тысячу верст. На что ему Великий Новгород? Сидел бы в своем Мстиславле. Славы, власти не ищет, как прочие Ольгердовичи; бесы не дергают людям головы сносить. Чем Новгород мять поборами, лучше ливонцев давить.
Но у нас все, думал Ильинич, через пень-колоду: немцу Жмудь отдаем, сами Смоленск воюем. Да что Жмудь! Бывало, полоцкие земли немцам отписывали, ливонцам, крыжакам, извечному своему врагу. Ягайло додумался, когда начал борьбу за власть со старшим братом Андреем, князем Полоцким. Ненавидел Андрея, у того больше прав на виленский трон было, вытеснил из Полоцка, тому и бежать пришлось. Князь Андрей какой-то год в Москве жил, Псков его принял боевым князем, он полоцкую и псковскую хоругви привел Дмитрию Донскому в помощь. На Куликовом поле полк правой руки держал, полоцкие ратники
славой себя покрыли, им архангел Михаил помогал татар сечь, сам бог на их доблесть дивился.
А Ягайла хотел Мамаю помочь, но в битву не вступил – побоялся. Потому и живой. Невзлюбил князя Андрея насмерть, вообще отнял Полоцк, а полочанам наказал: любите, жалуйте младшего моего брата, Скиргайлу. Пожаловали. На старую клячу, обляпанную навозом, посадили мордой к хвосту и выправили на Виленскую дорогу. Юродивые Спасо-Евфросиньевской церкви в свите шли, задницы показывали. И не пикнул, иначе головы бы не унес. Вот тогда Полоцк немцам и подарили. Те пришли, три месяца под стенами проторчали и снялись, когда их споловинили.
А уж затем князя Андрея сглазили бесы, сглупел на старости лет, тронулся умом: своей волей отписал полоцкую землю под власть ливонских крыжаков. Мог великим князем стать, бросил бы клич – Витебск, Мстиславль дали бы людей, вся Белая Русь присоединилась, Полесье, все православное боярство пришло бы в хоругви. Побоялся своих звать, решил – немцы лучше помогут, они в латы одеты, их рубить труднее. Помогли, не отказались, семнадцать трокских и виленских поветов начисто выжгли, нарубились, награбились всласть, три тысячи людей с собою увели – князь Андрей благословил. На том этот князь и кончился, кто любил – все отшатнулись. Скиргайла и Семен Ольгердович скрутили его и куда-то вывезли в подвал на семь лет.
Было времечко – головы слетали, как листья в листопад. Князья дрались, бояре головы ложили: полоцкие за Андрея, гродненские за Витовта, киевские за Владимира. Разберись, боярин, кто удержится, кого завтра скинут, кто ногами засучит от цикуты? Ошибся – плати горлом, в лучшем случае – вотчиной, иди казаковать на лесную дорогу, пока на колесо не покладут. Да и сейчас не легче. Рвешься, служишь, гоняешься за удачей; кажется, пришла, ухватил ее – нет, кукиш, промахнулся, отдай жизнь, как Рамбольд.
Хоть мыслями Андрей цепился ко всему, что убеждало – не надо из кожи лезть, тогда жизнь удлинится, но сердце, нутро все ныло, желало внезапного счастья, того единственного случая, что сразу вознесет в гору. Можно десятками лет выслуживать, к старости по крохам немало собрать, но какая радость старому от табунов, дорогого оружия, богатых одежд: рубиться силы нет, верхом ездить – душу вытрясает, в церковь под руки ведут. А желалось немедленно, пока молод, пока в битвах впереди хоругви становишься, живешь на людях, девок взглядом смущаешь, сейчас, без отсрочки, иметь крепкий двор, сотни коней, десятки паробков, чтобы никто не смел ухмыляться: мол, храбрый ты, конечно, боярин, да что с того, если пять человек выставляешь, а я – тридцать. И случится между нами ссора, мои твоих не мечами, шапками закидают.
Выпал бы случай великому князю услужить, мечталось Ильиничу, особенное для него сделать, ну хоть жизнь спасти. Часто на его жизнь охотятся. Вроде бы и врагов нет, всех побил, прижал, поизвел, кажется, прочно княжествует, а недавно из кухонных подвалов бочонок меда подняли – счастье, собака возле кухаря вертелась, дал руку облизать, тут же глаза и выкатила, завыла, захрипела, пеной захлебнулась, ноги разъехались – выбрасывай. Сейчас стая псов пробы снимает. Но кто замыслил? Как отравленный мед в припасы попал? Конечно, не обошлось без крыжаков. Но как? Кого наняли, подкупили? Это нетрудно: немцы на князев двор как на свой ездят. То жалобы везут, то подарки. Княгине Анне клавикорды прислали, а при них немец – монах, черный ворон,– играет княгине по вечерам, а днем по замку таскается, в каждую щель глаз пялит. Спросят что-нибудь, отвечает: «Не понимайт!» Все понимает, на каждый разговор ухо вострит. Лазутчик! Ему вместо креста камень на шею – и в Гальве...
Вдруг сквозь пелену ситничка потянуло дымом. Селява поровнялся, объяснил: в полуверсте деревенька тут в три двора. Бортники осажены. Мало походило на печной дым, рассеяло бы еще у Хаты. Похоже, жгли что-то или горели. К зиме погореть – смерть. Переглянулись с Селявой – и припустили во весь дух.
Скоро вынеслись на поляну: пожня была по левую руку, небольшое поле по правую и дворы. Действительно, горела правая хата, выли там, кто-то суетливо метался. Но что было неожиданно – на пожне стояли толпой всадники. Андрей сразу прикинул – в толпе поменьше людей, чем при нем. За шорохом дождя, за треском пожара, за бабьими воплями прихода Ильиничевой сотни сразу не заметили, но сейчас кто-то выкрикнул, махнул рукой, толпа обернулась, тут же стала выстраиваться гуфом, а вперед выехал осанистый, сильно уверенный в себе человек и крикнул повелительно:
– Кто такие?
Ильинич близился к нему шагом, решил тянуть время, чтобы сотня полностью вышла из леса. Молчал, приглядывался, увидел на дороге посеченных мужиков в колтришах, понял, что пытались отбиваться секирами, увидел зарубленного боярина и подорванного в брюхо ножом коня —
тот еще вскидывал головой. Поднял руку – это был знак, чтобы сотня развернулась боевым строем. Их старший нетерпеливо и уже с угрозой выкрикнул вторично:
– Кто такие?
– А ты кто? – рявкнул, взбесясь на угрозу, Ильинич.
– Великий князь Швйдригайла!
Сказано было ледяным голосом, с пониманием, что подействует. И подействовало – Ильинич оторопел: Швидригайла, родной брат польского короля, стоял напротив него, прожигал гневным взглядом. Только на миг кольнул Андрея привычный страх перед знатным и страшным именем, кольнул и сменился радостью. Вот он, случай, желанный, единственный, неповторимый! Услыхал бог молитвы, дождик послал, надоумил с полоцкого пути повернуть. Удача! Нареченный час! Швидригайла – трижды изменник, бешеный властолюбец, беглец, душегуб, предатель – шкодит на порубежье. Вспомнилось: князь Витовт чертом носился по Троцкому замку неделю назад – Швидригайлу упустили, ушел, бесследно исчез; кричал искать, найти, хватать, везти обратно; чем скорей – тем больше награда. Много бед натворил тот за последние годы. Другой за всю жизнь столько не наделает, сколько этот сумеет за один день. Василю Дмитриевичу, князю московскому, бегал служить. Из-за него воевать ходили с Москвой, едва примирились. Но и там не усидел, не понравилось среди малых князей ходить. И московскому князю изменил, а чтобы все про это узнали, сжег Серпухов, огнем измену свою припечатал, вернулся с повинной в Троки: «Родине буду служить!» – а спустя неделю выслал кого-то к прусским крыжакам помощи просить – князю Витовту в спину ножом ударить в удобный миг. Хватать его надо, вязать, Витовт не поскупится, отблагодарит, но тень Рамбольда вдруг промелькнула в памяти, остужая решимость. Решил убедиться.
– Почему, князь, свободных людей выбиваешь?
– Не знаю, кто спрашивает?
– Великого князя Александра сотник Ильинич.
В ответ услышал Андрей полные презренья, словно плевок, четыре слова:
– Не твоего ума, холоп, дело!
Захотелось в морду кулаком за «холопа», но сразу же вновь возникло сомнение: может, помирились с Витовтом, может, простили ему грехи, как многажды прощали?... Что-то слишком уверенно глядит. Но примирились бы – не стоял на порубежье в глухих лесах. Потому, решился Ильинич, возьмем. Только живым надо брать, непораненым, брат королевский, Гедиминова корня, Ольгердова кровь, нельзя убить, даже поранить, поцарапать нельзя, с самого потом шкуру снимут. Пусть его князь Витовт хоть на крюк навешивает, а нам ему и зуб выбить опасно. Головы может стоить этот зуб. Но ведь оружия не сложат, вон какие угрюмые, отбиться попробуют. Черт с ними, решил Андрей, с божьей помощью посечем. Приказал твердо:
– Я, князь, тебя и дружину задерживаю. В Полоцк поскачем. Отдай меч!
Швидригайла обнажил меч, тронул лезвие пальцем, сказал жутко:
– Сейчас получишь! – вскинулся на стременах и рванулся к Ильиничу: – Бей! Руби!
Андрей своим людям и знака не подал, сами знали, что делать, не первый был бой. Лишь крикнул, обернувшись:
– Князя брать живым!
Сотня тронулась и, обнимая серпом отряд Швидригайлы, завыла на татарский лад истошными голосами.
Хоть князь Швидригайла в бой ринулся первым, но биться Ильиничу пришлось не с ним. Князя закрыли, он остался за спинами, а на Андрея летели, наставив копье, мрачный, черный крепыш в колонтаре и еще боярин с поднятым мечом. От копья нечем было защищаться – щит лежал на спине, в горячке забыл взять на руку. Андрей решил: «Повалюсь на бок и ударю в живот». Но Андреев лучник Никита упредил, выпустил стрелу – метко, в щеку,– крепыш и запрокинулся – готов. Тут лоб в лоб столкнулись гуфы – треск, звон, крики, конский храп, вопли! Пока Ильинич отбивал удар меча и сек боярина, князя пришлось выпустить из виду, а когда глазами отыскал – обмер и взбесился: окружившись десятком приспешников, тот уходил. «Ромка, Докша, Ямунт, Юшко, ты, ты, ты! – закричал Андрей в лица.– За мной!» – и вынесся из сечи. Коню так вонзил остроги – тот завизжал. Пошли наперерез. Ни страха, ни жестокости не имел, одно заботило: как взять? Бить нельзя, на коне не сдастся, не дай бог к лесу повернет – скроется в буреломе, не найдешь. Краем глаза заметил у Докши сулицу. Крикнул: «Дай!» Взял меч в левую руку, прижал копье локтем – собью! Неслись навстречу бешено. Швидригайла прикрылся щитом, высоко поднял меч. Вороной его конь сверкал черными глазами, серебрилась мокрая шкура, страшно желтели в разинутой пасти зубы, и пена шла из ноздрей. Хороший конь! Жаль было коня, но в шею, чтобы наверняка, насмерть, сулицу и вогнал. Вороной удивленно и горько вздыбился, миг постоял и рухнул на подогнутые ноги. Князь с мечом и щитом полетел через голову, чуть сам себя не заколол. Попытался вскочить, но Ильинич уже падал на него и, зажав голову, душил. Приспешники князя дрогнули, их мечами оттеснили и посекли.
Полупридушенный Швидригайла лежал на мокрой траве. Можно было и продышаться, глянуть по сторонам. Князевых людей крепко уменьшилось, их обложили, и стрельцы спокойно их выбивали. Никита меж тем вязал князю руки; тот приходил в себя, дергался скособоченной головой, хватал ртом воздух, зло всхлипывал. Потом затих, наблюдая, как гибнет его отряд.
Через четверть часа, кто оставался живым, побросали мечи, сдались на милость. Тут случилась приятная неожиданность. Меж пленных оказалось трое немцев. Андрей обрадовался: выкуп за них будет, прибыток нечаянный. Немцев обыскали и нашли два письма, писанных на латыни; кому письма, о чем, и гадать не могли. Но, видя, как немцы и Швидригайла на эти бумаги глядят, Андрей понял – важные. Понравится Витовту, будет за них княжеская милость и награда. Взял их себе, бережно запрятал в свитку. Поднял глаза к серому небу: «Спасибо, господи, удалось, скрутил именитого князя, царапины не поставил; приедем в Полоцк – свечу воскурю в древней Софии, а не казнят – еще одну воскурю, а наградят – пять, десять зажгу». Андрей скрепил обещание крестом и пошел к груде тел. Там стенали о помощи люди, вспоротые лошади вдруг вскидывались и смертельным ржанием звали неживого уже хозяина. Лучники, паробки разбирались: кто дышит, кто дух испустил. С мертвых стягивали кольчуги, панцири, колонтари, снимали пояса. Резали порченых коней, выносили своих раненых, добивали Швидригайловых, потому что не было куда и на чем их вывозить, а оставить на пожне – все равно помрут, только настрадаются в придачу. Жуть взяла. Тридцать человек потеряла сотня, девятнадцать – насмерть, уже в рай стучатся. И Мишка Росевич не уберегся, копьем выдрали бок, едва ль вытянет. Опустился на колени над беззвучным приятелем. Горечь, жалость, терзание в душе. Не стоил такой утраты князь Швидригайла. Не сосчитать верст, что с Мишкой отмерены, а сколько спасали один одного, сколько вместе рисковали, вытерпели дождей, голода, бессонных ночей. Одиноко станет на свете жить, пусто будет без Мишки в сотне. Взмолился: «Иисусе, милый, всемогущий, справедливый, спаси! Дал мне удачу, верни другу моему жизнь. Прояви свою милость и щедрость. Вон наших без одного два десятка лежат, не кругли счет, позволь выжить. Святую душу для жизни спасешь!»
Пришли бабы из деревеньки – жены побитых бортников – своих мужей забирать. Объяснилось, за что их разорили и посекли. Князевы люди сказали: «Дайте на всех поесть и с собой дайте». Мужья ответили: «Если на всех дадим, с чем сами останемся?» Князевы люди сказали: «Силой возьмем», вошли в один хлев – кабан под мечом заверещал. Мужья за рогатины и секиры: оборонимся! Господи, куда ж ты глядишь, как жить теперь?
Ильинич и жалел, и досадовал. С кем заспорили, кому перечили? Он Серпухов сжег, полный город, греха не убоялся. Что ваши дворы? Отдали бы, новое нажили. А так – лежат, головы расколоты, бабы – вдовы, дети – сироты. Никому не нужны. Майся до конца жизни. Но и мужиков можно понять. Почему дай? Насыть такую прорву, они своих жил летом не рвали, а все сожрут, придется кору глодать. Ещё раз убедился – врага взял, который о людях не задумался, с крыжаками шел. Большой дорогой им было нельзя – заставы, а стежками, лесами в обход – голодно, вот натолкнулись на осадников, решили запастись. Хорошо запаслись, половине уже ничего не надо – ни хлеба, ни воды.
