Страница:
Через четыре дня Фридрих покинул Нюрнберг. А накануне прислал к Дюреру своего слугу с деньгами — жаловал их живописцу на кисти и краски. О плате же за картины договорятся особо.
Начал Дюрер с портрета. Здесь откладывать нельзя: улетучатся из памяти подмеченные детали. Поскольку вроде бы порицал Фридрих итальянскую манеру, стал писать под Вольгемута. А рука не повинуется разуму. В результате с завершенного портрета взирал на зрителя нюрнбергский патриций с дерзкими глазами итальянского кондотьера. Во всяком случае, был это не тот Фридрих, который раскатисто хохотал на приеме в бурге.
С алтарем — та же история. Тему его центральной части задал курфюрст; проиллюстрировать слова Симона, сказанные богородице: и меч пронзит душу твою. Другими словами, предстояло Дюреру изобразить мадонну скорбящую. Вольгемут сказал бы — нечего здесь мудрствовать, есть каноны, по ним и пиши. Альбрехт же отказался от всех обязательных в немецкой живописи символов. Он просто изобразил охваченную печалью мать. В нише окна пустого храма Мария молится над младенцем. Жесток и безразличен мир, поджидающий ребенка там, за толстыми стенами. В нем мало тепла и ласки, там с момента рождения человек обречен на физические и нравственные муки.
Не случайно изобразил Альбрехт на боковых створах святого Антония и святого Себастьяна: первый испытал все нравственные муки, второй — физические. Первой увидела картину его мать.
Необычность решения темы потрясла Барбару. Страшной показалась ей богоматерь своей обычностью — не святой была она, а простой женщиной. Барбара заплакала. Привычный для нее мир менялся, наступали грозные и непонятные времена. И эти изменения вдруг воплотились в сознании матери в святой Марии, написанной ее сыном богородице, которая не защитит, ибо сама беззащитна.
Начав работу для курфюрста, Альбрехт и не думал о том, что она потребует столько времени и сил. Прошла весна, лето давно уже вступило в свои права, а он даже не заметил этого. Каждый новый день начинался точно так же, как предыдущий. Кисти, краски… Проснувшись, художник спешил к своему алтарю, засыпая, думал только о нем.
С Вилибальдом виделся редко. Беседы сводились в основном к монологам молодого Пиркгеймера о своих дипломатических успехах. На пасху 1496 года, к великой радости старого Иоганна, Вилибальд большинством голосов был избран членом патрицианского совета Нюрнберга. Город, невзирая на молодость Пиркгеймера, возложил на него обязанность регулировать спорные вопросы с соседями. А споров Нюрнбергу хватало. Пиркгеймеру с одних переговоров приходилось мчаться на другие, лишь на короткое время заезжая домой. Удача, как кажется, сопутствовала ему, и это заставляло Вилибальда втягиваться в дело, которым он еще недавно готов был пожертвовать ради науки или литературы.
А Дюрер тем временем писал алтарь да исподволь создавал собственную мастерскую. Появились и первые ученики. И вот в одно прекрасное утро он вдруг заметил, что лето подходит к концу. Неудержимо потянуло прочь из пыльного и душного Нюрнберга. Стал снова исчезать на целые дни из дома. Только теперь не уходил далеко, как раньше, держался берега Пегница. Зарисовал почти все мельницы на реке, в том числе так называемые «Большую» и «Малую». Если уставала рука и утомлялся глаз, бросался ничком на пропахшую зноем землю. Нежно шелестели деревья, баюкали, возвращая в счастливую пору детства, когда все было так просто и ясно.
Там, за городом, впервые услышал разговор о том, что в одной из окрестных деревень родилась необычная свинья — об одной голове, но о двух телах. Толковали диковину по-разному, но большинство сходилось на том, что она не предвещает ничего хорошего. А городские мудрецы решили: это не иначе как предзнаменование окончательного раздела империи. Известно: что больше всего волнует, то и во всяком деле видится.
Погряз в это время император Максимилиан в повой авантюре. В 1495 году на вормском рейхстаге выколотил он из владык немецких княжеств и городов крупные суммы. А на что их ухлопал? Начал новую войну — на этот раз в Италии. Женился он на Бьянке Сфорца, дочери убитого в 1476 году миланского герцога, получил в приданое триста тысяч золотых дукатов. Кажется, взял бы и на том успокоился. Но нет — подавай ему миланские владения. И снова война. Не приведет это ни к чему хорошему!
Дорогу в деревушку было легко найти. Валом валил по ней народ. Действительно, чудище! Одна голова, два туловища, четыре пары ног, одна из которых растет прямо из загривка. Дюрер просил хозяев разрешить это чудо зарисовать. Согласились. Рисунок Дюрер показал крестному. Кобергер потребовал сделать гравюру. И немедленно. Много часов, не разгибая спины, бился Альбрехт над медной пластиной. Лишь к утру, стерев со лба пот, отошел от стола. Постоял в раздумье, снова сел и вырезал на пластине свою монограмму —
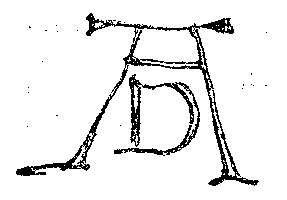
Через час, скрипел уже в кобергеровской типографии пресс.
Еще раз подтвердил крестный свою деловую хватку. Гравюру рвали из рук. Из доходов крестный выделил Альбрехту половину — это было немало. Впервые Агнес проявила интерес к делам мужа, с утра отправлялась на рынок, ученик из мастерской тащил за нею стопу гравюр, еще пахнущих типографской краской. Кобергеру предприимчивость Агнес нравилась: с такою супругою не пропадешь.
Идею с монограммой Кобергер тоже одобрил. Теперь нужно выходить на рынок. Да не на нюрнбергский, а пошире. Самим торговать гравюрами хлопотно. Нужны посредники, они понесут гравюры в другие города и страны, прославят имя мастера, создавшего их. Вскоре прислал Кобергер к Дюреру своего фактора Конца Швейцера, который рискнул взять на комиссию его гравюры. 8 июля 1497 года был подписан договор. Осторожный Швейцер лишь на год брал на себя обязательство «возить дюреровские гравюры из одной страны в другую, из одного города в другой» и по мере возможностей торговать ими, стремясь добиваться наиболее высокой цены, а также не оставлять их там, где нет на них спроса. Выручку обязался передавать Дюреру регулярно за вычетом еженедельной платы за услуги в размере полугульдена. Через две недели заключил Дюрер такой же договор и со Штефаном Кобергером.
Появились тем временем и первые серьезные заказчики из Нюрнберга. Первыми заказали свои портреты сестры-патрицианки Фюрлингер. Альбрехт старался как мог, ибо нравились ему сестры — веселые, говорливые, не закрывавшие рта во время сеансов.
В начале осени возвратились Конц и Штефан. В соответствии с договором записали они «на бумажке» все проданные гравюры и выручку за них. Кроме этой «бумажки», не получил Альбрехт почти ничего: неходовой товар пока что гравюры в Германии, платят за них в десять раз меньше, чем за пару перчаток. Так что те жалкие гульдены, которые удалось выручить, перекочевали в карманы посредников за услуги. Кобергер, однако, советовал не опускать рук. Нужно, убеждал он, завоевывать итальянские рынки. Ясное дело — трудно.
Снова легли на стол Дюрера привезенные из Италии гравюры и рисунки. А у Кобергера продолжали печатать «Четырех ведьм». Им первым суждено перевалить Альпийские горы, проложить другим гравюрам путь в итальянские города.
Легко говорить, что нюрнбергские жернова все перемелют. Велением судьбы и по своей воле Альбрехт Дюрер оказался вдруг в положении этого самого жернова и понял, что задачу поставил себе не из легких. Не так просто отказаться от традиций. Еще сложней привить людям новые вкусы. Какая-то раздвоенность видна в начавшемся после возвращения из Италии периоде творчества художника.
Дюрер был в отчаянии, метался от одной крайности к другой. Похоже, не раз называл себя бездарью, и от такой мысли у него опускались руки. Не она ли привела его к поспешному бегству из Италии — домой, к привычному, устоявшемуся? Он не понимал, чего достиг, как ребенок не замечает своего роста. Под карандашом и штихелем Дюрера пятна распались на линии, сплетающиеся, расходящиеся, прерывающиеся, вновь соединяющиеся. Гравюра вдруг обрела внутреннее движение. Если раньше только искушенный, натренированный глаз мог полностью понять изображенное, то теперь гравюра стала доступна каждому. Она стала своего рода книгой — рассказывающей, поясняющей, просвещающей. Она начала действовать на чувства, заставляя любить и ненавидеть, смеяться и плакать. Всего лишь несколько месяцев отделяло Дюрера от одного из основных подвигов его жизни. Всего лишь несколько месяцев, когда, опередив многих, он скажет мятущемуся, не видящему выхода народу: вот человек, жизни которого ты должен следовать, вот личность, которая несет добро, зовет тебя сравняться с нею. С того времени, когда столкнула его судьба с Себастьяном Брантом, бичевателем пороков и моралистом, неоднократно думал он об идеале и смысле жизни. Теперь он, как казалось, нашел ответ на свой вопрос. Он спустил бога на землю. Показал на него: вот таким должен быть человек. Но если ты не исправишь своих пороков, то ждет тебя то, что описано Иоанном Богословом. Дюрер перевел Евангелие на доступный для него и основной массы народа язык — язык рисунка.
Первый сеятель вышел в ноле и бросил начальную горсть семян, еще не ведая того, что сеет ветер, который обернется сокрушающей бурей. На рынках немецких городов появились гравюры из задуманной Дюрером монументальной серии «Страстей Христовых». Знатоки видели в них повторение гравюр Шонгауэра, искали совпадений в композиции и разночтений, но открытая Дюрером техника, облекшая бестелесных существ из неведомого мира в реальную плоть, сознательное изображение евангельских персонажей в современных Дюреру одеждах, казалось, говорили зрителям: на этой земле сию минуту распинают Христа и попирают оставленные им заветы. Видимо, так и воспринимались его гравюры теми, кто мучительно искал ответа на вопрос — что же произошло, почему все вдруг стало вверх ногами, а мир, кажется, катится к пропасти? Не гравюры на мифологические темы находили сбыт, а рассказ о жизни Христа, тысячу раз уже слышанный и известный во всех поворотах сюжета. Что-то новое, тревожащее было в этих гравюрах, которые заставляли задуматься и вроде бы давали ответ, но на самом деле ставили новые вопросы — что же делать, как быть дальше? Иногда всего важнее бывает поставить вопрос, ибо беспокойный человеческий разум не угомонится до тех пор, пока не найдет на него ответ. Таков был дух Возрождения.
Шли бесконечные споры в пивной, где обычно собирались патрицианские отпрыски, но куда был допущен Дюрер, хотя в принципе ему как сыну ремесленника и самому ремесленнику здесь было не место. Тут же искали выхода. Тревожные известия докатывались до Нюрнберга, и молодой Пиркгеймер уже начал говорить о том, что исправление нравов нужно начинать с Совета сорока. К его словам прислушивались, пожимали плечами, удивлялись смелости суждений, однако наскоки на власть, к которой Вилибальд и сам был причастеи, объясняли молодостью и незрелостью мысли. Потом-то все это ему припомнят…
Все больше распространялось в странах Европы недовольство существующими порядками, все большее количество людей выражало нежелание мириться со своим положением. Низы искали возможности выразить свои требования. Для них доступен был язык различных «пророков», толковавших Библию и отражавших их чаяния. Все чаще в нюрнбергской «пивной для господ» говорили о том, что заворошился крестьянский и ремесленнический люд, что появились в городе пророчества сожженного на костре безумца Ганса Бёла, «дударя из Никласхаузена». Само имя его по велению папы следовало забыть, а вот поди же — помнят. Опасны были пророчества Бёма, ох как опасны, и это понимали патриции. Они не имели ничего против распространения моральных писаний Себастьяна Бранта, в которых призывал бывший поэт к самоусовершенствованию и искоренению пороков. А вот «дударь» — да будет забыто его имя! — советовал во имя спасения от надвигавшихся на немецкий народ бедствий разделить между всеми поровну имущество, отменить налоги и подати, предоставить всем право бесплатно пользоваться пастбищами, охотничьими и рыбными ловлями, платить священнослужителям не больше, чем поденщикам, искоренить накопительство и скопидомство.
И если бы только было дело в распространении сочинений этого богом и папой проклятого еретика! Появились и новые пророки, которые требовали того же. От новоявленных проповедников «божьего слова» и ревнителей забытых божьих заповедей на улицах Нюрнберга проходу уже не было. С ввалившимися щеками, горящими глазами, худые, будто сама смерть, потрясали они кулаками и драли глотки на площадях города. Кричали — разве не нынешнего папу-антихриста имел в виду святой Иоанн в своем «Откровении», говоря о семиглавом звере, на семи диадемах которого начертаны слова богохульные? Люди, посмотрите окрест себя: вон за каменными стенами, за железными дверьми, за окнами с крепкими решетками сидят ваши погубители! Они утаили от вас божьи заповеди — или вы можете читать Евангелие, которое до сих пор печатают на неизвестном для вас языке? Люди, те, кто погряз в разврате, убийствах и стяжательстве, откупятся от Страшного суда индульгенциями, денег им не занимать. А вы-то, горемыки, ничем не провинившиеся, вы-то за что пострадаете? Близок божий суд! Прольется чаша гнева господня! Приближается день и час расплаты! Смутьянов строго карали, выталкивали в лучшем случае взашей за ворота города, но они были неистребимы, появлялось их все больше и больше.
Настала пора, когда спрашивающих стало больше, чем отвечающих. Был час ожидания новых пророков. И воцарился повсюду страх. Наводнения, землетрясения, моры, которым раньше не придавалось особого значения, теперь толковались как знамения свыше. Начались видения. Городские власти сочли достойным занесения в анналы Нюрнберга рассказ одной старушки из Кузнечного переулка, которой некий голос приказал подняться среди ночи и отправиться в храм святого Зебальда. Там увидела она давно уже почивших сограждан и каких-то странных безголовых людей, которые истово молились. Но не богу, а дьяволу! Другие же видели не раз на городских кладбищах Человека в красном, ходившего среди могил и помечавшего что-то в своей книжице. Вновь ожили сказания о Диком охотнике, дьяволе, высматривающем свою добычу. Потом распространилось в Нюрнберге предсказание безымянного астролога, в котором говорилось, что 25 февраля 1524 года обрушится на мир второй потоп. Было время великого ужаса…
Этот ужас будет продолжаться четверть века, то утихая, то вновь вспыхивая. Люди будут жить с ним, и он будет определять их помыслы и действия. Кто знает, может быть, иным путем пошло бы творчество Дюрера. Возможно, привил бы он своим соотечественнике м новый взгляд на искусство, не будь всего этого. Но он жил и творил в то время, когда, не вынеся мучительного ожидания Страшного суда, грешники кончали жизнь самоубийством, совершая тем самым еще больший грех, когда на площадях городов толпы людей занимались самобичеванием и ползли на коленях в церкви, оставляя за собою кровавые следы, когда прелюбодеи и браконьеры публично каялись в совершенных ими преступлениях, когда вчера еще цеплявшиеся за каждый грош ремесленники раздавали все свое имущество и шли с протянутой рукой на паперть. Дюрер родился и вырос в религиозной семье, он верил и в бога и в Страшный суд, он знал, что по немецким традициям изображение обнаженного тела считается греховным. Можно лишь отчасти представить те страдания и муки, которые раздирали его душу и сердце, и следует поражаться тому мужеству, с которым он продолжал начатое дело, той вере в человеческий разум и в конечную победу Света над Тьмою, Жизни над Смертью, Добра над Злом, которую он пронес до последнего своего часа.
Он работал над «Страстями Христовыми», обдумывал новую серию «Жизнь Марии», рассказ о радостях, страданиях и мучениях женщины, родившей того, кому следовало подражать в это страшное время. Но где-то в его сознании уже зрела, обретала конкретные образы новая тема — тема «Апокалипсиса».
Пели школяры: живу я и не знаю, как долго, умру я, по вот только когда, еду я, не ведая куда, и удивляет меня лишь одно — почему же я все-таки счастлив? И хотя шли дни, неумолимо приближая человечество к гибели — в этом никто не сомневался, — но, молясь и каясь, занимались люди своими делами — воевали, торговали, производили себе подобных. Помолившись и купив индульгенцию, старались забыть о предстоящих кошмарах. Так же поступал и Дюрер. Он будто даже стал торопиться запечатлеть мир, которому предстояла гибель. Для кого? Для чего? Но не сидеть же сложа руки в ожидании Страшного суда!
«Мужская баня»… На гравюре он сам, Вилибальд Пиркгеймер, неизвестно зачем затесавшийся в их компанию Михаэль Вольгемут. Распаренные, они отдыхают в садике подле бани, ведут неторопливую ученую беседу. Ублажают себя яствами и музыкой. Ничего грозного, ничего страшного. Мир пока еще полон гармонии.
«Сон доктора»… Пиркгеймер, раздобревший, умиротворенный, заснул у теплой печки. Снится ему прекрасная Венера. Не поддавайся соблазнам, Вилибальд, проснись, и ты увидишь за спиною дьявола, который, орудуя кузнечными мехами, навевает эти порочные сны.
Ночами те же размышления о грехах и те же сны, где образ Дикого охотника переплетался с образами всадников из «Апокалипсиса». Днями — работа до изнеможения. Рисунки и гравюры теперь отложены. Альбрехт принялся за картину, изображавшую святого Иеронима на покаянии в Халкидонской пустыне. Название — дань традиции. Пустыни как таковой здесь нет. Есть город с красными стенами — такими же, какие окружают и Нюрнберг. Есть одетые пышной зеленью деревья, есть горы, покрытые снегом, — несомненно, Альпы. Передний план выписан особенно тщательно, каждая былинка, каждый кустик. Да, это травы и цветы его родной земли.
Картина, пронизанная светом и радостью бытия, — его последняя попытка оттянуть время исполнения темы, которая все больше созревает в нем, которая уже созрела. На обороте березовой доски «Св. Иероиим» изображена кроваво-красная звезда, разрывающая облака, та самая, которая недавно взошла на нюрнбергском небе и свет которой от ночи к ночи становится все ярче, все страшнее.
Уже набросаны на доске фигуры четырех всадников. Положено начало гравюрам, на которых не будет тихих летних закатов, трав и цветов, источающих пряный аромат, спокойных задумчивых гор. Не будет Жизни, а будут слезы и муки, ужас, объемлющий землю, мрак и тоска. Будет Смерть.
Он не представлял, какой труд взваливал на себя. Туманны были «Откровения» Иоанна, каждая строка их так многосмысленна. Только молодость могла дерзнуть на толкование того, что не могли богословы. Здесь невозможно обойтись одной фантазией, здесь нужно точное знание.
А вокруг каких только слухов не приходилось слышать! После появления хвостатой звезды говорили об «Апокалипсисе» почти в каждом нюрнбергском доме, толковали его кто во что горазд. Даже в «пивной для господ» и то прекратились неторопливые беседы о положении дел в империи, новых рынках и городских финансах. И здесь теперь чуть не рвала друг другу волосы, споря о том, как понимать «Откровение». Как не хватало точного перевода Библии на немецкий язык! Говорил Дюрер об этом с приором монастыря августинцев Эвхарием Кара. Приор разделял его точку зрения. Да, давно бы пора немцам иметь свою Библию. Но кто рискнет взяться за такое дело? Рим считает, что незачем простому мирянину вникать в ее суть. Согласился Кара помочь Альбрехту. Подробно разъяснял ученый богослов все символы и намеки, содержащиеся в «Апокалипсисе». Но беседовал с Альбрехтом так, будто закончил живописец богословский факультет. Снимал с полок книги, рукописи, приводил мнения известных теологов. Как-то неудобно было просить Эвхария говорить пояснее, а сам он этого не замечал. Иногда вся беседа сводилась к толкованию какого-нибудь одного-единственного слова, и тогда на помощь себе привлекал приор греческие и древнегреческие тексты.
Полезны, спору нет, были полученные знания, но для художника мало пригодны. Найти бы человека, который бы просто точно перевел ему текст! Вилибальд, конечно, мог бы помочь, однако новоиспеченного члена городского совета мирские дела интересовали куда больше богословия. И все же о просьбе друга он помнил. Однажды завалился к нему почти в полночь, перепугав раскатистым басом всех насмерть. Есть, мол, знаток «Апокалипсиса»! Искали его за тридевять земель, а он тут, рядом: Иоганн Пиркгеймер — его отец!
Потом уж все выяснилось. Не меньше других в городе прислушивался старый Пиркгеймер к слухам о предстоящем светопреставлении. Верил ли в это? Пожалуй. Ведь недаром именно теперь принял он решение уйти в монастырь. Замаливать грехи? Укрыться от предстоящих бед? Кто знает, какие мысли и соображения таились за мощным лбом советника многих мирских и церковных владык. Но главное было в том, что в разговоре с сыном согласился он помочь его другу, способствовать благому делу. Советовал Вилибальд Альбрехту не тянуть, завтра же встретиться с Иоганном. Может передумать — у каждого старика, как известно, свой норов.
Вопреки опасениям Пиркгеймера-младшего старый нюрнбергский патриций воспринял просьбу Дюрера благожелательно. Стремление молодого художника постигнуть тайны «Откровения», над которым бился он сам, и поведать о них людям счел заслуживающим всяческой поддержки. По крайней мере, среди этих многочисленных шалопаев нашелся хоть один, кто наконец задумался о смысле жизни. Ясное дело, имел в виду прежде всего собственного сына: в последнее время Иоганна раздражало до крайности то, что Вилибальд и в Нюрнберге пытался вести тот же образ жизни, какой он вел в Италии. Сплетни о его выходках и сомнительных связях доходили до ушей старого Пиркгеймера, и тот трудно переживал «вырождение Пиркгеймерова рода».
Первый разговор с ученым патрицием вызвал у Дюрера страх: вновь точно так же, как в беседах с Эвхарием Каром, придется плутать в богословских дебрях! Хотелось без обиняков сказать: не это мне нужно! Однако сдерживался, боясь обидеть собеседника. А Пиркгеймер говорил о смысле, заложенном в «Апокалипсисе», который, как ему казалось, он наконец постиг. Истина заключается не в уничтожении сущего, как твердят не переставая все эти доморощенные оракулы, а в возвращении к жизни без греха, к богу, единому началу и одновременно цели бытия. Должен, по его мнению, Альбрехт подчеркнуть своими гравюрами необходимость искоренения пороков, но отнюдь не лишать людей надежды. Ведь заканчивается «Апокалипсис» не картиной всеобщей гибели, а описанием Нового Иерусалима. Медленно, не торопясь развивал свои мысли старик, видимо, уже завершавший земной путь и прозревший многое. Добрую половину его слов Дюрер не понимал. Но, как кажется, схватывал главное. К этим главным была н а д е ж д а.
Когда потом люди, вечно стремящиеся заглянуть в будущее и объяснить прошлое, обратятся к тем нелегким годам, они скажут, что именно там, на перепутье средневековья и нового времени, рождалась идея о бессмертии человеческого рода и о его бесконечном пути через тернии к звездам. Как женщина, носящая под сердцем ребенка, человечество терзало себя картинами предстоящих мук и, может быть, гибели, но надежда на будущее безграничное счастье все-таки была сильнее. Она рождалась в кабинетах ученых-гуманистов, в мастерских художников, подобных Дюреру, в тесных монашеских кельях, в лачугах крестьян и ремесленников, жаждущих перемен и готовых в отчаянии вырвать их силой. Время не могло дать ей других одежд, кроме тех, которыми располагало, — библейских. Но идея зрела. Чувствуя разумом предстоящие перемены, начал Дюрер «Апокалипсис» и «Страсти Христовы», приступил к делу, которое через двадцать лет воодушевило Лютера и Мюнцера, Цвингли и Меланхтона. Не сознавая того сам, Дюрер одним из первых увидел пока еще очень слабый луч Реформации, зари нового времени, уже занимавшейся на небе Германии.
Иоганн Пиркгеймер не повел своего собеседника в теологические дебри. Старик, прошедший непростую жизнь и встречавший на своем пути разных людей, знал, к кому; с какою меркою подходить. Художника удивило, что этот, как казалось, ученый сухарь, дипломат и воин отлично разбирается и в его ремесле. Так, сказав, что события, предсказанные «Апокалипсисом», видимо, будут происходить в трех сферах — на небе, в воздухе и на земле, Пиркгеймер заговорил о композиционных особенностях немецкой школы, позволяющих совмещать в единой картине разновременно происходящие события. Полагал он, что такой принцип изображения времени можно было бы применить и для показа трех сфер. Дюрер, уже достаточно знакомый с манерой итальянской школы, не отвергая идеи Пиркгеймера — да и позволил бы он себе перечить патрицию! — понял, что перед ним ставится одна из сложнейших задач искусства: совмещение на одной плоскости трех планов и слияние их в единое целое. Редким художникам такое удавалось.
Чтение «Апокалипсиса» заняло довольно много времена. Иногда к ним заглядывал Вилибальд, пытался поправить отца: это-де слово они понимают неправильно, в нем другой, иносказательный смысл. Сжималось у Дюрера сердце: опять начнутся диспуты, из-за которых они с Каром так и не сдвинулись с места! Но у старого Иоганна был другой нрав. Одним движением лохматых седых бровей выставлял оп сына за дверь и, будто ничего не случилось, продолжал перевод.
Начал Дюрер с портрета. Здесь откладывать нельзя: улетучатся из памяти подмеченные детали. Поскольку вроде бы порицал Фридрих итальянскую манеру, стал писать под Вольгемута. А рука не повинуется разуму. В результате с завершенного портрета взирал на зрителя нюрнбергский патриций с дерзкими глазами итальянского кондотьера. Во всяком случае, был это не тот Фридрих, который раскатисто хохотал на приеме в бурге.
С алтарем — та же история. Тему его центральной части задал курфюрст; проиллюстрировать слова Симона, сказанные богородице: и меч пронзит душу твою. Другими словами, предстояло Дюреру изобразить мадонну скорбящую. Вольгемут сказал бы — нечего здесь мудрствовать, есть каноны, по ним и пиши. Альбрехт же отказался от всех обязательных в немецкой живописи символов. Он просто изобразил охваченную печалью мать. В нише окна пустого храма Мария молится над младенцем. Жесток и безразличен мир, поджидающий ребенка там, за толстыми стенами. В нем мало тепла и ласки, там с момента рождения человек обречен на физические и нравственные муки.
Не случайно изобразил Альбрехт на боковых створах святого Антония и святого Себастьяна: первый испытал все нравственные муки, второй — физические. Первой увидела картину его мать.
Необычность решения темы потрясла Барбару. Страшной показалась ей богоматерь своей обычностью — не святой была она, а простой женщиной. Барбара заплакала. Привычный для нее мир менялся, наступали грозные и непонятные времена. И эти изменения вдруг воплотились в сознании матери в святой Марии, написанной ее сыном богородице, которая не защитит, ибо сама беззащитна.
Начав работу для курфюрста, Альбрехт и не думал о том, что она потребует столько времени и сил. Прошла весна, лето давно уже вступило в свои права, а он даже не заметил этого. Каждый новый день начинался точно так же, как предыдущий. Кисти, краски… Проснувшись, художник спешил к своему алтарю, засыпая, думал только о нем.
С Вилибальдом виделся редко. Беседы сводились в основном к монологам молодого Пиркгеймера о своих дипломатических успехах. На пасху 1496 года, к великой радости старого Иоганна, Вилибальд большинством голосов был избран членом патрицианского совета Нюрнберга. Город, невзирая на молодость Пиркгеймера, возложил на него обязанность регулировать спорные вопросы с соседями. А споров Нюрнбергу хватало. Пиркгеймеру с одних переговоров приходилось мчаться на другие, лишь на короткое время заезжая домой. Удача, как кажется, сопутствовала ему, и это заставляло Вилибальда втягиваться в дело, которым он еще недавно готов был пожертвовать ради науки или литературы.
А Дюрер тем временем писал алтарь да исподволь создавал собственную мастерскую. Появились и первые ученики. И вот в одно прекрасное утро он вдруг заметил, что лето подходит к концу. Неудержимо потянуло прочь из пыльного и душного Нюрнберга. Стал снова исчезать на целые дни из дома. Только теперь не уходил далеко, как раньше, держался берега Пегница. Зарисовал почти все мельницы на реке, в том числе так называемые «Большую» и «Малую». Если уставала рука и утомлялся глаз, бросался ничком на пропахшую зноем землю. Нежно шелестели деревья, баюкали, возвращая в счастливую пору детства, когда все было так просто и ясно.
Там, за городом, впервые услышал разговор о том, что в одной из окрестных деревень родилась необычная свинья — об одной голове, но о двух телах. Толковали диковину по-разному, но большинство сходилось на том, что она не предвещает ничего хорошего. А городские мудрецы решили: это не иначе как предзнаменование окончательного раздела империи. Известно: что больше всего волнует, то и во всяком деле видится.
Погряз в это время император Максимилиан в повой авантюре. В 1495 году на вормском рейхстаге выколотил он из владык немецких княжеств и городов крупные суммы. А на что их ухлопал? Начал новую войну — на этот раз в Италии. Женился он на Бьянке Сфорца, дочери убитого в 1476 году миланского герцога, получил в приданое триста тысяч золотых дукатов. Кажется, взял бы и на том успокоился. Но нет — подавай ему миланские владения. И снова война. Не приведет это ни к чему хорошему!
Дорогу в деревушку было легко найти. Валом валил по ней народ. Действительно, чудище! Одна голова, два туловища, четыре пары ног, одна из которых растет прямо из загривка. Дюрер просил хозяев разрешить это чудо зарисовать. Согласились. Рисунок Дюрер показал крестному. Кобергер потребовал сделать гравюру. И немедленно. Много часов, не разгибая спины, бился Альбрехт над медной пластиной. Лишь к утру, стерев со лба пот, отошел от стола. Постоял в раздумье, снова сел и вырезал на пластине свою монограмму —
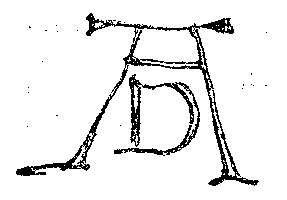
Через час, скрипел уже в кобергеровской типографии пресс.
Еще раз подтвердил крестный свою деловую хватку. Гравюру рвали из рук. Из доходов крестный выделил Альбрехту половину — это было немало. Впервые Агнес проявила интерес к делам мужа, с утра отправлялась на рынок, ученик из мастерской тащил за нею стопу гравюр, еще пахнущих типографской краской. Кобергеру предприимчивость Агнес нравилась: с такою супругою не пропадешь.
Идею с монограммой Кобергер тоже одобрил. Теперь нужно выходить на рынок. Да не на нюрнбергский, а пошире. Самим торговать гравюрами хлопотно. Нужны посредники, они понесут гравюры в другие города и страны, прославят имя мастера, создавшего их. Вскоре прислал Кобергер к Дюреру своего фактора Конца Швейцера, который рискнул взять на комиссию его гравюры. 8 июля 1497 года был подписан договор. Осторожный Швейцер лишь на год брал на себя обязательство «возить дюреровские гравюры из одной страны в другую, из одного города в другой» и по мере возможностей торговать ими, стремясь добиваться наиболее высокой цены, а также не оставлять их там, где нет на них спроса. Выручку обязался передавать Дюреру регулярно за вычетом еженедельной платы за услуги в размере полугульдена. Через две недели заключил Дюрер такой же договор и со Штефаном Кобергером.
Появились тем временем и первые серьезные заказчики из Нюрнберга. Первыми заказали свои портреты сестры-патрицианки Фюрлингер. Альбрехт старался как мог, ибо нравились ему сестры — веселые, говорливые, не закрывавшие рта во время сеансов.
В начале осени возвратились Конц и Штефан. В соответствии с договором записали они «на бумажке» все проданные гравюры и выручку за них. Кроме этой «бумажки», не получил Альбрехт почти ничего: неходовой товар пока что гравюры в Германии, платят за них в десять раз меньше, чем за пару перчаток. Так что те жалкие гульдены, которые удалось выручить, перекочевали в карманы посредников за услуги. Кобергер, однако, советовал не опускать рук. Нужно, убеждал он, завоевывать итальянские рынки. Ясное дело — трудно.
Снова легли на стол Дюрера привезенные из Италии гравюры и рисунки. А у Кобергера продолжали печатать «Четырех ведьм». Им первым суждено перевалить Альпийские горы, проложить другим гравюрам путь в итальянские города.
Легко говорить, что нюрнбергские жернова все перемелют. Велением судьбы и по своей воле Альбрехт Дюрер оказался вдруг в положении этого самого жернова и понял, что задачу поставил себе не из легких. Не так просто отказаться от традиций. Еще сложней привить людям новые вкусы. Какая-то раздвоенность видна в начавшемся после возвращения из Италии периоде творчества художника.
Дюрер был в отчаянии, метался от одной крайности к другой. Похоже, не раз называл себя бездарью, и от такой мысли у него опускались руки. Не она ли привела его к поспешному бегству из Италии — домой, к привычному, устоявшемуся? Он не понимал, чего достиг, как ребенок не замечает своего роста. Под карандашом и штихелем Дюрера пятна распались на линии, сплетающиеся, расходящиеся, прерывающиеся, вновь соединяющиеся. Гравюра вдруг обрела внутреннее движение. Если раньше только искушенный, натренированный глаз мог полностью понять изображенное, то теперь гравюра стала доступна каждому. Она стала своего рода книгой — рассказывающей, поясняющей, просвещающей. Она начала действовать на чувства, заставляя любить и ненавидеть, смеяться и плакать. Всего лишь несколько месяцев отделяло Дюрера от одного из основных подвигов его жизни. Всего лишь несколько месяцев, когда, опередив многих, он скажет мятущемуся, не видящему выхода народу: вот человек, жизни которого ты должен следовать, вот личность, которая несет добро, зовет тебя сравняться с нею. С того времени, когда столкнула его судьба с Себастьяном Брантом, бичевателем пороков и моралистом, неоднократно думал он об идеале и смысле жизни. Теперь он, как казалось, нашел ответ на свой вопрос. Он спустил бога на землю. Показал на него: вот таким должен быть человек. Но если ты не исправишь своих пороков, то ждет тебя то, что описано Иоанном Богословом. Дюрер перевел Евангелие на доступный для него и основной массы народа язык — язык рисунка.
Первый сеятель вышел в ноле и бросил начальную горсть семян, еще не ведая того, что сеет ветер, который обернется сокрушающей бурей. На рынках немецких городов появились гравюры из задуманной Дюрером монументальной серии «Страстей Христовых». Знатоки видели в них повторение гравюр Шонгауэра, искали совпадений в композиции и разночтений, но открытая Дюрером техника, облекшая бестелесных существ из неведомого мира в реальную плоть, сознательное изображение евангельских персонажей в современных Дюреру одеждах, казалось, говорили зрителям: на этой земле сию минуту распинают Христа и попирают оставленные им заветы. Видимо, так и воспринимались его гравюры теми, кто мучительно искал ответа на вопрос — что же произошло, почему все вдруг стало вверх ногами, а мир, кажется, катится к пропасти? Не гравюры на мифологические темы находили сбыт, а рассказ о жизни Христа, тысячу раз уже слышанный и известный во всех поворотах сюжета. Что-то новое, тревожащее было в этих гравюрах, которые заставляли задуматься и вроде бы давали ответ, но на самом деле ставили новые вопросы — что же делать, как быть дальше? Иногда всего важнее бывает поставить вопрос, ибо беспокойный человеческий разум не угомонится до тех пор, пока не найдет на него ответ. Таков был дух Возрождения.
Шли бесконечные споры в пивной, где обычно собирались патрицианские отпрыски, но куда был допущен Дюрер, хотя в принципе ему как сыну ремесленника и самому ремесленнику здесь было не место. Тут же искали выхода. Тревожные известия докатывались до Нюрнберга, и молодой Пиркгеймер уже начал говорить о том, что исправление нравов нужно начинать с Совета сорока. К его словам прислушивались, пожимали плечами, удивлялись смелости суждений, однако наскоки на власть, к которой Вилибальд и сам был причастеи, объясняли молодостью и незрелостью мысли. Потом-то все это ему припомнят…
Все больше распространялось в странах Европы недовольство существующими порядками, все большее количество людей выражало нежелание мириться со своим положением. Низы искали возможности выразить свои требования. Для них доступен был язык различных «пророков», толковавших Библию и отражавших их чаяния. Все чаще в нюрнбергской «пивной для господ» говорили о том, что заворошился крестьянский и ремесленнический люд, что появились в городе пророчества сожженного на костре безумца Ганса Бёла, «дударя из Никласхаузена». Само имя его по велению папы следовало забыть, а вот поди же — помнят. Опасны были пророчества Бёма, ох как опасны, и это понимали патриции. Они не имели ничего против распространения моральных писаний Себастьяна Бранта, в которых призывал бывший поэт к самоусовершенствованию и искоренению пороков. А вот «дударь» — да будет забыто его имя! — советовал во имя спасения от надвигавшихся на немецкий народ бедствий разделить между всеми поровну имущество, отменить налоги и подати, предоставить всем право бесплатно пользоваться пастбищами, охотничьими и рыбными ловлями, платить священнослужителям не больше, чем поденщикам, искоренить накопительство и скопидомство.
И если бы только было дело в распространении сочинений этого богом и папой проклятого еретика! Появились и новые пророки, которые требовали того же. От новоявленных проповедников «божьего слова» и ревнителей забытых божьих заповедей на улицах Нюрнберга проходу уже не было. С ввалившимися щеками, горящими глазами, худые, будто сама смерть, потрясали они кулаками и драли глотки на площадях города. Кричали — разве не нынешнего папу-антихриста имел в виду святой Иоанн в своем «Откровении», говоря о семиглавом звере, на семи диадемах которого начертаны слова богохульные? Люди, посмотрите окрест себя: вон за каменными стенами, за железными дверьми, за окнами с крепкими решетками сидят ваши погубители! Они утаили от вас божьи заповеди — или вы можете читать Евангелие, которое до сих пор печатают на неизвестном для вас языке? Люди, те, кто погряз в разврате, убийствах и стяжательстве, откупятся от Страшного суда индульгенциями, денег им не занимать. А вы-то, горемыки, ничем не провинившиеся, вы-то за что пострадаете? Близок божий суд! Прольется чаша гнева господня! Приближается день и час расплаты! Смутьянов строго карали, выталкивали в лучшем случае взашей за ворота города, но они были неистребимы, появлялось их все больше и больше.
Настала пора, когда спрашивающих стало больше, чем отвечающих. Был час ожидания новых пророков. И воцарился повсюду страх. Наводнения, землетрясения, моры, которым раньше не придавалось особого значения, теперь толковались как знамения свыше. Начались видения. Городские власти сочли достойным занесения в анналы Нюрнберга рассказ одной старушки из Кузнечного переулка, которой некий голос приказал подняться среди ночи и отправиться в храм святого Зебальда. Там увидела она давно уже почивших сограждан и каких-то странных безголовых людей, которые истово молились. Но не богу, а дьяволу! Другие же видели не раз на городских кладбищах Человека в красном, ходившего среди могил и помечавшего что-то в своей книжице. Вновь ожили сказания о Диком охотнике, дьяволе, высматривающем свою добычу. Потом распространилось в Нюрнберге предсказание безымянного астролога, в котором говорилось, что 25 февраля 1524 года обрушится на мир второй потоп. Было время великого ужаса…
Этот ужас будет продолжаться четверть века, то утихая, то вновь вспыхивая. Люди будут жить с ним, и он будет определять их помыслы и действия. Кто знает, может быть, иным путем пошло бы творчество Дюрера. Возможно, привил бы он своим соотечественнике м новый взгляд на искусство, не будь всего этого. Но он жил и творил в то время, когда, не вынеся мучительного ожидания Страшного суда, грешники кончали жизнь самоубийством, совершая тем самым еще больший грех, когда на площадях городов толпы людей занимались самобичеванием и ползли на коленях в церкви, оставляя за собою кровавые следы, когда прелюбодеи и браконьеры публично каялись в совершенных ими преступлениях, когда вчера еще цеплявшиеся за каждый грош ремесленники раздавали все свое имущество и шли с протянутой рукой на паперть. Дюрер родился и вырос в религиозной семье, он верил и в бога и в Страшный суд, он знал, что по немецким традициям изображение обнаженного тела считается греховным. Можно лишь отчасти представить те страдания и муки, которые раздирали его душу и сердце, и следует поражаться тому мужеству, с которым он продолжал начатое дело, той вере в человеческий разум и в конечную победу Света над Тьмою, Жизни над Смертью, Добра над Злом, которую он пронес до последнего своего часа.
Он работал над «Страстями Христовыми», обдумывал новую серию «Жизнь Марии», рассказ о радостях, страданиях и мучениях женщины, родившей того, кому следовало подражать в это страшное время. Но где-то в его сознании уже зрела, обретала конкретные образы новая тема — тема «Апокалипсиса».
Пели школяры: живу я и не знаю, как долго, умру я, по вот только когда, еду я, не ведая куда, и удивляет меня лишь одно — почему же я все-таки счастлив? И хотя шли дни, неумолимо приближая человечество к гибели — в этом никто не сомневался, — но, молясь и каясь, занимались люди своими делами — воевали, торговали, производили себе подобных. Помолившись и купив индульгенцию, старались забыть о предстоящих кошмарах. Так же поступал и Дюрер. Он будто даже стал торопиться запечатлеть мир, которому предстояла гибель. Для кого? Для чего? Но не сидеть же сложа руки в ожидании Страшного суда!
«Мужская баня»… На гравюре он сам, Вилибальд Пиркгеймер, неизвестно зачем затесавшийся в их компанию Михаэль Вольгемут. Распаренные, они отдыхают в садике подле бани, ведут неторопливую ученую беседу. Ублажают себя яствами и музыкой. Ничего грозного, ничего страшного. Мир пока еще полон гармонии.
«Сон доктора»… Пиркгеймер, раздобревший, умиротворенный, заснул у теплой печки. Снится ему прекрасная Венера. Не поддавайся соблазнам, Вилибальд, проснись, и ты увидишь за спиною дьявола, который, орудуя кузнечными мехами, навевает эти порочные сны.
Ночами те же размышления о грехах и те же сны, где образ Дикого охотника переплетался с образами всадников из «Апокалипсиса». Днями — работа до изнеможения. Рисунки и гравюры теперь отложены. Альбрехт принялся за картину, изображавшую святого Иеронима на покаянии в Халкидонской пустыне. Название — дань традиции. Пустыни как таковой здесь нет. Есть город с красными стенами — такими же, какие окружают и Нюрнберг. Есть одетые пышной зеленью деревья, есть горы, покрытые снегом, — несомненно, Альпы. Передний план выписан особенно тщательно, каждая былинка, каждый кустик. Да, это травы и цветы его родной земли.
Картина, пронизанная светом и радостью бытия, — его последняя попытка оттянуть время исполнения темы, которая все больше созревает в нем, которая уже созрела. На обороте березовой доски «Св. Иероиим» изображена кроваво-красная звезда, разрывающая облака, та самая, которая недавно взошла на нюрнбергском небе и свет которой от ночи к ночи становится все ярче, все страшнее.
Уже набросаны на доске фигуры четырех всадников. Положено начало гравюрам, на которых не будет тихих летних закатов, трав и цветов, источающих пряный аромат, спокойных задумчивых гор. Не будет Жизни, а будут слезы и муки, ужас, объемлющий землю, мрак и тоска. Будет Смерть.
Он не представлял, какой труд взваливал на себя. Туманны были «Откровения» Иоанна, каждая строка их так многосмысленна. Только молодость могла дерзнуть на толкование того, что не могли богословы. Здесь невозможно обойтись одной фантазией, здесь нужно точное знание.
А вокруг каких только слухов не приходилось слышать! После появления хвостатой звезды говорили об «Апокалипсисе» почти в каждом нюрнбергском доме, толковали его кто во что горазд. Даже в «пивной для господ» и то прекратились неторопливые беседы о положении дел в империи, новых рынках и городских финансах. И здесь теперь чуть не рвала друг другу волосы, споря о том, как понимать «Откровение». Как не хватало точного перевода Библии на немецкий язык! Говорил Дюрер об этом с приором монастыря августинцев Эвхарием Кара. Приор разделял его точку зрения. Да, давно бы пора немцам иметь свою Библию. Но кто рискнет взяться за такое дело? Рим считает, что незачем простому мирянину вникать в ее суть. Согласился Кара помочь Альбрехту. Подробно разъяснял ученый богослов все символы и намеки, содержащиеся в «Апокалипсисе». Но беседовал с Альбрехтом так, будто закончил живописец богословский факультет. Снимал с полок книги, рукописи, приводил мнения известных теологов. Как-то неудобно было просить Эвхария говорить пояснее, а сам он этого не замечал. Иногда вся беседа сводилась к толкованию какого-нибудь одного-единственного слова, и тогда на помощь себе привлекал приор греческие и древнегреческие тексты.
Полезны, спору нет, были полученные знания, но для художника мало пригодны. Найти бы человека, который бы просто точно перевел ему текст! Вилибальд, конечно, мог бы помочь, однако новоиспеченного члена городского совета мирские дела интересовали куда больше богословия. И все же о просьбе друга он помнил. Однажды завалился к нему почти в полночь, перепугав раскатистым басом всех насмерть. Есть, мол, знаток «Апокалипсиса»! Искали его за тридевять земель, а он тут, рядом: Иоганн Пиркгеймер — его отец!
Потом уж все выяснилось. Не меньше других в городе прислушивался старый Пиркгеймер к слухам о предстоящем светопреставлении. Верил ли в это? Пожалуй. Ведь недаром именно теперь принял он решение уйти в монастырь. Замаливать грехи? Укрыться от предстоящих бед? Кто знает, какие мысли и соображения таились за мощным лбом советника многих мирских и церковных владык. Но главное было в том, что в разговоре с сыном согласился он помочь его другу, способствовать благому делу. Советовал Вилибальд Альбрехту не тянуть, завтра же встретиться с Иоганном. Может передумать — у каждого старика, как известно, свой норов.
Вопреки опасениям Пиркгеймера-младшего старый нюрнбергский патриций воспринял просьбу Дюрера благожелательно. Стремление молодого художника постигнуть тайны «Откровения», над которым бился он сам, и поведать о них людям счел заслуживающим всяческой поддержки. По крайней мере, среди этих многочисленных шалопаев нашелся хоть один, кто наконец задумался о смысле жизни. Ясное дело, имел в виду прежде всего собственного сына: в последнее время Иоганна раздражало до крайности то, что Вилибальд и в Нюрнберге пытался вести тот же образ жизни, какой он вел в Италии. Сплетни о его выходках и сомнительных связях доходили до ушей старого Пиркгеймера, и тот трудно переживал «вырождение Пиркгеймерова рода».
Первый разговор с ученым патрицием вызвал у Дюрера страх: вновь точно так же, как в беседах с Эвхарием Каром, придется плутать в богословских дебрях! Хотелось без обиняков сказать: не это мне нужно! Однако сдерживался, боясь обидеть собеседника. А Пиркгеймер говорил о смысле, заложенном в «Апокалипсисе», который, как ему казалось, он наконец постиг. Истина заключается не в уничтожении сущего, как твердят не переставая все эти доморощенные оракулы, а в возвращении к жизни без греха, к богу, единому началу и одновременно цели бытия. Должен, по его мнению, Альбрехт подчеркнуть своими гравюрами необходимость искоренения пороков, но отнюдь не лишать людей надежды. Ведь заканчивается «Апокалипсис» не картиной всеобщей гибели, а описанием Нового Иерусалима. Медленно, не торопясь развивал свои мысли старик, видимо, уже завершавший земной путь и прозревший многое. Добрую половину его слов Дюрер не понимал. Но, как кажется, схватывал главное. К этим главным была н а д е ж д а.
Когда потом люди, вечно стремящиеся заглянуть в будущее и объяснить прошлое, обратятся к тем нелегким годам, они скажут, что именно там, на перепутье средневековья и нового времени, рождалась идея о бессмертии человеческого рода и о его бесконечном пути через тернии к звездам. Как женщина, носящая под сердцем ребенка, человечество терзало себя картинами предстоящих мук и, может быть, гибели, но надежда на будущее безграничное счастье все-таки была сильнее. Она рождалась в кабинетах ученых-гуманистов, в мастерских художников, подобных Дюреру, в тесных монашеских кельях, в лачугах крестьян и ремесленников, жаждущих перемен и готовых в отчаянии вырвать их силой. Время не могло дать ей других одежд, кроме тех, которыми располагало, — библейских. Но идея зрела. Чувствуя разумом предстоящие перемены, начал Дюрер «Апокалипсис» и «Страсти Христовы», приступил к делу, которое через двадцать лет воодушевило Лютера и Мюнцера, Цвингли и Меланхтона. Не сознавая того сам, Дюрер одним из первых увидел пока еще очень слабый луч Реформации, зари нового времени, уже занимавшейся на небе Германии.
Иоганн Пиркгеймер не повел своего собеседника в теологические дебри. Старик, прошедший непростую жизнь и встречавший на своем пути разных людей, знал, к кому; с какою меркою подходить. Художника удивило, что этот, как казалось, ученый сухарь, дипломат и воин отлично разбирается и в его ремесле. Так, сказав, что события, предсказанные «Апокалипсисом», видимо, будут происходить в трех сферах — на небе, в воздухе и на земле, Пиркгеймер заговорил о композиционных особенностях немецкой школы, позволяющих совмещать в единой картине разновременно происходящие события. Полагал он, что такой принцип изображения времени можно было бы применить и для показа трех сфер. Дюрер, уже достаточно знакомый с манерой итальянской школы, не отвергая идеи Пиркгеймера — да и позволил бы он себе перечить патрицию! — понял, что перед ним ставится одна из сложнейших задач искусства: совмещение на одной плоскости трех планов и слияние их в единое целое. Редким художникам такое удавалось.
Чтение «Апокалипсиса» заняло довольно много времена. Иногда к ним заглядывал Вилибальд, пытался поправить отца: это-де слово они понимают неправильно, в нем другой, иносказательный смысл. Сжималось у Дюрера сердце: опять начнутся диспуты, из-за которых они с Каром так и не сдвинулись с места! Но у старого Иоганна был другой нрав. Одним движением лохматых седых бровей выставлял оп сына за дверь и, будто ничего не случилось, продолжал перевод.
