Страница:
– Вызови Николая Сергеича.
– Вы кто такой?
– Скажи, Ефремов зовет.
И стоял, пока Главного не вызывали.
– Возьми, – медник протягивал ему тугой сверток. – Юля Николавна наказывала теплы есть, в тряпицу укутала.
Обычно в свертке лежали пирожки с картошкой и луком – любимое лакомство Соколова. Непростое, по-своему величавое зрелище составляли эти два человека – известный авиационный конструктор и рабочий-медник, в чем-то главном повторявшие друг друга.
Что же общего было между ними? О чем они могли беседовать?
Люди недалекие усматривали в их общении что угодно, только не естественное в своей простоте уважение друг к другу работников одного времени, одного духовного облика, одной формации. Когда-то в юности они вместе работали подручными на авиационном заводе «Дукс», и если теперь занимали неравное положение, то оставались равными смыслом прожитого и будущего – их трудом, той главной сущностью людей, ценность которой непреходяща.
Как и Соколов, Ефремов не ждал напоминаний, когда видел нужду в своих способностях, чем нередко вызывал на себя гнев мастера, считавшего, что рабочий занимается «черт знает чем, какими-то самоделками». Где мастеру было знать, что единственная медаль, которой его наградят, появится у него благодаря «самоделкам» Ефремова.
В 1942 году из Англии стали поступать самолеты «харрикейн», истребители далеко не первоклассные, да еще и со снятым вооружением. Пригнанные машины стояли в ожидании, пока их оснастят соответствующим оружием. Работу по изготовлению лафетов под необходимое вооружение для ста пятидесяти «харрикейнов» поручили как раз тому филиалу, где работал Юзефович. На изготовление конструктивно довольно сложных лафетов шли в основном толстостенные цельнотянутые трубы из высоколегированной стали. Но едва было налажено производство изделий, как имевшиеся в запасе трубы кончились, а поступление новых было столь мизерно и нерегулярно, что выпуск лафетов практически прекратился. Чем это грозило самому Юзефовичу, он понимал очень хорошо и колесом носился по всем поставщикам, складам, но труб нигде не было. «Харрикейны» стояли. Юзефовичу позвонили и вежливо попросили назвать срок оснащения изделиями английских истребителей. Он сказал, что «приложит все силы, чтобы через неделю…». Прошла неделя, а труб все не было. Юзефовича еще раз предупредили. Он вызвал начальника отдела снабжения, принялся стучать по столу и кричать, что тот работает на немцев. Но и после этого трубы не появились.
Как раз, когда Юзефович выяснял, на кого работает начальник отдела снабжения, в кабинет главного инженера филиала вошел Иван Ефремов.
– Ты что? Что это? – спросил главный инженер, не понимая, для чего медник положил ему на стол кусок трубы.
Медник молчал.
– В чем дело, Иван Митрофанович? Чего ты ее мне приволок? – прокричал главный инженер, вспомнив о глухоте рабочего.
– А ты гляди, разуй глаза.
Совет был как нельзя кстати: на столе лежала самодельная труба со сварным швом по всей длине.
– Согнул?! Из листа? Ефремов кивнул.
– А лист? Лист где брал?
– Его на складе завались, никому не нужон. Главный инженер был изумлен: не только толщина стенок, точность и чистота изготовления трубы отвечали всем требованиям, но и прочность ее почти не уступала цельнотянутым.
Сборка конструкций началась в тот же день и не прекращалась до тех пор, пока все сто пятьдесят «харрикейнов» не были оснащены лафетами.
Беседа Разумихина с медником состояла в основном из вопросов и длинных пауз. Ответы Ефремова были односложны и назревали в нем не вдруг. Но и сказанного им было достаточно, чтобы получить представление о семье Юзефовича. А поскольку Разумихин не мог позволить себе и тени неправды в отношениях с Главным, чье уважение ставил выше своих симпатий, то и доложил ему все, что услышал и от кого услышал.
Есть, на удивление, безрадостные, глухие ко всему внешнему, живущие как в бреду семьи. Такая семья была у Юзефовича, на чьем иждивении состояли престарелая теща и жена – толстая, рыхлая женщина. Эти родные по крови люди были до жути посторонними друг другу, да и всем вообще. Единственное, что их объединяло, – это крыша над головой да тягостная привязанность к четвертому члену семьи – сыну Юзефовича, калеке от рождения.
Выслушав Разумихина, Главный написал наискось по письму: «Разумихину. Устрой куда-нибудь. Соколов».
В ту пору заканчивалось строительство летно-испытательной базы, и Разумихин вызвал к себе ее будущего начальника. Протягивая письмо Добротворскому, он сказал:
– Посади эту… где-нибудь.
Зная Разумихина, Добротворский не придал значения оскорбительному слову и, ничтоже сумняшеся, назначил Юзефовича помощником ведущего инженера, в обязанности которого входило в основном разъезжать по фирмам-смежникам и «выколачивать» своевременные поставки самолетного оборудования.
В новом для окружающих качестве Нестор Юзефович начался после единственного в своей жизни прыжка с парашютом – из машины, у которой в воздухе загорелся двигатель. Подсказкой для несколько поспешного назначения помощника ведущего инженера и, о. начальника комплекса послужило несколько причин. Во-первых, Юзефович надоедливо мозолил глаза, ожидая компенсации за пережитый ужас; во-вторых, как помощник ведущего он временно остался «безлошадным»; в-третьих, после ухода на пенсию прежнего начальника комплекса под рукой не оказалось кого-нибудь в равной степени находящегося не при деле, а возле дела.
Получив должность с оговоркой – и. о., Юзефовнч изо всех сил старался уверить начальство в своем полном и безусловном служебном соответствии, «потому как он имеющий опыт».
Это было трудно. Юзефович боялся находящихся у него под началом дипломированных работников, грамотных, знающих, которыми фирма щедро пополнялась в последние годы. Что противопоставить умным, зубастым инженерам? Заслуги? Стаж? Старо. Оставалось одно – как можно чаще ставить людей в положение зависимости от персоны и. о. начальника комплекса.
С настойчивостью, достойной лучшего применения, он выискивал и раздувал ситуации, где ему надлежало «казнить и миловать», чем и убеждать людей в своей значимости. Как и все недалекие люди, Юзефович никому не доверял. «Никому верить нельзя, каждый ищет, где больше платят», «Мне не важен опыт, мне не важно образование, мне важно содержание». Последнюю фразу любил повторять Костя Карауш, Невежество и подозрительность все преломляло на свой лад. Юзефович усматривал низкие цели в желании помочь делу без корысти, не по обязанности; оскорбительные намеки – в модном костюме подчиненного; вызов – в умении быть вежливым с теми, с кем он, Юзефович, почитал себя вправе обращаться по-хамски; провокацию – в приглашении к языку формул, и так без конца. Чтобы оказаться в центре кляузных событий, затрагивающих подчиненных, нужно было заставить их проникнуться той же неуверенностью, той же тревогой за свое место, в каковой пребывал он сам. Пусть маленькая эта власть, но она принуждает людей смотреть на него как на и. о. начальника комплекса, первыми протягивать руку, нести бумаги на подпись, так или иначе зависеть от него. Он изо всех сил насаждал вокруг себя атмосферу недоверия, подсиживания, сведения счетов по любым мелочам, чтобы не остаться однажды в обстановке ясности, которая разом выкажет подлинные величины каждого; он боялся чистоты, как иные породы рыб боятся прозрачной воды.
Уязвленное самолюбие Боровского оказалось на руку Юзефовичу. Юзефович был не настолько глуп, чтобы видеть в Боровском родственную душу, но достаточно умен, чтобы угадать возможность его использования как биты для игры. При всяком удобном случае он давал понять «корифею», что лично он за его назначение командиром нового лайнера, но Боровский должен сам действовать, «показать этим соплякам», что с ним шутить накладно, иначе его затрут и т. д.
Боровский вынес из этих бесед главное – подтверждение своего права на роль премьера, а потому бесхитростно лез напролом, не желая соглашаться на «вторые роли» на фирме, где отработал тридцать лет, не допуская мысли, что рядом с ним работают летчики, ни в чем или почти ни в чем ему не уступающие.
Лето началось туманами и обложными дождями, словно расплачивалось за ясноглазую весеннюю теплынь.
Из-за плохой погоды несколько раз отменяли первый вылет С-441. Бесконечные отсрочки измотали экипаж, механиков, ведущих инженеров, аэродромные службы. Нависшая над летной базой хмара на картах синоптиков выглядела широкой заштрихованной полосой от Скандинавии к Приазовью. Плавно изгибаясь, полоса эта разделяла два эпицентра с почти равным атмосферным давлением, и облачность как бы застыла между ними.
По утрам на площадке перед зданием летной службы рождалось скопище автомобилей спецкоров газет, фотокинорепортеров. Громоздкая техника заставляла бедолаг киношников всякий раз заново выстраиваться по сторонам взлетной полосы, устанавливать треноги киносъемочных аппаратов и тягостно ждать, пока на КДП не объявляли отбой. Издерганные синоптики на вопросы о видах на следующий день неизменно отвечали:
– Может, прояснится, а может, и нет.
– Как у той бабушки? – усмехалась уставшие ждать корреспонденты.
– У какой бабушки?
– Которая надвое сказала.
Репортеры уже побывали у всех, кто соглашался сказать «два слова» об экипаже. Юзефович не преминул старательно наговорить в диктофон корреспонденту радио о «высоких моральных и профессиональных качествах летчика-испытателя товарища Чернорая В. И.».
Операторы, назначенные на самолет сопровождения к Борису Долотову, с утра садились «забивать» в домино вместе с экипажем, в полной уверенности, что они-то не опоздают сделать свое дело. После каждой партии двое проигравших должны были пролезть под бильярдным столом, играть же в бильярд было невозможно из-за наплыва жаждущих запечатлеть или описать первый вылет С-441. Чаще всего выигрывали Долотов и Костя Карауш. Это казалось несправедливым, подогревало страсти осовевших от безделья болельщиков.
– Умственная игра, – иронизировал, ни к кому не обращаясь, один из спецкоров, называвший себя писателем. – Вторая по сложности после перетягивания каната.
– А вы присядьте, – советовал Карауш. – Попробуйте, инженер человеческих душ.
И спецкор не выдержал. То ли Костя донял, то ли скука заела. И через десять минут, растопырив длинные руки и худые ноги, писатель проползал под бильярдом.
Наконец небо очистилось. Еще при выезде из города Лютров заметил голубые просветы между облаками, а когда подъезжал к базе, Чернорай выруливал на старт.
По всей километровой линии рулежной полосы плотной цепью стояли люди. И хоть давно прошли те времена, когда новый самолет мог попросту не взлететь, первый вылет по сей день таит нечто, вызывающее тревогу. И чем дольше тянутся приготовления, тем сильнее беспокойство в душах людей.
Слева от застывшего на стартовой площадке лайнера стоял ЗИЛ Главного. Соколов мерил шагами кромку бетона, не поднимая головы, выслушивал ведущих инженеров КБ летной базы, коротко говорил что-то, изредка вскидывая глаза на собеседника.
Когда Чернорай доложил о готовности и об этом передали Главному, тот сел в автомобиль, и шофер ходко покатил вперед по непомерно широкой для ЗИЛа взлетной полосе. Все свои самолеты Главный провожал в первый полет у места отрыва от земли.
Долотов уже с полчаса утюжил небо над летным полем. На кромках лишенных стекол иллюминаторов его самолета свистел воздух; в отверстия, как в бойницы, фотографы и кинооператоры нацелили свою глазастую технику. Дождавшись, когда Долотов вышел напрямую к месту старта, Чернорай вывел двигатели на взлетный режим и снял корабль с тормозов.
Люди затаили дыхание. Теперь лайнер будет бежать, пока не взлетит. Время разбега отсчитывалось ударами сердец, и с каждым ударом сердце каждого словно увеличивалось в объеме. Магия рождения самолета никого не оставляет равнодушным, независимо от степени причастности к его созданию. Да и как ее измерить, эту степень?
Наблюдая за разбегом, Лютров испытывал чувство, похожее на страх и знакомое мотогонщикам, оказавшимся на заднем сиденье мотоцикла.
Оторвалось от земли колесо передней стойки шасси, острое окончание фюзеляжа подалось в небо… Уже в воздухе, но еще не в небе лайнер обрушивает на Главного и всех, кто стоит рядом, победный рев четырех двигателей.
На растерянно дрожащих от волнения губах Соколова проскальзывала, прячась в глубоких складках щек, робкая, растроганная улыбка. От сострадания к этой улыбке, вызванной, может быть, последней радостью великого инженера, у Лютрова перехватило дыхание.
После трех проходов над летной базой Чернорай старательно посадил машину и зарулил на стоянку.
Тягостное напряжение перешло в открытую радость. Экипаж сходил по трапу навстречу улыбкам, рукоплесканиям: победа десятков тысяч людей сделала четверых из них триумфаторами.
Чернорай не показался Лютрову взволнованным – ни когда его подбрасывали над головами, ни когда его истово целовал Старик, ни когда он отвечал на вопросы разгоряченных журналистов, ни на очень коротком разборе полета в кабинете начальника базы. Апартаменты Старика превратили в банкетный зал.
Торжественное застолье началось сдержанно, театрально, а продолжалось весело и бестолково. Говорились речи, тосты, от поцелуев у Чернорая вспухли губы. Все ждали, когда избранный тамадой Боровский даст слово Гаю, сидевшему справа от Лютрова. Шеф-пилот умел говорить так, что все сказанное им запоминалось.
И вот Гай поднялся. Костюм цвета мокрой золы с кровавой искоркой, тускло-красный галстук. Красивое лицо его было серьезно и спокойно, он уже знал, что скажет, и все, глядя на него, смолкли, притих звон вилок.
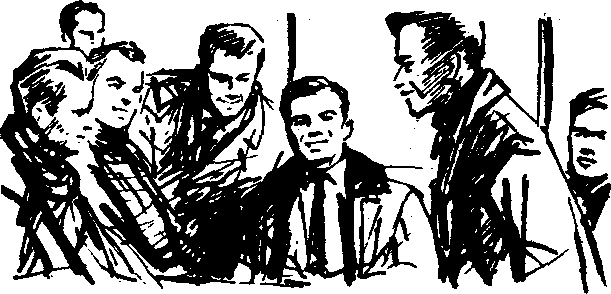 – Этот год как жизнь, – просто сказал Гай. – Начался он с проводов в последний путь четверых наших товарищей, наших друзей. Сегодня – большой праздник: Слава Чернорай вместе с самыми нашими молодыми ребятами – Федей Радовым, Гришей Трофимовым и Колей Харебовым – поднял в воздух самолет, которым мы вправе гордиться. Это большой праздник. Но есть старый обычай: в день большого праздника выплескивать из бокалов часть вина, дабы поубавить себе удовольствия, потому что день твоей радости может совпасть с горем других. Этот обычай напоминает: не забывай о тех, кто не может разделить с тобой твоего веселья. Слава Чернорай и все сидящие здесь не обидятся на меня, если, я в такой день приглашу помянуть тех, кто был рядом с нами и кого уже нет, кто никогда больше не придет на наши праздники: Юру Чернощекова, Георгия Димова, Сашу Миронова, Сергея Санина, Мишу Терского. Пусть каждый из нас выплеснет из себя чуточку праздника и вспомнит о них!
– Этот год как жизнь, – просто сказал Гай. – Начался он с проводов в последний путь четверых наших товарищей, наших друзей. Сегодня – большой праздник: Слава Чернорай вместе с самыми нашими молодыми ребятами – Федей Радовым, Гришей Трофимовым и Колей Харебовым – поднял в воздух самолет, которым мы вправе гордиться. Это большой праздник. Но есть старый обычай: в день большого праздника выплескивать из бокалов часть вина, дабы поубавить себе удовольствия, потому что день твоей радости может совпасть с горем других. Этот обычай напоминает: не забывай о тех, кто не может разделить с тобой твоего веселья. Слава Чернорай и все сидящие здесь не обидятся на меня, если, я в такой день приглашу помянуть тех, кто был рядом с нами и кого уже нет, кто никогда больше не придет на наши праздники: Юру Чернощекова, Георгия Димова, Сашу Миронова, Сергея Санина, Мишу Терского. Пусть каждый из нас выплеснет из себя чуточку праздника и вспомнит о них!
Выпили молча. А затеи сидевший справа от Гая Костя Карауш, растроганный, поцеловал оратора.
– Люблю тебя, Гай! Умница!
Через час, когда вино и время ослабили напряжение от рвущегося наружу запаса снов, когда уехали Старик и его помощники, голоса за столиками стали вольными, разговоры потекли десятками самостоятельных ручейков.
Когда удалилось и базовское начальство, Костя Карауш принялся «давить» своим шумным косноязычием деликатнейшего Бунима Лейбовича Шалита, начальника бригады прочности, к несчастью, сидевшего рядом, справа от Кости. И вот уже от его анекдотов смеется, закинув голову, Гай, утирает слезы Бунин Лейбович. Довольный, хохочет Костя.
Рядом с ними чарующе улыбался собственным мыслям Козлевич. Когда он выпьет, они у него настолько хорошие, что от удовольствия он нет-нет да и принимается хлопать в ладоши, приговаривая на мотив «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки»:
«Ла-адушки, ла-адушки, где были, у бабушки!..»
Если ему еще выпить, он станет генеральски строгим, начнет подходить ко всем знакомым и незнакомым, говорить вступительно: «Ну!» и, не меняя сурового выражения лица, плотно целоваться – как благодарить за службу.
Сидящий справа от него Долотов, судя по оживлению облепивших его молодых ребят из КБ, тоже «завелся». Замкнутый, необщительный, Долотов был человеком особых статей. Начать с того, что ему везло как заговоренному. Дважды кряду, сначала в экипаже испытателей серийного завода на С-440 – машину затянуло в неуправляемый крен из-за чрезмерно заниженной скорости захода на посадку с остановленными на одной стороне двигателями, отчего вместо полосы они угодили в ограду летного поля, и во второй раз на той же машине с Тер-Абрамяном во время вынужденной посадки на лес; в обоих случаях летавший вторым летчиком Долотов был единственным, кто мог рассказать о случившемся сразу же после аварии. На его счету значилось первое поражение воздушной цели истребителем-перехватчиком ракетной атакой, он поднимал С-14, испытывал стартующие под крыльями самолета-носителя крылатые ракеты… Но никакие происшествия и никакие работы не делали его разговорчивее, ничего не меняли в складе характера. То малое, что было известно о нем, не позволяло составить сколько-нибудь законченного представления о его прошлом. Говорили о тяжелом детстве парня, об эвакуации из Ленинграда детского дома, где он рос, о бомбежке эшелона с детьми под Ярославлем, о лице фашистского летчика, увиденного Долотовым в открытом фонаре Ю-88, когда тот уходил от земли, оглядывая результаты очередной атаки беззащитного эшелона. Все это, видимо, особым образом вылепило характер Долотова, наделив парня недоступным другим видением жизни, отношением к ней, проницательным и беспощадным умом. Летавших с ним Долотов не раз удивлял настойчивостью, с какой он добивался безукоризненного выполнения указанных в задании полетных режимов. Грубоватые остроты Кости Карауша обходили Долотова стороной, не иначе – одессит имел случай убедиться, что шутить с этим парнем накладно. Жена Долотова была дочерью прославленного аса второй мировой войны, командира части на востоке, в котором после училища служил Долотов. Его знакомству с будущей женой как-то способствовало то, что во многих учебных боях Долотов неизменно одолевал аса на своем МИГ-15.
Лютров, Гай-Самари, Санин, Костя Карауш и в особенности Извольский, которого Долотов очень уважительно называл по имени-отчеству: Виктор Захарович, – все они, каждый по-своему, любили Долотова, но не пытались навязать ему свое общество. Отчего-то не казалось странным, что на работе у него нет близких друзей, что он ни с кем не спорит, не навязывает своего мнения. Будучи безупречным работником, добросовестно делающим любую работу, Долотов оставался «человеком в себе» в отношении тех преходящих событий дня, о которых принято перекинуться словом в свободную минуту. О его отношении к Гаю Лютров узнал случайно, будучи во второй кабине нового истребителя-спарки. На правах летчика-инспектора Долотов выпускал его на облетанной им машине. Они заканчивали обязательный часовой полет, в котором выпускаемый проделывает все предложенные инспектором маневры. Лютров посадил спарку в самом начале большой полосы и почувствовал, что Долотов взял управление.
– Долго бежать. Подлетнем немного, – сказал он.
Лютров так и не понял, для чего это ему понадобилось. Пока машина набирала полетную скорость, а затем отрывалась от земли, полоса оказалась на исходе. Поняв, что может не уложиться, Долотов слишком поспешно бросил спарку на бетон, так что в ответ получил один за другим три «козла». Запахло «жареным». На последнем подскоке, когда машина была в воздухе, Долотов успел поставить на тормоза колеса шасси. При следующем касании самолет точно прилип к земле. Колеса оставили позади три черные искривленные полосы от стертой резины.
Долотов молчал. Молчал и Лютров. Долотов все так же молча рулил на стоянку, и Лютров уже решил, что ничего не услышит о мальчишеском эксперименте своего инспектора, но тот вдруг заговорил:
– Из такого положения могут выбраться только Гай и Долотов.
Дорого отдал бы Лютров, чтобы увидеть лицо человека в первой кабине. Ему стало весело. Чудной выглядела похвала Долотова самому себе.
– Но войти в такое положение тоже не всем удается?
– Воспитанные люди, Леша, отличаются от невоспитанных тем, что умеют не замечать чужие промахи.
– Будем надеяться, что на КДП сидят воспитанные люди.
Долотову повезло и тут. Полетов в этот день было много, и его, единственную на памяти Лютрова, мальчишескую выходку никто не заметил. Выбравшись из кабины, Долотов посмотрел на стертую до непригодности резину колес и сказал, растерянно улыбнувшись:
– Видал ты еще такого дурака?
Вспомнив сейчас о полете на спарке, Лютров с интересом наблюдал, как после нескольких рюмок исчезает замкнутость Долотова. Он горячо доказывал что-то ребятам из КБ, постоянно прерывая собеседников косноязычным словцом «пджди, пджди, пджди!..».
Да и не только в Долотове происходила эта перемена, у всех сидящих за столом менялись и голоса и лица… Уже никто не слушал ни тамаду, ни запоздалых ораторов, порывающихся перекрыть всеобщий гам вспышками невнятного красноречия.
Лютров уже подумывал захватить с собою Карауша да убираться домой, когда к нему повернулся Гай.
– Слава зовет.
Лютров вопросительно поглядел на героя вечера. Чернорай указывал ему на место рядом с собой.
– Садись, Леша. Только не поздравляй, я уже ничего не чувствую.
– Все равно именинник, никуда не денешься.
Крупное лицо Чернорая принадлежало к тем мужским лицам, что с годами не покрываются морщинами, не вянут, а становятся мосластыми – грубеет и все более проступает сквозь кожу костяк черепа.
– Погоди. Чего я тебе хотел сказал?.. Вот черт, забыл!
– Вспомнишь. Что такой невеселый?
– Шут его знает, не по себе что-то… А тут еще Гай Душу разбередил.
Брось. И после нас кто-то будет здесь летать.
– Все так… Но Димову больше подошла бы громкая работа. Он на пять лет моложе меня, и потом это такой парень был… Честный, чистый, умница… Его отец, болгарин из Молдавии, бывал у нас в части по большим праздникам, все покручивал усы, на сына любовался. Хороший такой дядька, на моего батю похож, тоже крестьянин… Не дожил старик до января. Может, это и лучше…
Чернорай рассеянно крутил рюмку, отливающую цветами нефтяного пятна на воде.
Столы опустели. Торопясь покончить со сверхурочной работой, официантки убирали посуду. Часы над пустующим столом Главного показывали без малого девять.
Неожиданно рядом выросла растрепанная фигура ведущего инженера Иосафа Углина, Он стоял в перекошенных очках на блестевшем носу, серый пиджак был расстегнут и болтался на впалой груди. Углин держал перед собой до половины налитую рюмку коньяка и очень старался быть торжественным.
– Вячеслав Ильич… и Алексей Сергеич! Я хочу поздравить Вячеслава Ильича с… посадкой! Небывалой и нежной для такой машины. Да. Не думайте, что я пьян. Я намеревался сказать об этом раньше, но не решился… Перегрузка на шасси во время касания земли равнялась… Как вы думаете?.. Ноль пятнадцати сотым!.. Может записать это… для биографии.
– Спасибо, мне очень приятно, – Чернорай добродушно усмехнулся.
Ведущий тряхнул головой и отошел.
– Проси его на «девятку», – раздумчиво сказал Чернорай. – Это стоящий парень…
Лютров кивнул. Они помолчали.
– Леша, понимаешь, какая штука, – не очень уверенно начал Чернорай, – я должен съездить к Жоркиной девушке, да одному неловко как-то. У нее должен ребенок родиться… Ну, словом, девка чуть дуба не дала. Ты должен помнить ее. Меня с ней на похоронах видел? Ты человек свободный и не пьешь, как погляжу, составь компанию, а?.. Вот спасибо. Костю?.. Забирай одессита, по пути завезем, я на машине. Ты тоже?.. Слушай, оставь свою на территории, ну что мы цугом поедем… Вот и добро.
Костя был не столько пьян, сколько дурачился, задавшись целью разыграть Чернорая. Сидя на задней сиденье, он просовывал голову между Лютровым и Чернораем и выговаривался от души.
– Слышь, Леша, завтра об нем в газетках настрочат которые в домино играть не умеют… Такой-сякой, родился, постился, учился. И вообще, воздерживался. Накопил и машину купил.
– Костя, ты когда-нибудь замолчишь?
– Знаем мы вас, героев нашего времени, верно, Леша? Одни интервью давать будете этим, которые инженеры… «Мое мнение такое: физкультура способствует, а витамины натощак – пользительно!»
– Леша, ослобони! – взмолился Чернорай, глядя на Лютрова.
– Потерпи, скоро довезем.
Но Костя и сам вскоре поутих, а когда остановились возле его дома в пригороде, расчувствовался, долго обнимал Чернорая, а заодно и Лютрова.
Теперь, в черте города Чернорай вел машину так, как ездят автомобильные воры. Послушно плелся за перепачканным бетоном самосвалом с надписью «Не уверен, не обгоняй», загодя притормаживал у знака «Стоп». Стрелка спидометра не продвигалась дальше отметки «50», даже когда впереди просматривалась свободная даль дороги.
– Не дай бог, остановят, – сокрушался он. – Оставят без прав.
– Отдадут. Прочитают завтрашние газеты, и отделаешься отеческим назиданием. Известность, брат, не шутка.
– И ты, Брут! Какая там известность! Пошумят неделю и забудут. Кто, кроме нашего брата, помнит первых летчиков «Максима Горького», «Летающего крыла», ТУ-104?.. Так-то. Сейчас, Леша, не наше время. Космический век. Для меня этот вылет опоздал лет на двадцать. Слава, как женщина, должна явиться, когда свет не мил без нее. И, откровенно говоря, чувствую себя неловко перед ребятами: ведь напишут, словно и в самом деле сотворил нечто боже мой какое… А сколько людей, по-настоящему достойных известности, остаются в тени в это неспокойное мирное время? Если б читатель мог сравнить С-441 с «девяткой», о которой не будет написано ни строчки, ему стало бы ясно, что вся завтрашняя шумиха не стоит выеденного яйца. Я рассуждаю банально, но я пьян, мне можно…
– Вы кто такой?
– Скажи, Ефремов зовет.
И стоял, пока Главного не вызывали.
– Возьми, – медник протягивал ему тугой сверток. – Юля Николавна наказывала теплы есть, в тряпицу укутала.
Обычно в свертке лежали пирожки с картошкой и луком – любимое лакомство Соколова. Непростое, по-своему величавое зрелище составляли эти два человека – известный авиационный конструктор и рабочий-медник, в чем-то главном повторявшие друг друга.
Что же общего было между ними? О чем они могли беседовать?
Люди недалекие усматривали в их общении что угодно, только не естественное в своей простоте уважение друг к другу работников одного времени, одного духовного облика, одной формации. Когда-то в юности они вместе работали подручными на авиационном заводе «Дукс», и если теперь занимали неравное положение, то оставались равными смыслом прожитого и будущего – их трудом, той главной сущностью людей, ценность которой непреходяща.
Как и Соколов, Ефремов не ждал напоминаний, когда видел нужду в своих способностях, чем нередко вызывал на себя гнев мастера, считавшего, что рабочий занимается «черт знает чем, какими-то самоделками». Где мастеру было знать, что единственная медаль, которой его наградят, появится у него благодаря «самоделкам» Ефремова.
В 1942 году из Англии стали поступать самолеты «харрикейн», истребители далеко не первоклассные, да еще и со снятым вооружением. Пригнанные машины стояли в ожидании, пока их оснастят соответствующим оружием. Работу по изготовлению лафетов под необходимое вооружение для ста пятидесяти «харрикейнов» поручили как раз тому филиалу, где работал Юзефович. На изготовление конструктивно довольно сложных лафетов шли в основном толстостенные цельнотянутые трубы из высоколегированной стали. Но едва было налажено производство изделий, как имевшиеся в запасе трубы кончились, а поступление новых было столь мизерно и нерегулярно, что выпуск лафетов практически прекратился. Чем это грозило самому Юзефовичу, он понимал очень хорошо и колесом носился по всем поставщикам, складам, но труб нигде не было. «Харрикейны» стояли. Юзефовичу позвонили и вежливо попросили назвать срок оснащения изделиями английских истребителей. Он сказал, что «приложит все силы, чтобы через неделю…». Прошла неделя, а труб все не было. Юзефовича еще раз предупредили. Он вызвал начальника отдела снабжения, принялся стучать по столу и кричать, что тот работает на немцев. Но и после этого трубы не появились.
Как раз, когда Юзефович выяснял, на кого работает начальник отдела снабжения, в кабинет главного инженера филиала вошел Иван Ефремов.
– Ты что? Что это? – спросил главный инженер, не понимая, для чего медник положил ему на стол кусок трубы.
Медник молчал.
– В чем дело, Иван Митрофанович? Чего ты ее мне приволок? – прокричал главный инженер, вспомнив о глухоте рабочего.
– А ты гляди, разуй глаза.
Совет был как нельзя кстати: на столе лежала самодельная труба со сварным швом по всей длине.
– Согнул?! Из листа? Ефремов кивнул.
– А лист? Лист где брал?
– Его на складе завались, никому не нужон. Главный инженер был изумлен: не только толщина стенок, точность и чистота изготовления трубы отвечали всем требованиям, но и прочность ее почти не уступала цельнотянутым.
Сборка конструкций началась в тот же день и не прекращалась до тех пор, пока все сто пятьдесят «харрикейнов» не были оснащены лафетами.
Беседа Разумихина с медником состояла в основном из вопросов и длинных пауз. Ответы Ефремова были односложны и назревали в нем не вдруг. Но и сказанного им было достаточно, чтобы получить представление о семье Юзефовича. А поскольку Разумихин не мог позволить себе и тени неправды в отношениях с Главным, чье уважение ставил выше своих симпатий, то и доложил ему все, что услышал и от кого услышал.
Есть, на удивление, безрадостные, глухие ко всему внешнему, живущие как в бреду семьи. Такая семья была у Юзефовича, на чьем иждивении состояли престарелая теща и жена – толстая, рыхлая женщина. Эти родные по крови люди были до жути посторонними друг другу, да и всем вообще. Единственное, что их объединяло, – это крыша над головой да тягостная привязанность к четвертому члену семьи – сыну Юзефовича, калеке от рождения.
Выслушав Разумихина, Главный написал наискось по письму: «Разумихину. Устрой куда-нибудь. Соколов».
В ту пору заканчивалось строительство летно-испытательной базы, и Разумихин вызвал к себе ее будущего начальника. Протягивая письмо Добротворскому, он сказал:
– Посади эту… где-нибудь.
Зная Разумихина, Добротворский не придал значения оскорбительному слову и, ничтоже сумняшеся, назначил Юзефовича помощником ведущего инженера, в обязанности которого входило в основном разъезжать по фирмам-смежникам и «выколачивать» своевременные поставки самолетного оборудования.
В новом для окружающих качестве Нестор Юзефович начался после единственного в своей жизни прыжка с парашютом – из машины, у которой в воздухе загорелся двигатель. Подсказкой для несколько поспешного назначения помощника ведущего инженера и, о. начальника комплекса послужило несколько причин. Во-первых, Юзефович надоедливо мозолил глаза, ожидая компенсации за пережитый ужас; во-вторых, как помощник ведущего он временно остался «безлошадным»; в-третьих, после ухода на пенсию прежнего начальника комплекса под рукой не оказалось кого-нибудь в равной степени находящегося не при деле, а возле дела.
Получив должность с оговоркой – и. о., Юзефовнч изо всех сил старался уверить начальство в своем полном и безусловном служебном соответствии, «потому как он имеющий опыт».
Это было трудно. Юзефович боялся находящихся у него под началом дипломированных работников, грамотных, знающих, которыми фирма щедро пополнялась в последние годы. Что противопоставить умным, зубастым инженерам? Заслуги? Стаж? Старо. Оставалось одно – как можно чаще ставить людей в положение зависимости от персоны и. о. начальника комплекса.
С настойчивостью, достойной лучшего применения, он выискивал и раздувал ситуации, где ему надлежало «казнить и миловать», чем и убеждать людей в своей значимости. Как и все недалекие люди, Юзефович никому не доверял. «Никому верить нельзя, каждый ищет, где больше платят», «Мне не важен опыт, мне не важно образование, мне важно содержание». Последнюю фразу любил повторять Костя Карауш, Невежество и подозрительность все преломляло на свой лад. Юзефович усматривал низкие цели в желании помочь делу без корысти, не по обязанности; оскорбительные намеки – в модном костюме подчиненного; вызов – в умении быть вежливым с теми, с кем он, Юзефович, почитал себя вправе обращаться по-хамски; провокацию – в приглашении к языку формул, и так без конца. Чтобы оказаться в центре кляузных событий, затрагивающих подчиненных, нужно было заставить их проникнуться той же неуверенностью, той же тревогой за свое место, в каковой пребывал он сам. Пусть маленькая эта власть, но она принуждает людей смотреть на него как на и. о. начальника комплекса, первыми протягивать руку, нести бумаги на подпись, так или иначе зависеть от него. Он изо всех сил насаждал вокруг себя атмосферу недоверия, подсиживания, сведения счетов по любым мелочам, чтобы не остаться однажды в обстановке ясности, которая разом выкажет подлинные величины каждого; он боялся чистоты, как иные породы рыб боятся прозрачной воды.
Уязвленное самолюбие Боровского оказалось на руку Юзефовичу. Юзефович был не настолько глуп, чтобы видеть в Боровском родственную душу, но достаточно умен, чтобы угадать возможность его использования как биты для игры. При всяком удобном случае он давал понять «корифею», что лично он за его назначение командиром нового лайнера, но Боровский должен сам действовать, «показать этим соплякам», что с ним шутить накладно, иначе его затрут и т. д.
Боровский вынес из этих бесед главное – подтверждение своего права на роль премьера, а потому бесхитростно лез напролом, не желая соглашаться на «вторые роли» на фирме, где отработал тридцать лет, не допуская мысли, что рядом с ним работают летчики, ни в чем или почти ни в чем ему не уступающие.
Лето началось туманами и обложными дождями, словно расплачивалось за ясноглазую весеннюю теплынь.
Из-за плохой погоды несколько раз отменяли первый вылет С-441. Бесконечные отсрочки измотали экипаж, механиков, ведущих инженеров, аэродромные службы. Нависшая над летной базой хмара на картах синоптиков выглядела широкой заштрихованной полосой от Скандинавии к Приазовью. Плавно изгибаясь, полоса эта разделяла два эпицентра с почти равным атмосферным давлением, и облачность как бы застыла между ними.
По утрам на площадке перед зданием летной службы рождалось скопище автомобилей спецкоров газет, фотокинорепортеров. Громоздкая техника заставляла бедолаг киношников всякий раз заново выстраиваться по сторонам взлетной полосы, устанавливать треноги киносъемочных аппаратов и тягостно ждать, пока на КДП не объявляли отбой. Издерганные синоптики на вопросы о видах на следующий день неизменно отвечали:
– Может, прояснится, а может, и нет.
– Как у той бабушки? – усмехалась уставшие ждать корреспонденты.
– У какой бабушки?
– Которая надвое сказала.
Репортеры уже побывали у всех, кто соглашался сказать «два слова» об экипаже. Юзефович не преминул старательно наговорить в диктофон корреспонденту радио о «высоких моральных и профессиональных качествах летчика-испытателя товарища Чернорая В. И.».
Операторы, назначенные на самолет сопровождения к Борису Долотову, с утра садились «забивать» в домино вместе с экипажем, в полной уверенности, что они-то не опоздают сделать свое дело. После каждой партии двое проигравших должны были пролезть под бильярдным столом, играть же в бильярд было невозможно из-за наплыва жаждущих запечатлеть или описать первый вылет С-441. Чаще всего выигрывали Долотов и Костя Карауш. Это казалось несправедливым, подогревало страсти осовевших от безделья болельщиков.
– Умственная игра, – иронизировал, ни к кому не обращаясь, один из спецкоров, называвший себя писателем. – Вторая по сложности после перетягивания каната.
– А вы присядьте, – советовал Карауш. – Попробуйте, инженер человеческих душ.
И спецкор не выдержал. То ли Костя донял, то ли скука заела. И через десять минут, растопырив длинные руки и худые ноги, писатель проползал под бильярдом.
Наконец небо очистилось. Еще при выезде из города Лютров заметил голубые просветы между облаками, а когда подъезжал к базе, Чернорай выруливал на старт.
По всей километровой линии рулежной полосы плотной цепью стояли люди. И хоть давно прошли те времена, когда новый самолет мог попросту не взлететь, первый вылет по сей день таит нечто, вызывающее тревогу. И чем дольше тянутся приготовления, тем сильнее беспокойство в душах людей.
Слева от застывшего на стартовой площадке лайнера стоял ЗИЛ Главного. Соколов мерил шагами кромку бетона, не поднимая головы, выслушивал ведущих инженеров КБ летной базы, коротко говорил что-то, изредка вскидывая глаза на собеседника.
Когда Чернорай доложил о готовности и об этом передали Главному, тот сел в автомобиль, и шофер ходко покатил вперед по непомерно широкой для ЗИЛа взлетной полосе. Все свои самолеты Главный провожал в первый полет у места отрыва от земли.
Долотов уже с полчаса утюжил небо над летным полем. На кромках лишенных стекол иллюминаторов его самолета свистел воздух; в отверстия, как в бойницы, фотографы и кинооператоры нацелили свою глазастую технику. Дождавшись, когда Долотов вышел напрямую к месту старта, Чернорай вывел двигатели на взлетный режим и снял корабль с тормозов.
Люди затаили дыхание. Теперь лайнер будет бежать, пока не взлетит. Время разбега отсчитывалось ударами сердец, и с каждым ударом сердце каждого словно увеличивалось в объеме. Магия рождения самолета никого не оставляет равнодушным, независимо от степени причастности к его созданию. Да и как ее измерить, эту степень?
Наблюдая за разбегом, Лютров испытывал чувство, похожее на страх и знакомое мотогонщикам, оказавшимся на заднем сиденье мотоцикла.
Оторвалось от земли колесо передней стойки шасси, острое окончание фюзеляжа подалось в небо… Уже в воздухе, но еще не в небе лайнер обрушивает на Главного и всех, кто стоит рядом, победный рев четырех двигателей.
На растерянно дрожащих от волнения губах Соколова проскальзывала, прячась в глубоких складках щек, робкая, растроганная улыбка. От сострадания к этой улыбке, вызванной, может быть, последней радостью великого инженера, у Лютрова перехватило дыхание.
После трех проходов над летной базой Чернорай старательно посадил машину и зарулил на стоянку.
Тягостное напряжение перешло в открытую радость. Экипаж сходил по трапу навстречу улыбкам, рукоплесканиям: победа десятков тысяч людей сделала четверых из них триумфаторами.
Чернорай не показался Лютрову взволнованным – ни когда его подбрасывали над головами, ни когда его истово целовал Старик, ни когда он отвечал на вопросы разгоряченных журналистов, ни на очень коротком разборе полета в кабинете начальника базы. Апартаменты Старика превратили в банкетный зал.
Торжественное застолье началось сдержанно, театрально, а продолжалось весело и бестолково. Говорились речи, тосты, от поцелуев у Чернорая вспухли губы. Все ждали, когда избранный тамадой Боровский даст слово Гаю, сидевшему справа от Лютрова. Шеф-пилот умел говорить так, что все сказанное им запоминалось.
И вот Гай поднялся. Костюм цвета мокрой золы с кровавой искоркой, тускло-красный галстук. Красивое лицо его было серьезно и спокойно, он уже знал, что скажет, и все, глядя на него, смолкли, притих звон вилок.
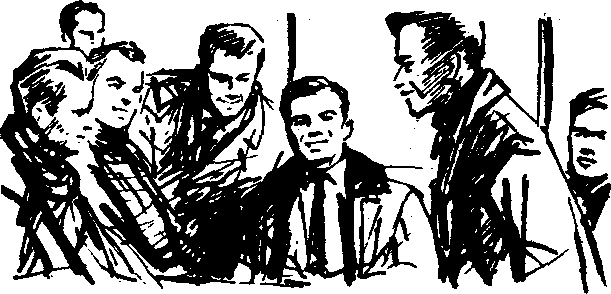
Выпили молча. А затеи сидевший справа от Гая Костя Карауш, растроганный, поцеловал оратора.
– Люблю тебя, Гай! Умница!
Через час, когда вино и время ослабили напряжение от рвущегося наружу запаса снов, когда уехали Старик и его помощники, голоса за столиками стали вольными, разговоры потекли десятками самостоятельных ручейков.
Когда удалилось и базовское начальство, Костя Карауш принялся «давить» своим шумным косноязычием деликатнейшего Бунима Лейбовича Шалита, начальника бригады прочности, к несчастью, сидевшего рядом, справа от Кости. И вот уже от его анекдотов смеется, закинув голову, Гай, утирает слезы Бунин Лейбович. Довольный, хохочет Костя.
Рядом с ними чарующе улыбался собственным мыслям Козлевич. Когда он выпьет, они у него настолько хорошие, что от удовольствия он нет-нет да и принимается хлопать в ладоши, приговаривая на мотив «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки»:
«Ла-адушки, ла-адушки, где были, у бабушки!..»
Если ему еще выпить, он станет генеральски строгим, начнет подходить ко всем знакомым и незнакомым, говорить вступительно: «Ну!» и, не меняя сурового выражения лица, плотно целоваться – как благодарить за службу.
Сидящий справа от него Долотов, судя по оживлению облепивших его молодых ребят из КБ, тоже «завелся». Замкнутый, необщительный, Долотов был человеком особых статей. Начать с того, что ему везло как заговоренному. Дважды кряду, сначала в экипаже испытателей серийного завода на С-440 – машину затянуло в неуправляемый крен из-за чрезмерно заниженной скорости захода на посадку с остановленными на одной стороне двигателями, отчего вместо полосы они угодили в ограду летного поля, и во второй раз на той же машине с Тер-Абрамяном во время вынужденной посадки на лес; в обоих случаях летавший вторым летчиком Долотов был единственным, кто мог рассказать о случившемся сразу же после аварии. На его счету значилось первое поражение воздушной цели истребителем-перехватчиком ракетной атакой, он поднимал С-14, испытывал стартующие под крыльями самолета-носителя крылатые ракеты… Но никакие происшествия и никакие работы не делали его разговорчивее, ничего не меняли в складе характера. То малое, что было известно о нем, не позволяло составить сколько-нибудь законченного представления о его прошлом. Говорили о тяжелом детстве парня, об эвакуации из Ленинграда детского дома, где он рос, о бомбежке эшелона с детьми под Ярославлем, о лице фашистского летчика, увиденного Долотовым в открытом фонаре Ю-88, когда тот уходил от земли, оглядывая результаты очередной атаки беззащитного эшелона. Все это, видимо, особым образом вылепило характер Долотова, наделив парня недоступным другим видением жизни, отношением к ней, проницательным и беспощадным умом. Летавших с ним Долотов не раз удивлял настойчивостью, с какой он добивался безукоризненного выполнения указанных в задании полетных режимов. Грубоватые остроты Кости Карауша обходили Долотова стороной, не иначе – одессит имел случай убедиться, что шутить с этим парнем накладно. Жена Долотова была дочерью прославленного аса второй мировой войны, командира части на востоке, в котором после училища служил Долотов. Его знакомству с будущей женой как-то способствовало то, что во многих учебных боях Долотов неизменно одолевал аса на своем МИГ-15.
Лютров, Гай-Самари, Санин, Костя Карауш и в особенности Извольский, которого Долотов очень уважительно называл по имени-отчеству: Виктор Захарович, – все они, каждый по-своему, любили Долотова, но не пытались навязать ему свое общество. Отчего-то не казалось странным, что на работе у него нет близких друзей, что он ни с кем не спорит, не навязывает своего мнения. Будучи безупречным работником, добросовестно делающим любую работу, Долотов оставался «человеком в себе» в отношении тех преходящих событий дня, о которых принято перекинуться словом в свободную минуту. О его отношении к Гаю Лютров узнал случайно, будучи во второй кабине нового истребителя-спарки. На правах летчика-инспектора Долотов выпускал его на облетанной им машине. Они заканчивали обязательный часовой полет, в котором выпускаемый проделывает все предложенные инспектором маневры. Лютров посадил спарку в самом начале большой полосы и почувствовал, что Долотов взял управление.
– Долго бежать. Подлетнем немного, – сказал он.
Лютров так и не понял, для чего это ему понадобилось. Пока машина набирала полетную скорость, а затем отрывалась от земли, полоса оказалась на исходе. Поняв, что может не уложиться, Долотов слишком поспешно бросил спарку на бетон, так что в ответ получил один за другим три «козла». Запахло «жареным». На последнем подскоке, когда машина была в воздухе, Долотов успел поставить на тормоза колеса шасси. При следующем касании самолет точно прилип к земле. Колеса оставили позади три черные искривленные полосы от стертой резины.
Долотов молчал. Молчал и Лютров. Долотов все так же молча рулил на стоянку, и Лютров уже решил, что ничего не услышит о мальчишеском эксперименте своего инспектора, но тот вдруг заговорил:
– Из такого положения могут выбраться только Гай и Долотов.
Дорого отдал бы Лютров, чтобы увидеть лицо человека в первой кабине. Ему стало весело. Чудной выглядела похвала Долотова самому себе.
– Но войти в такое положение тоже не всем удается?
– Воспитанные люди, Леша, отличаются от невоспитанных тем, что умеют не замечать чужие промахи.
– Будем надеяться, что на КДП сидят воспитанные люди.
Долотову повезло и тут. Полетов в этот день было много, и его, единственную на памяти Лютрова, мальчишескую выходку никто не заметил. Выбравшись из кабины, Долотов посмотрел на стертую до непригодности резину колес и сказал, растерянно улыбнувшись:
– Видал ты еще такого дурака?
Вспомнив сейчас о полете на спарке, Лютров с интересом наблюдал, как после нескольких рюмок исчезает замкнутость Долотова. Он горячо доказывал что-то ребятам из КБ, постоянно прерывая собеседников косноязычным словцом «пджди, пджди, пджди!..».
Да и не только в Долотове происходила эта перемена, у всех сидящих за столом менялись и голоса и лица… Уже никто не слушал ни тамаду, ни запоздалых ораторов, порывающихся перекрыть всеобщий гам вспышками невнятного красноречия.
Лютров уже подумывал захватить с собою Карауша да убираться домой, когда к нему повернулся Гай.
– Слава зовет.
Лютров вопросительно поглядел на героя вечера. Чернорай указывал ему на место рядом с собой.
– Садись, Леша. Только не поздравляй, я уже ничего не чувствую.
– Все равно именинник, никуда не денешься.
Крупное лицо Чернорая принадлежало к тем мужским лицам, что с годами не покрываются морщинами, не вянут, а становятся мосластыми – грубеет и все более проступает сквозь кожу костяк черепа.
– Погоди. Чего я тебе хотел сказал?.. Вот черт, забыл!
– Вспомнишь. Что такой невеселый?
– Шут его знает, не по себе что-то… А тут еще Гай Душу разбередил.
Брось. И после нас кто-то будет здесь летать.
– Все так… Но Димову больше подошла бы громкая работа. Он на пять лет моложе меня, и потом это такой парень был… Честный, чистый, умница… Его отец, болгарин из Молдавии, бывал у нас в части по большим праздникам, все покручивал усы, на сына любовался. Хороший такой дядька, на моего батю похож, тоже крестьянин… Не дожил старик до января. Может, это и лучше…
Чернорай рассеянно крутил рюмку, отливающую цветами нефтяного пятна на воде.
Столы опустели. Торопясь покончить со сверхурочной работой, официантки убирали посуду. Часы над пустующим столом Главного показывали без малого девять.
Неожиданно рядом выросла растрепанная фигура ведущего инженера Иосафа Углина, Он стоял в перекошенных очках на блестевшем носу, серый пиджак был расстегнут и болтался на впалой груди. Углин держал перед собой до половины налитую рюмку коньяка и очень старался быть торжественным.
– Вячеслав Ильич… и Алексей Сергеич! Я хочу поздравить Вячеслава Ильича с… посадкой! Небывалой и нежной для такой машины. Да. Не думайте, что я пьян. Я намеревался сказать об этом раньше, но не решился… Перегрузка на шасси во время касания земли равнялась… Как вы думаете?.. Ноль пятнадцати сотым!.. Может записать это… для биографии.
– Спасибо, мне очень приятно, – Чернорай добродушно усмехнулся.
Ведущий тряхнул головой и отошел.
– Проси его на «девятку», – раздумчиво сказал Чернорай. – Это стоящий парень…
Лютров кивнул. Они помолчали.
– Леша, понимаешь, какая штука, – не очень уверенно начал Чернорай, – я должен съездить к Жоркиной девушке, да одному неловко как-то. У нее должен ребенок родиться… Ну, словом, девка чуть дуба не дала. Ты должен помнить ее. Меня с ней на похоронах видел? Ты человек свободный и не пьешь, как погляжу, составь компанию, а?.. Вот спасибо. Костю?.. Забирай одессита, по пути завезем, я на машине. Ты тоже?.. Слушай, оставь свою на территории, ну что мы цугом поедем… Вот и добро.
Костя был не столько пьян, сколько дурачился, задавшись целью разыграть Чернорая. Сидя на задней сиденье, он просовывал голову между Лютровым и Чернораем и выговаривался от души.
– Слышь, Леша, завтра об нем в газетках настрочат которые в домино играть не умеют… Такой-сякой, родился, постился, учился. И вообще, воздерживался. Накопил и машину купил.
– Костя, ты когда-нибудь замолчишь?
– Знаем мы вас, героев нашего времени, верно, Леша? Одни интервью давать будете этим, которые инженеры… «Мое мнение такое: физкультура способствует, а витамины натощак – пользительно!»
– Леша, ослобони! – взмолился Чернорай, глядя на Лютрова.
– Потерпи, скоро довезем.
Но Костя и сам вскоре поутих, а когда остановились возле его дома в пригороде, расчувствовался, долго обнимал Чернорая, а заодно и Лютрова.
Теперь, в черте города Чернорай вел машину так, как ездят автомобильные воры. Послушно плелся за перепачканным бетоном самосвалом с надписью «Не уверен, не обгоняй», загодя притормаживал у знака «Стоп». Стрелка спидометра не продвигалась дальше отметки «50», даже когда впереди просматривалась свободная даль дороги.
– Не дай бог, остановят, – сокрушался он. – Оставят без прав.
– Отдадут. Прочитают завтрашние газеты, и отделаешься отеческим назиданием. Известность, брат, не шутка.
– И ты, Брут! Какая там известность! Пошумят неделю и забудут. Кто, кроме нашего брата, помнит первых летчиков «Максима Горького», «Летающего крыла», ТУ-104?.. Так-то. Сейчас, Леша, не наше время. Космический век. Для меня этот вылет опоздал лет на двадцать. Слава, как женщина, должна явиться, когда свет не мил без нее. И, откровенно говоря, чувствую себя неловко перед ребятами: ведь напишут, словно и в самом деле сотворил нечто боже мой какое… А сколько людей, по-настоящему достойных известности, остаются в тени в это неспокойное мирное время? Если б читатель мог сравнить С-441 с «девяткой», о которой не будет написано ни строчки, ему стало бы ясно, что вся завтрашняя шумиха не стоит выеденного яйца. Я рассуждаю банально, но я пьян, мне можно…
