Страница:
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА.
«Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!»
Приступая к написанию этой главы, автор считает абсолютно обязательным сделать, уважаемые читатели, следующее крайне принципиальное заявление.
Есть ещё и, видимо, долго ещё будет среди вас немало таких людей, которые наивно, но предельно твёрдо полагают, что, мол, писатели повествуют только о том, о чём им очень хочется рассказать и о чём рассказывать им необыкновенно приятно.
Автор же вынужден категорически и со всей гражданской ответственностью опровергнуть эту досужую и небезвредную выдумку.
Писатель обязан поведать читателям лишь о том, о чём он не может промолчать, а уж приятно это для него или противно, радостно или отвратительно, – его не касается. Он выполняет свой долг перед обществом, сообщая ему правду о жизни.
Главное, повторяю, писатель обязан поведать только о том, о чём у него нет сил молчать.
Вот я, к примеру, долго-долго, очень-очень долго не хотел, даже, честно говоря, БОЯЛСЯ писать о злостном хулигане Пантелеймоне Зыкине по прозвищу Пантя, тем более о семье, в которой он вырос и которая содействовала превращению карапузика Пантелейки в Пантю.
К вашему сведению, уважаемые читатели, у писателя, как у солдата, должна быть смелость. Писатель, как солдат, должен обладать и мужеством, и стойкостью, и выносливостью, не говоря уже об умении переносить любые трудности.
Однако ни смелости, ни мужества, ни стойкости, ни выносливости, не говоря уже об умении переносить любые трудности, писателю не понадобится, если он будет рассказывать только о приятном.
Увы и увы, двести с лишним раз увы, жизнь-то состоит не из одних лишь приятностей! И чем дальше и чем дольше вы будете жить, уважаемые читатели, тем сильнее будете убеждаться, что жизнь прекрасна не оттого, что в ней на каждом шагу вас будто бы ожидают пирожки и пирожные, а оттого, что она, жизнь, всем предоставляет возможность победить все трудности, невзгоды и несчастья.
И если я скрою от вас, так сказать, наличие в жизни немалого количества разного рода бякостей, вы об этом со временем и без меня узнаете. Зато я тогда перед вами окажусь если и не лгуном, то трусливым молчальником. Ведь знал я о зле, а промолчал, не предупредил вас о нём, не подготовил к встрече с ним.
К очень прискорбному сожалению, мы, взрослые, в том числе и писатели, никак не можем прийти к единому мнению в спорах о том, о чем безоговорочно МОЖНО или категорически НЕЛЬЗЯ рассказывать детям.
Считается, например, что если в детской книге описать неблаговидные деяния хулигана, то дети только из-за этого и начнут безобразничать. Дескать, если о безобразиях не писать, то никому и в голову не придёт хулиганить.
Я же абсолютно убеждён, что об этих, прямо говоря, негодяях приходится писать правду и лишь потому, что они, хулиганы, живут на белом свете в своё удовольствие, а людям жить нормально не дают. И страдающие от них люди иногда даже и не знают, как с ними, пакостниками, справиться. Хулиган – паразит, но не клоп, не клещ, хотя и вреднее, ядохимикатами его не уничтожишь.
Ещё сложнее и запутаннее вопрос о том, как в книгах для детей рассказывать о нас, взрослых. Вернее, ЧТО о нас, взрослых, МОЖНО рассказывать детям.
Кое-кто ратует за то, чтобы сообщать детям о взрослых лишь на редкость приятное, дескать, все взрослые столь замечательные люди, что вам, детишечкам, ни о чем беспокоиться нет смысла: как повзрослеете, так и сами все без всяких там малейших усилий будто бы станете замечательными людьми.
Мол, эти приятные взрослые являются для подрастающего поколения хорошим, отличным, прямо-таки замечательным примером, так называемым образцом для подражания.
Спорить тут вроде бы не о чем и незачем: ведь всё здесь, казалось бы, предельно правильно, логично, разумно и убедительно.
Но вот как мне тогда объяснить моим уважаемым читателям, почему карапузик Пантелейка стал злостным хулиганом Пантелеймоном Зыкиным по прозвищу Пантя, если не рассказать о семье, в которой он вырос?
Конечно же, проще простого, легче легкого, приятней приятного, спокойней спокойного было бы вообще не писать об этом, очень мягко выражаясь, скверном субъекте.
Но ведь напишу я о нём или нет, он существует и творит людям пакости и мерзости, подлости и гадости! И вы, уважаемые читатели, рано или поздно можете встретиться с ним или ему подобными!
И если я о нём напишу, а вы о нём прочтёте, хулиган уже не будет для вас неожиданностью. Вы, столкнувшись с ним в жизни, не захлопаете от удивления глазами, не вытаращите их. Вы будете готовы к встрече со злом.
Мы привыкли считать – и это совершенно справедливо, – что книга – наш друг. А разве может друг врать? Разве может друг что-нибудь утаивать? Разве друг тот, кто говорит тебе лишь приятное?
И откуда же детям узнать, что на белом свете, кроме хороших, отличных, замечательных взрослых, встречаются и плохие, очень плохие и даже отвратительные взрослые?
Вы всегда должны помнить, что стать плохим человеком легче, чем хорошим, ещё легче стать очень плохим, и уж совсем не требуется усилий, чтобы вырасти отвратительным.
Поэтому я и считаю, уважаемые читатели, что ваши друзья-книги должны подготовить вас к встрече со всем прекрасным и ужасным, что бывает в жизни. Правда придаст вам сил, уверенности, мужества и выносливости в борьбе со злом.
Только такие книги смогут быть вашими подлинными друзьями. Повторяю, что друг – это тот, кто вам не врёт, кто ничего от вас не скрывает.
И последнее. Чтобы наглядно, убедительно, запоминающе показать, какой ценой хорошие люди добиваются победы над злом, его, зло, надо тоже показать наглядно, убедительно и запоминающе. Тогда-то вам и захочется подражать хорошим людям.
Продолжаем наше повествование.
Хулиганами, а тем более злостными, как всем известно, не рождаются, ими становятся, и не сразу, а постепенно, иногда долго незаметно для окружающих.
Вот и карапузик Пантелейка лет до трёх рос достаточно обыкновенным, относительно нормальным карапузиком, почти ничем не отличающимся от сверстников, кроме очень ярко выраженного стремления мучить кошек и особенно котят.
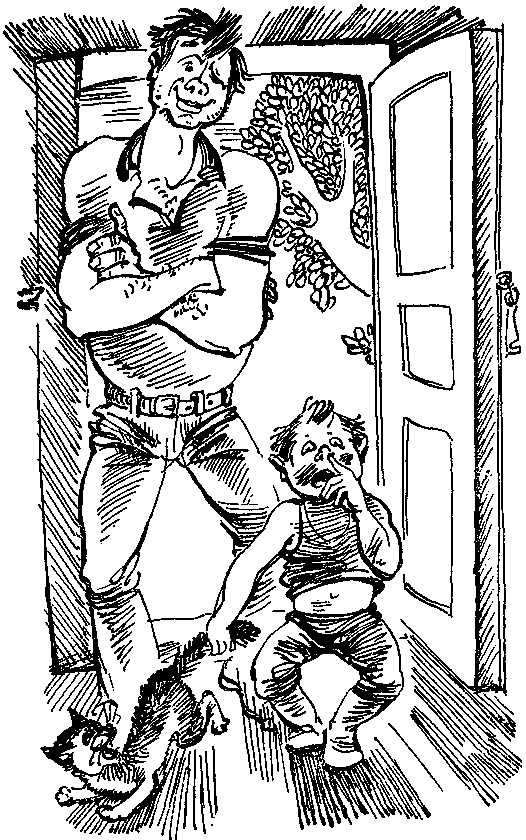 Кошки-то от этого, скажем прямо, некарапузиковского стремления не страдали; они и цапнуть могли маленького изверга, и убежать от него могли, а над беззащитными котятами он измывался изо всех силёнок.
Кошки-то от этого, скажем прямо, некарапузиковского стремления не страдали; они и цапнуть могли маленького изверга, и убежать от него могли, а над беззащитными котятами он измывался изо всех силёнок.
– Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! – весело подбадривал его восхищённый папаша. – Живи так, чтобы все тебе боялися! Сначала котята тебе спужаются, опосля – кошки, потом – собаки разные, и дело пойдет!
И – дело не только пошло, а, если так можно выразиться, побежало. Примерно годам к пяти Пантелейка просто не мог не безобразничать. Собственно, единственное, чем он умел заниматься, так это всякими хулиганствами. Например, Пантелейка был просто не в состоянии пройти мимо человека, не толкнув или не стукнув его. А уж если ни толкнуть, ни стукнуть было нельзя, так хоть страшную рожицу не мог не состроить Пантелейка или, на худой конец, – язык показать. Да что – человек! Пантелейка даже мимо стула не мог спокойно пройти, не опрокинув его на пол.
– Во разбойник растёт! – безмерно торжествовал папаша. – Не, не, такой в жизне не пропадёт! Он ждать не будет, когда его брякнут, он сам – рррраз! – и знай наших! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!
Ни братьев, ни сестер у Пантелейки не было, дружить с ним никто не хотел, посему он целыми днями изнывал, страдая от безделья и неумения чем-нибудь заняться.
Только два развлечения усвоил Пантелейка: всем пакостить и никого не слушаться.
Мама его, тишайший и наидобрейший человек, почти всё время болела, но ни разу не попросила любимого сыночка хотя бы стакан воды поднести. Он, любимый сыночек, всё равно бы не принёс!
– И в кого ты такой уродился? – горестно сокрушалась мама.
– В мене орел растёт, в мене! – безмерно восторгался папаша. – Ещё дале мене пойдет! У-у-у-ух, какой разбойник растёт!
– Да что же в этом хорошего? – недоумевала мама.
– В обиду себе не даст! – радостно объяснял папаша. – Сам забижать умеет. На тихих воду возят, тихие землю копают, а наш орел над собой командовать не даст! Молодец, сынок! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!
Никто, кроме папаши, Пантелейку не хвалил: не за что было его похвалить хотя бы немножечко. Все Пантелейку бранили, все жаловались на Пантелейку, но никто ничего не мог с ним поделать. Никого он не слушался, будто и не слышал никого, будто у него и ушей-то не было.
Одна мама жалела непутевого сыночка, знала уже, предчувствовала, что вырастет он плохим человеком, никому не принесёт радости. Даже когда мама пыталась приласкать Пантелейку, он вырывался и убегал делать пакости.
Рос он не по годам крупным, сильным, вот только голова у него росла медленно, непропорционально.
Не берусь, уважаемые читатели, сделать хотя бы самую робкую, самую незначительную попытку описать, как учился, вернее, НЕ учился Пантелей.
Сразу отмечу, что если он ни с кем не дружил, точнее, никто с ним не дружил, то и разговаривать ему было не с кем. И придя первый раз в первый класс, он даже имени своего не мог нормально выговорить.
– Как тебя зовут, мальчик? – глядя на него чуть ли не с ужасом, спросила учительница, которая ростом оказалась чуть-чуточку повыше его.
Он с очень большим трудом выговорил:
– П… п… ппа… нтя… лей… – и, устав от непосильного напряжения, безнадежно махнул длиннющей ручищей и сел, опустив непропорционально маленькую голову.
Так его и прозвали: Пантя.
Всего за четыре дня учительница совершенно с ним измучилась, ибо он её абсолютно не слушался, на уроках ничегошеньки не делал, домашние задания не выполнял, а только хулиганил.
А Пантя, как это ни покажется на первый взгляд странным, любил ходить в школу. Он сразу уразумел, что лучшего места для хулиганских и прочих безобразнических выходок на земле не существует. Сначала он даже несколько растерялся от изобилия возможностей совершать всякие, самые разнообразные пакости и в любом количестве, описывать которые у меня, уважаемые читатели, рука не поднимается.
В скором времени, едва завидя Пантю, девочки-первоклашки с визгами улетучивались…
И мальчишки-первоклашки быстренько ушмыгивали в разные стороны…
Настоящей грозой первоклашек Пантя стал, когда своей непропорционально маленькой головой сообразил, что портфель – очень удобная штука.
Стук! Стук!
Бряк! Бряк!
Бац!
Стук! Хлоп! Бряк!
Бац!
Бац!
Бац!..
пока однажды ручка у портфеля не оборвалась.
Ростом-то Пантя был почти как семиклассник, и от него уже убегали третьеклассники, не говоря о третьеклассницах.
Но всё-таки наибольший, прямо-таки захлебывающийся восторг вызывало у Панти то обстоятельство, что все его школьные пакости практически оставались безнаказанными. Получалось, что школа не имела никаких реальных возможностей по заслугам наказать распоясавшегося хулигана. А тот даже своей непропорционально маленькой головой сделал для себя важный вывод: вытворяй чего только тебе в эту голову взбредет, и ничегошеньки тебе не будет, даже чего-нибудь мало-мальски неприятного тебе не будет! Валяй, Пантя, валяй! Давай, Пантя, давай!
Будут одни лишь разговоры. И все будут помогать тебе. Даже кормить тебя будут, когда после уроков заниматься оставят! А то ещё и конфет дадут!
Мама очень страдала из-за его злостного хулиганства. Вызвали как-то папашу в школу, он несколько удивился:
– Чего я там не видал? Надо ежели, пусть сами к мене топают. Разбойника моего забижать не дам. Плохо учится? Пущай хорошо учат. За то и деньги получают.
И хотя мама болела, пришла она в школу.
Когда она скрылась за дверью в учительскую, Пантя крепко призадумался, так крепко призадумался, как никогда ещё в своей нудной и бесполезной жизни. Дело заключалось в том, что он поймал большую чёрную муху, осторожно держал её в кулаке и не мог сообразить, чего с этой большой чёрной мухой делать. Отпустить – глупо, зачем же он её тогда ловил? Убить – неинтересно.
И Пантя, весь содрогнувшись от предстоящего наслаждения, решил оторвать насекомому лапки. Задумано было, как решил злостный хулиган, здорово, а вот выполнить задуманное оказалось не так-то просто. Возился-возился-возился Пантя с мухой, вспотел даже от усердия. Муха ухитрилась и освободилась, но, видимо, от радости растерялась и, вместо того чтобы вылететь в окно, влетела – сильно и шумно – Панте в нос, точнее, в правую ноздрю.
Пантя от злобной злости или злостной злобы изо всех сил стукнул муху кулаком, а так как муха свирепо жужжала у него в носу, точнее, в правой ноздре, то сами понимаете, уважаемые читатели, что Пантя от самоудара неимоверно яростно и громко взвыл и ещё более неимоверно и яростно и совсем громко чиииииииииииих-нул!
Обезумевшая от страха муха вылетела из правой Пантиной ноздри и, простите за выражение, сдуру влетела в левую.
Это был её, мухи, бессознательный, но типично хулиганский поступок, и злостный хулиган, полностью растерявшись от мушиной наглости, тоже бессознательно ударил своей непропорционально маленькой головой о большую оконную раму и вы-бил муху из ноздри!
Шишечка у него на лбу получилась… и довольно быстренько превратилась в шишку.
Из учительской с заплаканными глазами вышла мама. Всю дорогу до дома молчала, а дома зарыдала.
Папаша же, узнав о посещении школы и о том, чего там говорили о его сыне, пренебрежительно отмахнулся и стал поучать:
– Мене, сынок, слушайся, мене, боле никого! Учителка сообразила, что ты плохо соображаешь? Зато те, которы больно много соображают, тебе пужаются! И шишку не прикрывай, сынок! Гордися ей! Сегодня у тебе шишка, завтра семь шишек другим набей! Которы много соображают! Живи, как тебе отец учит! И дело пойдет! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!
Вечером маму увезли в больницу. И там она умерла. Незадолго до смерти она сказала:
– Не от болезней я умираю, а от горя. Любимый сын мне это горе принёс.
И уж если мне, автору, уважаемые читатели, быть откровенным и честным до конца, должен я сообщить вам, что смерть мамы не произвела на Пантю особенного впечатления. Видимо, и сердце у него было меньше человеческого.
Все стали жалеть Пантю, перевели его, конечно, в следующий класс, пытались ему помочь, убеждали, предлагали, советовали, уговаривали. Но, полностью предоставленный самому себе, Пантя слонялся по посёлку, изнывая от безделья и одиночества, мучил котят и людей, ловил мух и обрывал им лапки…
Папаша приходил домой поздно, иногда приносил сыну поесть, иногда ничего не приносил и, если сын пробовал хныкать, успокаивал:
– Погодь, сынок, погодь. Скоро подрастёшь, сам себе кормить научишься.
Сейчас, уважаемые читатели, мне придётся написать самые горькие слова в этом повествовании. У Панти появилась мачеха, а папаша стал пьяницей.
Мачеха сразу невзлюбила Пантю. Пантя сразу возненавидел мачеху.
Папаша уже не только больше не хвалил сына, а вообще не обращал на него внимания. А когда сын пытался пожаловаться на мачеху, папаша самым решительным образом пытался отколотить его.
Вот и стал Пантя злостным хулиганом. На кого же, почему он злился? Злился на всех, потому что всем завидовал. Он ведь видел, что не только люди, но и кошки, и котята, даже мухи живут интереснее его.
В школе Пантю и жалели, и боялись, и, скажем прямо, ненавидели. Время от времени пытались злостного хулигана хоть чем-то заинтересовать, но всё безрезультатно.
Стал Пантя и в милицию попадать, но даже и это не толкнуло его на какие-нибудь полезные размышления о своём нудном и бесполезном существовании. Умственных способностей у безобразника хватало лишь на то, чтобы твёрдо усвоить одно: ничего ему не грозит, кроме бесполезных разговоров, которые сводились к не менее бесконечным уговариваниям.
Но если для Панти вся забота о нём представлялась ненужной и бесполезной, то на самом деле в его судьбе уже как раз к началу нашего повествования намечались значительные изменения. Совместными усилиями многих людей было решено добиться лишения Пантиного папаши отцовских прав, а злостного хулигана направить в детдом.
Ни о чем не подозревающий Пантя по-прежнему изнывал от безделья и одиночества, но придумал себе интересное занятие: пробовал отнимать деньги у малышей и у всех, кто его слабее. И хотя из этого ничего пока не получалось, Пантя не отступал, а стал соображать, как бы ему действовать половчее и понахальнее. Ведь им овладел большой замысел: наотбирать много-много-много-много денег, чтобы после освобождения из школы не работать, а ловить мух и делать людям пакости.
На этом, уважаемые читатели, заканчиваю изложение некоторых, к сожалению, необходимых сведений о нудном и бесполезном для себя и тем более для других существовании злостного хулигана Пантелеймона Зыкина по прозвищу Пантя и продолжаю наше повествование.
Есть ещё и, видимо, долго ещё будет среди вас немало таких людей, которые наивно, но предельно твёрдо полагают, что, мол, писатели повествуют только о том, о чём им очень хочется рассказать и о чём рассказывать им необыкновенно приятно.
Автор же вынужден категорически и со всей гражданской ответственностью опровергнуть эту досужую и небезвредную выдумку.
Писатель обязан поведать читателям лишь о том, о чём он не может промолчать, а уж приятно это для него или противно, радостно или отвратительно, – его не касается. Он выполняет свой долг перед обществом, сообщая ему правду о жизни.
Главное, повторяю, писатель обязан поведать только о том, о чём у него нет сил молчать.
Вот я, к примеру, долго-долго, очень-очень долго не хотел, даже, честно говоря, БОЯЛСЯ писать о злостном хулигане Пантелеймоне Зыкине по прозвищу Пантя, тем более о семье, в которой он вырос и которая содействовала превращению карапузика Пантелейки в Пантю.
К вашему сведению, уважаемые читатели, у писателя, как у солдата, должна быть смелость. Писатель, как солдат, должен обладать и мужеством, и стойкостью, и выносливостью, не говоря уже об умении переносить любые трудности.
Однако ни смелости, ни мужества, ни стойкости, ни выносливости, не говоря уже об умении переносить любые трудности, писателю не понадобится, если он будет рассказывать только о приятном.
Увы и увы, двести с лишним раз увы, жизнь-то состоит не из одних лишь приятностей! И чем дальше и чем дольше вы будете жить, уважаемые читатели, тем сильнее будете убеждаться, что жизнь прекрасна не оттого, что в ней на каждом шагу вас будто бы ожидают пирожки и пирожные, а оттого, что она, жизнь, всем предоставляет возможность победить все трудности, невзгоды и несчастья.
И если я скрою от вас, так сказать, наличие в жизни немалого количества разного рода бякостей, вы об этом со временем и без меня узнаете. Зато я тогда перед вами окажусь если и не лгуном, то трусливым молчальником. Ведь знал я о зле, а промолчал, не предупредил вас о нём, не подготовил к встрече с ним.
К очень прискорбному сожалению, мы, взрослые, в том числе и писатели, никак не можем прийти к единому мнению в спорах о том, о чем безоговорочно МОЖНО или категорически НЕЛЬЗЯ рассказывать детям.
Считается, например, что если в детской книге описать неблаговидные деяния хулигана, то дети только из-за этого и начнут безобразничать. Дескать, если о безобразиях не писать, то никому и в голову не придёт хулиганить.
Я же абсолютно убеждён, что об этих, прямо говоря, негодяях приходится писать правду и лишь потому, что они, хулиганы, живут на белом свете в своё удовольствие, а людям жить нормально не дают. И страдающие от них люди иногда даже и не знают, как с ними, пакостниками, справиться. Хулиган – паразит, но не клоп, не клещ, хотя и вреднее, ядохимикатами его не уничтожишь.
Ещё сложнее и запутаннее вопрос о том, как в книгах для детей рассказывать о нас, взрослых. Вернее, ЧТО о нас, взрослых, МОЖНО рассказывать детям.
Кое-кто ратует за то, чтобы сообщать детям о взрослых лишь на редкость приятное, дескать, все взрослые столь замечательные люди, что вам, детишечкам, ни о чем беспокоиться нет смысла: как повзрослеете, так и сами все без всяких там малейших усилий будто бы станете замечательными людьми.
Мол, эти приятные взрослые являются для подрастающего поколения хорошим, отличным, прямо-таки замечательным примером, так называемым образцом для подражания.
Спорить тут вроде бы не о чем и незачем: ведь всё здесь, казалось бы, предельно правильно, логично, разумно и убедительно.
Но вот как мне тогда объяснить моим уважаемым читателям, почему карапузик Пантелейка стал злостным хулиганом Пантелеймоном Зыкиным по прозвищу Пантя, если не рассказать о семье, в которой он вырос?
Конечно же, проще простого, легче легкого, приятней приятного, спокойней спокойного было бы вообще не писать об этом, очень мягко выражаясь, скверном субъекте.
Но ведь напишу я о нём или нет, он существует и творит людям пакости и мерзости, подлости и гадости! И вы, уважаемые читатели, рано или поздно можете встретиться с ним или ему подобными!
И если я о нём напишу, а вы о нём прочтёте, хулиган уже не будет для вас неожиданностью. Вы, столкнувшись с ним в жизни, не захлопаете от удивления глазами, не вытаращите их. Вы будете готовы к встрече со злом.
Мы привыкли считать – и это совершенно справедливо, – что книга – наш друг. А разве может друг врать? Разве может друг что-нибудь утаивать? Разве друг тот, кто говорит тебе лишь приятное?
И откуда же детям узнать, что на белом свете, кроме хороших, отличных, замечательных взрослых, встречаются и плохие, очень плохие и даже отвратительные взрослые?
Вы всегда должны помнить, что стать плохим человеком легче, чем хорошим, ещё легче стать очень плохим, и уж совсем не требуется усилий, чтобы вырасти отвратительным.
Поэтому я и считаю, уважаемые читатели, что ваши друзья-книги должны подготовить вас к встрече со всем прекрасным и ужасным, что бывает в жизни. Правда придаст вам сил, уверенности, мужества и выносливости в борьбе со злом.
Только такие книги смогут быть вашими подлинными друзьями. Повторяю, что друг – это тот, кто вам не врёт, кто ничего от вас не скрывает.
И последнее. Чтобы наглядно, убедительно, запоминающе показать, какой ценой хорошие люди добиваются победы над злом, его, зло, надо тоже показать наглядно, убедительно и запоминающе. Тогда-то вам и захочется подражать хорошим людям.
Продолжаем наше повествование.
Хулиганами, а тем более злостными, как всем известно, не рождаются, ими становятся, и не сразу, а постепенно, иногда долго незаметно для окружающих.
Вот и карапузик Пантелейка лет до трёх рос достаточно обыкновенным, относительно нормальным карапузиком, почти ничем не отличающимся от сверстников, кроме очень ярко выраженного стремления мучить кошек и особенно котят.
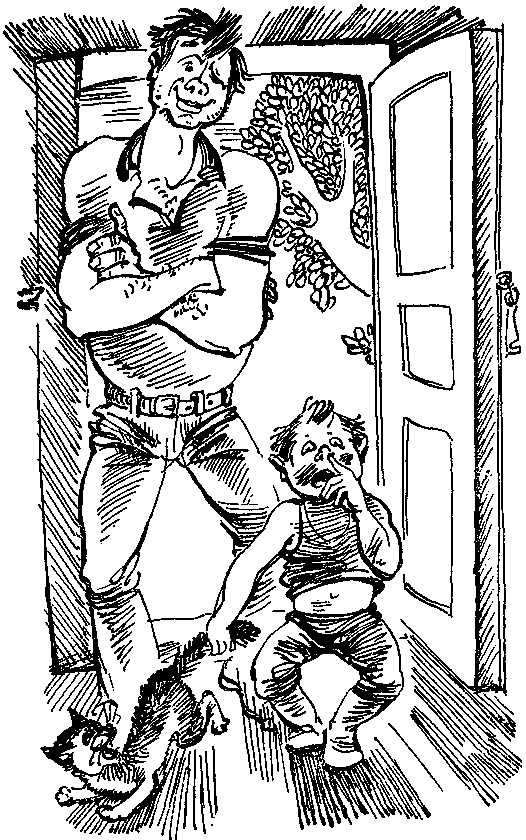
– Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! – весело подбадривал его восхищённый папаша. – Живи так, чтобы все тебе боялися! Сначала котята тебе спужаются, опосля – кошки, потом – собаки разные, и дело пойдет!
И – дело не только пошло, а, если так можно выразиться, побежало. Примерно годам к пяти Пантелейка просто не мог не безобразничать. Собственно, единственное, чем он умел заниматься, так это всякими хулиганствами. Например, Пантелейка был просто не в состоянии пройти мимо человека, не толкнув или не стукнув его. А уж если ни толкнуть, ни стукнуть было нельзя, так хоть страшную рожицу не мог не состроить Пантелейка или, на худой конец, – язык показать. Да что – человек! Пантелейка даже мимо стула не мог спокойно пройти, не опрокинув его на пол.
– Во разбойник растёт! – безмерно торжествовал папаша. – Не, не, такой в жизне не пропадёт! Он ждать не будет, когда его брякнут, он сам – рррраз! – и знай наших! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!
Ни братьев, ни сестер у Пантелейки не было, дружить с ним никто не хотел, посему он целыми днями изнывал, страдая от безделья и неумения чем-нибудь заняться.
Только два развлечения усвоил Пантелейка: всем пакостить и никого не слушаться.
Мама его, тишайший и наидобрейший человек, почти всё время болела, но ни разу не попросила любимого сыночка хотя бы стакан воды поднести. Он, любимый сыночек, всё равно бы не принёс!
– И в кого ты такой уродился? – горестно сокрушалась мама.
– В мене орел растёт, в мене! – безмерно восторгался папаша. – Ещё дале мене пойдет! У-у-у-ух, какой разбойник растёт!
– Да что же в этом хорошего? – недоумевала мама.
– В обиду себе не даст! – радостно объяснял папаша. – Сам забижать умеет. На тихих воду возят, тихие землю копают, а наш орел над собой командовать не даст! Молодец, сынок! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!
Никто, кроме папаши, Пантелейку не хвалил: не за что было его похвалить хотя бы немножечко. Все Пантелейку бранили, все жаловались на Пантелейку, но никто ничего не мог с ним поделать. Никого он не слушался, будто и не слышал никого, будто у него и ушей-то не было.
Одна мама жалела непутевого сыночка, знала уже, предчувствовала, что вырастет он плохим человеком, никому не принесёт радости. Даже когда мама пыталась приласкать Пантелейку, он вырывался и убегал делать пакости.
Рос он не по годам крупным, сильным, вот только голова у него росла медленно, непропорционально.
Не берусь, уважаемые читатели, сделать хотя бы самую робкую, самую незначительную попытку описать, как учился, вернее, НЕ учился Пантелей.
Сразу отмечу, что если он ни с кем не дружил, точнее, никто с ним не дружил, то и разговаривать ему было не с кем. И придя первый раз в первый класс, он даже имени своего не мог нормально выговорить.
– Как тебя зовут, мальчик? – глядя на него чуть ли не с ужасом, спросила учительница, которая ростом оказалась чуть-чуточку повыше его.
Он с очень большим трудом выговорил:
– П… п… ппа… нтя… лей… – и, устав от непосильного напряжения, безнадежно махнул длиннющей ручищей и сел, опустив непропорционально маленькую голову.
Так его и прозвали: Пантя.
Всего за четыре дня учительница совершенно с ним измучилась, ибо он её абсолютно не слушался, на уроках ничегошеньки не делал, домашние задания не выполнял, а только хулиганил.
А Пантя, как это ни покажется на первый взгляд странным, любил ходить в школу. Он сразу уразумел, что лучшего места для хулиганских и прочих безобразнических выходок на земле не существует. Сначала он даже несколько растерялся от изобилия возможностей совершать всякие, самые разнообразные пакости и в любом количестве, описывать которые у меня, уважаемые читатели, рука не поднимается.
В скором времени, едва завидя Пантю, девочки-первоклашки с визгами улетучивались…
И мальчишки-первоклашки быстренько ушмыгивали в разные стороны…
Настоящей грозой первоклашек Пантя стал, когда своей непропорционально маленькой головой сообразил, что портфель – очень удобная штука.
Стук! Стук!
Бряк! Бряк!
Бац!
Стук! Хлоп! Бряк!
Бац!
Бац!
Бац!..
пока однажды ручка у портфеля не оборвалась.
Ростом-то Пантя был почти как семиклассник, и от него уже убегали третьеклассники, не говоря о третьеклассницах.
Но всё-таки наибольший, прямо-таки захлебывающийся восторг вызывало у Панти то обстоятельство, что все его школьные пакости практически оставались безнаказанными. Получалось, что школа не имела никаких реальных возможностей по заслугам наказать распоясавшегося хулигана. А тот даже своей непропорционально маленькой головой сделал для себя важный вывод: вытворяй чего только тебе в эту голову взбредет, и ничегошеньки тебе не будет, даже чего-нибудь мало-мальски неприятного тебе не будет! Валяй, Пантя, валяй! Давай, Пантя, давай!
Будут одни лишь разговоры. И все будут помогать тебе. Даже кормить тебя будут, когда после уроков заниматься оставят! А то ещё и конфет дадут!
Мама очень страдала из-за его злостного хулиганства. Вызвали как-то папашу в школу, он несколько удивился:
– Чего я там не видал? Надо ежели, пусть сами к мене топают. Разбойника моего забижать не дам. Плохо учится? Пущай хорошо учат. За то и деньги получают.
И хотя мама болела, пришла она в школу.
Когда она скрылась за дверью в учительскую, Пантя крепко призадумался, так крепко призадумался, как никогда ещё в своей нудной и бесполезной жизни. Дело заключалось в том, что он поймал большую чёрную муху, осторожно держал её в кулаке и не мог сообразить, чего с этой большой чёрной мухой делать. Отпустить – глупо, зачем же он её тогда ловил? Убить – неинтересно.
И Пантя, весь содрогнувшись от предстоящего наслаждения, решил оторвать насекомому лапки. Задумано было, как решил злостный хулиган, здорово, а вот выполнить задуманное оказалось не так-то просто. Возился-возился-возился Пантя с мухой, вспотел даже от усердия. Муха ухитрилась и освободилась, но, видимо, от радости растерялась и, вместо того чтобы вылететь в окно, влетела – сильно и шумно – Панте в нос, точнее, в правую ноздрю.
Пантя от злобной злости или злостной злобы изо всех сил стукнул муху кулаком, а так как муха свирепо жужжала у него в носу, точнее, в правой ноздре, то сами понимаете, уважаемые читатели, что Пантя от самоудара неимоверно яростно и громко взвыл и ещё более неимоверно и яростно и совсем громко чиииииииииииих-нул!
Обезумевшая от страха муха вылетела из правой Пантиной ноздри и, простите за выражение, сдуру влетела в левую.
Это был её, мухи, бессознательный, но типично хулиганский поступок, и злостный хулиган, полностью растерявшись от мушиной наглости, тоже бессознательно ударил своей непропорционально маленькой головой о большую оконную раму и вы-бил муху из ноздри!
Шишечка у него на лбу получилась… и довольно быстренько превратилась в шишку.
Из учительской с заплаканными глазами вышла мама. Всю дорогу до дома молчала, а дома зарыдала.
Папаша же, узнав о посещении школы и о том, чего там говорили о его сыне, пренебрежительно отмахнулся и стал поучать:
– Мене, сынок, слушайся, мене, боле никого! Учителка сообразила, что ты плохо соображаешь? Зато те, которы больно много соображают, тебе пужаются! И шишку не прикрывай, сынок! Гордися ей! Сегодня у тебе шишка, завтра семь шишек другим набей! Которы много соображают! Живи, как тебе отец учит! И дело пойдет! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!
Вечером маму увезли в больницу. И там она умерла. Незадолго до смерти она сказала:
– Не от болезней я умираю, а от горя. Любимый сын мне это горе принёс.
И уж если мне, автору, уважаемые читатели, быть откровенным и честным до конца, должен я сообщить вам, что смерть мамы не произвела на Пантю особенного впечатления. Видимо, и сердце у него было меньше человеческого.
Все стали жалеть Пантю, перевели его, конечно, в следующий класс, пытались ему помочь, убеждали, предлагали, советовали, уговаривали. Но, полностью предоставленный самому себе, Пантя слонялся по посёлку, изнывая от безделья и одиночества, мучил котят и людей, ловил мух и обрывал им лапки…
Папаша приходил домой поздно, иногда приносил сыну поесть, иногда ничего не приносил и, если сын пробовал хныкать, успокаивал:
– Погодь, сынок, погодь. Скоро подрастёшь, сам себе кормить научишься.
Сейчас, уважаемые читатели, мне придётся написать самые горькие слова в этом повествовании. У Панти появилась мачеха, а папаша стал пьяницей.
Мачеха сразу невзлюбила Пантю. Пантя сразу возненавидел мачеху.
Папаша уже не только больше не хвалил сына, а вообще не обращал на него внимания. А когда сын пытался пожаловаться на мачеху, папаша самым решительным образом пытался отколотить его.
Вот и стал Пантя злостным хулиганом. На кого же, почему он злился? Злился на всех, потому что всем завидовал. Он ведь видел, что не только люди, но и кошки, и котята, даже мухи живут интереснее его.
В школе Пантю и жалели, и боялись, и, скажем прямо, ненавидели. Время от времени пытались злостного хулигана хоть чем-то заинтересовать, но всё безрезультатно.
Стал Пантя и в милицию попадать, но даже и это не толкнуло его на какие-нибудь полезные размышления о своём нудном и бесполезном существовании. Умственных способностей у безобразника хватало лишь на то, чтобы твёрдо усвоить одно: ничего ему не грозит, кроме бесполезных разговоров, которые сводились к не менее бесконечным уговариваниям.
Но если для Панти вся забота о нём представлялась ненужной и бесполезной, то на самом деле в его судьбе уже как раз к началу нашего повествования намечались значительные изменения. Совместными усилиями многих людей было решено добиться лишения Пантиного папаши отцовских прав, а злостного хулигана направить в детдом.
Ни о чем не подозревающий Пантя по-прежнему изнывал от безделья и одиночества, но придумал себе интересное занятие: пробовал отнимать деньги у малышей и у всех, кто его слабее. И хотя из этого ничего пока не получалось, Пантя не отступал, а стал соображать, как бы ему действовать половчее и понахальнее. Ведь им овладел большой замысел: наотбирать много-много-много-много денег, чтобы после освобождения из школы не работать, а ловить мух и делать людям пакости.
На этом, уважаемые читатели, заканчиваю изложение некоторых, к сожалению, необходимых сведений о нудном и бесполезном для себя и тем более для других существовании злостного хулигана Пантелеймона Зыкина по прозвищу Пантя и продолжаю наше повествование.
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА.
Настоящие звёзды на настоящем небе
Тётя Ариадна Аркадьевна повторила самым суровым тоном, исключающим всякую, даже наималейшую возможность ей противоречить:
– Первая обязанность ребенка – слушаться родителей и старших родственников.
Дед Игнатий Савельевич крякнул громко и вроде бы одобрительно, а эта милая Людмила охотно, торопливо, но как-то уж слишком небрежно согласилась:
– Никто и не собирается спорить с неоспоримой истиной.
– Ааа-аах… – с чрезвычайно глубоким сожалением выдохнула Голгофа. – Но если бы… хотя бы на одни суточки… на один бы ещё денёчек… поспорить с неоспоримой истиной!
– Тебе надобно возвращаться домой, девочка, – очень-очень-очень строго сказала, почти приказала тётя Ариадна Аркадьевна. – Ведь тебя уже наверняка разыскивает милиция! Вполне вероятно, что родители и бабушка полагают тебя чуть ли не по-гиб-шей… А кроме того, если смотреть в корень, ты, девочка, нарушаешь общественный порядок! А если в корень смотреть ещё глубже, ты, девочка, совершаешь моральное преступление!
Крякнув громко и довольно испуганно, дед Игнатий Савельевич пробормотал тихо, но вполне решительно:
– В корень ещё глубже посмотреть можно.
– Дорогие товарищи! – относительно мягко, однако и достаточно твёрдо произнесла эта милая Людмила, а продолжала почти вкрадчиво: – Ну пусть девочка хоть один разик в жизни сама ответит за своё поведение. Если её одну не пускают даже в кино, значит, ей просто необходимо принять участие в нашем многодневном походе.
Голгофа пронзительно и часто-часто-часто зашмыгала носом и несколько минут радостно рыдала, но слёз на сей раз выделяла не очень много.
И пока она радостно рыдает, а все ждут, когда она прекратит заниматься этим, проинформирую вас, уважаемые читатели, о том, что поделывает кот Кошмар, которому предстоит, повторяю, сыграть в нашем повествовании немалую роль. Ведь он, если вы помните, относился к происходившим вокруг него событиям довольно небезразлично и не собирался быть всего лишь сторонним наблюдателем их.
Всем своим до предела возмущённым существом Кошмар почуял в происходивших на его плутовских глазах событиях что-то крайне для себя недоброе, даже устрашающее.
Кошачьим умом, вернее, умишечком, он смутно догадывался: если сейчас же, немедленно не предпримет самых очень наирешительнейших и не менее наинаглейших мер, то вполне может быстренько и уже навсегда лишиться столь привычной для него необыкновенной любви своей благодетельницы.
Мало того, что она, благодетельница, перестала беспрекословно выполнять его, любимого, желания! В домике, где всё недавно безраздельно принадлежало ему, Кошмару, она, благодетельница, ещё поселила эту неприятнейшую особку по кличке Людмила!
И Кошмаровых мозгов вполне хватило сообразить, что она, неприятнейшая особка, уже завладела вниманием, а может быть, и необыкновенной любовью его, кота, благодетельницы.
Ни одного доброго дела не сделал, даже и не пытался, не собирался сделать Кошмар в течение всей своей хулигански-бандитски-разбойничьей жизни, зато уж на всяческие пакости, мерзости, гадости и безобразия он был почти весьма великий выдумщик.
Вот и сейчас он вдруг без всякой, как говорится, подготовки завыл-завопил изо всех сил таким истошным голосом, будто ему хвост горячим электрическим утюгом придавили.
Услышав отдаленный вой-вопль, тётя Ариадна Аркадьевна охнула, ахнула, собралась снова охнуть или ахнуть и буквально испарилась…
– Ждите меня! Я быстро! Готовьтесь к походу! – И эта милая Людмила исчезла следом. Она сразу догадалась, что Кошмар чего-то задумал и требуется её немедленное вмешательство.
Едва они с тётей Ариадной Аркадьевной стремительно влетели в комнатку, как кот, сверхистошно и не менее дико мяргнув четыре раза, устрашающе захрипел и хлоп на спину – лапы вверх!
– Игривый котик, – насмешливо сказала эта милая Людмила. – Пошутить решил, шалунишка, от нечего делать.
От злости, злобы и возмущения Кошмар едва не задохнулся. Дрыгая четырьмя лапами одновременно, он три раза дернулся, опрокинулся на бок и шесть раз очень-очень-очень хрипло мяукнул.
– Он захворал, заболел, занемог! – испуганно воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна.
– Вряд ли. С чего ему хворать, болеть, занемогать?
Кошмар поднатужился и с большим усилием издал хриплое и прерывистое мяуканье, несколько похожее на хрюканье, и мелко-мелко-мелко-мелко подергал лапами.
– Сейчас мы моментально определим состояние его здоровья! – весело сказала эта милая Людмила, сбегала на кухоньку, вернулась оттуда с куском колбасы и положила его прямо перед носом кота. – Если он, бедняжечка, нездоров, то и не…
И, не успев ничего сообразить, Кошмар машинально и моментально проглотил колбасу и так же машинально и моментально вскочил на лапы, с блаженством облизнулся и требовательно мяргнул.
Тётя Ариадна Аркадьевна счастливо рассмеялась и проговорила нежно:
– Да он просто ревнует. Привык, миленький, что здесь заботятся только о нём. Только на него направлено всё внимание. А я стала оставлять его одного, вот он и нервничает!
Выгнувшись крутой дугой, Кошмар издал примерно такие звуки:
– Мяяаааа… мяяуууу… уууууурррррр…мя!
Это в переводе на человеческий язык означало: вы у меня ещё попрыгаете! Обе!
– А он, оказывается, ещё и злой! – удивилась эта милая Людмила. – Я ему категорически не понравилась… Не сердитесь на меня, дорогая тётечка, но жить так, как живёте вы…
– Ты, надеюсь, слышала народную мудрость, гласящую, что яйца курицу не учат? – сердито перебила тётя Ариадна Аркадьевна.
– Я и не собираюсь учить вас, тётечка. Не такая уж я бестактная и глупая. Я просто полюбила вас, и меня тревожит…
– Ах, оставь, пожалуйста, – ещё сердитее перебила тётя Ариадна Аркадьевна. – Ты почти неплохая девочка. И раздражаешь меня гораздо менее ужасно, чем остальные дети. Но согласись, что ты излишне и даже опасно самостоятельна и не в меру, прости, до неприличия самоуверенна. И я не представляю, абсолютно не представляю, как сложатся наши взаимоотношения хотя бы в недалёком будущем.
Кошмар откровенно радостно и не менее откровенно нагло заурчал, не подошёл, а прямо-таки протанцевал к своей благодетельнице и с подхалимски-торжествующим мяуканьем стал тереться о её ноги.
Эта милая Людмила несколько виноватым, хотя и довольно непререкаемым тоном проговорила:
– Вы, дорогая тётечка, просто не знаете современных детей. А они, дети, то есть мы, достаточно интересны и сложны, и не всегда в нас легко разобраться. – Она устало передохнула. – Конечно, среди нас есть немало людей недостойных, но среди нас и немало выдающихся личностей.
– Колоссальнейшее самомнение! – жалобно воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна и возмущённо продолжала: – И более того, колоссальнейшее заблуждение!.. Вы… вы… вы ещё не вы… дающиеся личности, а… а… а личинки личностей!
– Предположим, предположим, предположим! – громко и звонко, с явным вызовом ответила эта милая Людмила. – Но ведь вы не будете отрицать, что любая взрослая личность когда-то была личинкой личности? И вы, дорогая тётечка, в своё время тоже были ребенком! НАМ, ДЕТЯМ, ТРУДНО ПОНИМАТЬ ВАС, ВЗРОСЛЫХ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ ВЗРОСЛЫМИ! – В её голосе проскользнули обиженные нотки, но постепенно голос становился всё звонче и громче, словно она находилась не в маленькой комнатке, а в большой аудитории на трибуне. – ВЕДЬ СТОИТ ВАМ, ВЗРОСЛЫМ, ТОЛЬКО ХОРОШЕНЕЧКО ПРИПОМНИТЬ, КАКИМИ ВЫ БЫЛИ В ДЕТСТВЕ, И ВЫ НАС, ДЕТЕЙ, СРАЗУ ПОЙМЁТЕ! Все наши желания станут вам понятными! Все наши ошибки! Все наши стремления! Все наши глупости! И тогда ваш наглый кот не будет вам дороже хотя бы родной племянницы!
Можно сказать, что Кошмар в высшей степени подло захихикал, вернее, заиздавал звуки, очень отдаленно напоминающие что-то именно вроде в высшей степени подлого хихиканья.
И эта милая Людмила проговорила наставительным тоном, обращаясь к подло хихикающему коту:
– Смеется тот, кто смеется последним… – А тётечке она сказала: – Вы зря на меня обиделись. Ведь я от всего сердца…
– У тебя нет… сердца… – еле-еле-еле-еле слышно прошептала тётя Ариадна Аркадьевна, сжав виски ладонями, низко и бессильно опустив голову… – У… такой… на может… быть… сердца…
Торжествующе прохрипев, Кошмар прыгнул к своей благодетельнице, долго устраивался, свернулся клубком и удовлетворённейше замурлыкал.
– Первая обязанность ребенка – слушаться родителей и старших родственников.
Дед Игнатий Савельевич крякнул громко и вроде бы одобрительно, а эта милая Людмила охотно, торопливо, но как-то уж слишком небрежно согласилась:
– Никто и не собирается спорить с неоспоримой истиной.
– Ааа-аах… – с чрезвычайно глубоким сожалением выдохнула Голгофа. – Но если бы… хотя бы на одни суточки… на один бы ещё денёчек… поспорить с неоспоримой истиной!
– Тебе надобно возвращаться домой, девочка, – очень-очень-очень строго сказала, почти приказала тётя Ариадна Аркадьевна. – Ведь тебя уже наверняка разыскивает милиция! Вполне вероятно, что родители и бабушка полагают тебя чуть ли не по-гиб-шей… А кроме того, если смотреть в корень, ты, девочка, нарушаешь общественный порядок! А если в корень смотреть ещё глубже, ты, девочка, совершаешь моральное преступление!
Крякнув громко и довольно испуганно, дед Игнатий Савельевич пробормотал тихо, но вполне решительно:
– В корень ещё глубже посмотреть можно.
– Дорогие товарищи! – относительно мягко, однако и достаточно твёрдо произнесла эта милая Людмила, а продолжала почти вкрадчиво: – Ну пусть девочка хоть один разик в жизни сама ответит за своё поведение. Если её одну не пускают даже в кино, значит, ей просто необходимо принять участие в нашем многодневном походе.
Голгофа пронзительно и часто-часто-часто зашмыгала носом и несколько минут радостно рыдала, но слёз на сей раз выделяла не очень много.
И пока она радостно рыдает, а все ждут, когда она прекратит заниматься этим, проинформирую вас, уважаемые читатели, о том, что поделывает кот Кошмар, которому предстоит, повторяю, сыграть в нашем повествовании немалую роль. Ведь он, если вы помните, относился к происходившим вокруг него событиям довольно небезразлично и не собирался быть всего лишь сторонним наблюдателем их.
Всем своим до предела возмущённым существом Кошмар почуял в происходивших на его плутовских глазах событиях что-то крайне для себя недоброе, даже устрашающее.
Кошачьим умом, вернее, умишечком, он смутно догадывался: если сейчас же, немедленно не предпримет самых очень наирешительнейших и не менее наинаглейших мер, то вполне может быстренько и уже навсегда лишиться столь привычной для него необыкновенной любви своей благодетельницы.
Мало того, что она, благодетельница, перестала беспрекословно выполнять его, любимого, желания! В домике, где всё недавно безраздельно принадлежало ему, Кошмару, она, благодетельница, ещё поселила эту неприятнейшую особку по кличке Людмила!
И Кошмаровых мозгов вполне хватило сообразить, что она, неприятнейшая особка, уже завладела вниманием, а может быть, и необыкновенной любовью его, кота, благодетельницы.
Ни одного доброго дела не сделал, даже и не пытался, не собирался сделать Кошмар в течение всей своей хулигански-бандитски-разбойничьей жизни, зато уж на всяческие пакости, мерзости, гадости и безобразия он был почти весьма великий выдумщик.
Вот и сейчас он вдруг без всякой, как говорится, подготовки завыл-завопил изо всех сил таким истошным голосом, будто ему хвост горячим электрическим утюгом придавили.
Услышав отдаленный вой-вопль, тётя Ариадна Аркадьевна охнула, ахнула, собралась снова охнуть или ахнуть и буквально испарилась…
– Ждите меня! Я быстро! Готовьтесь к походу! – И эта милая Людмила исчезла следом. Она сразу догадалась, что Кошмар чего-то задумал и требуется её немедленное вмешательство.
Едва они с тётей Ариадной Аркадьевной стремительно влетели в комнатку, как кот, сверхистошно и не менее дико мяргнув четыре раза, устрашающе захрипел и хлоп на спину – лапы вверх!
– Игривый котик, – насмешливо сказала эта милая Людмила. – Пошутить решил, шалунишка, от нечего делать.
От злости, злобы и возмущения Кошмар едва не задохнулся. Дрыгая четырьмя лапами одновременно, он три раза дернулся, опрокинулся на бок и шесть раз очень-очень-очень хрипло мяукнул.
– Он захворал, заболел, занемог! – испуганно воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна.
– Вряд ли. С чего ему хворать, болеть, занемогать?
Кошмар поднатужился и с большим усилием издал хриплое и прерывистое мяуканье, несколько похожее на хрюканье, и мелко-мелко-мелко-мелко подергал лапами.
– Сейчас мы моментально определим состояние его здоровья! – весело сказала эта милая Людмила, сбегала на кухоньку, вернулась оттуда с куском колбасы и положила его прямо перед носом кота. – Если он, бедняжечка, нездоров, то и не…
И, не успев ничего сообразить, Кошмар машинально и моментально проглотил колбасу и так же машинально и моментально вскочил на лапы, с блаженством облизнулся и требовательно мяргнул.
Тётя Ариадна Аркадьевна счастливо рассмеялась и проговорила нежно:
– Да он просто ревнует. Привык, миленький, что здесь заботятся только о нём. Только на него направлено всё внимание. А я стала оставлять его одного, вот он и нервничает!
Выгнувшись крутой дугой, Кошмар издал примерно такие звуки:
– Мяяаааа… мяяуууу… уууууурррррр…мя!
Это в переводе на человеческий язык означало: вы у меня ещё попрыгаете! Обе!
– А он, оказывается, ещё и злой! – удивилась эта милая Людмила. – Я ему категорически не понравилась… Не сердитесь на меня, дорогая тётечка, но жить так, как живёте вы…
– Ты, надеюсь, слышала народную мудрость, гласящую, что яйца курицу не учат? – сердито перебила тётя Ариадна Аркадьевна.
– Я и не собираюсь учить вас, тётечка. Не такая уж я бестактная и глупая. Я просто полюбила вас, и меня тревожит…
– Ах, оставь, пожалуйста, – ещё сердитее перебила тётя Ариадна Аркадьевна. – Ты почти неплохая девочка. И раздражаешь меня гораздо менее ужасно, чем остальные дети. Но согласись, что ты излишне и даже опасно самостоятельна и не в меру, прости, до неприличия самоуверенна. И я не представляю, абсолютно не представляю, как сложатся наши взаимоотношения хотя бы в недалёком будущем.
Кошмар откровенно радостно и не менее откровенно нагло заурчал, не подошёл, а прямо-таки протанцевал к своей благодетельнице и с подхалимски-торжествующим мяуканьем стал тереться о её ноги.
Эта милая Людмила несколько виноватым, хотя и довольно непререкаемым тоном проговорила:
– Вы, дорогая тётечка, просто не знаете современных детей. А они, дети, то есть мы, достаточно интересны и сложны, и не всегда в нас легко разобраться. – Она устало передохнула. – Конечно, среди нас есть немало людей недостойных, но среди нас и немало выдающихся личностей.
– Колоссальнейшее самомнение! – жалобно воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна и возмущённо продолжала: – И более того, колоссальнейшее заблуждение!.. Вы… вы… вы ещё не вы… дающиеся личности, а… а… а личинки личностей!
– Предположим, предположим, предположим! – громко и звонко, с явным вызовом ответила эта милая Людмила. – Но ведь вы не будете отрицать, что любая взрослая личность когда-то была личинкой личности? И вы, дорогая тётечка, в своё время тоже были ребенком! НАМ, ДЕТЯМ, ТРУДНО ПОНИМАТЬ ВАС, ВЗРОСЛЫХ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ ВЗРОСЛЫМИ! – В её голосе проскользнули обиженные нотки, но постепенно голос становился всё звонче и громче, словно она находилась не в маленькой комнатке, а в большой аудитории на трибуне. – ВЕДЬ СТОИТ ВАМ, ВЗРОСЛЫМ, ТОЛЬКО ХОРОШЕНЕЧКО ПРИПОМНИТЬ, КАКИМИ ВЫ БЫЛИ В ДЕТСТВЕ, И ВЫ НАС, ДЕТЕЙ, СРАЗУ ПОЙМЁТЕ! Все наши желания станут вам понятными! Все наши ошибки! Все наши стремления! Все наши глупости! И тогда ваш наглый кот не будет вам дороже хотя бы родной племянницы!
Можно сказать, что Кошмар в высшей степени подло захихикал, вернее, заиздавал звуки, очень отдаленно напоминающие что-то именно вроде в высшей степени подлого хихиканья.
И эта милая Людмила проговорила наставительным тоном, обращаясь к подло хихикающему коту:
– Смеется тот, кто смеется последним… – А тётечке она сказала: – Вы зря на меня обиделись. Ведь я от всего сердца…
– У тебя нет… сердца… – еле-еле-еле-еле слышно прошептала тётя Ариадна Аркадьевна, сжав виски ладонями, низко и бессильно опустив голову… – У… такой… на может… быть… сердца…
Торжествующе прохрипев, Кошмар прыгнул к своей благодетельнице, долго устраивался, свернулся клубком и удовлетворённейше замурлыкал.
