Страница:
– А я уверен, что именно Пантя сбезобразничал! – крикнул Герка, вскочив со стула. – И получить за это должен! Хватит ему над людьми издеваться! Пусть в тюрьме посидит! А люди пусть спокойно без него поживут!
– Ну уж и тюрьма сразу, – расстроился дед Игнатий Савельевич. – Школьников туда не берут. Нет такого закона.
– А есть такой закон, чтоб у людей деньги отбирать? – ещё громче крикнул Герка. – Чего ты его защищаешь?
– Я его не защищаю, – печально отозвался дед Игнатий Савельевич. – Жалею я его иногда. Уж больно жизнь у него нескладная. А с машиной милиция и без нас разберётся.
– Вот как раз без нас-то она и не разберётся! – И Герка выскочил из комнаты.
Мысль о мести не давала ему не только покоя, но и всего его издергала. Он припоминал и припоминал со всё большим количеством подробностей многочисленные обиды и не менее многочисленные издевательства. Особенно мучило Герку сегодняшнее воровство трёшки. Сначала он хотел сразу рассказать обо всём деду, но даже подумать об этом было стыдно до невозможности.
Собственная трусость угнетала Герку, Он бы давно сбегал к участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову и сообщил бы о предполагаемом Пантином преступлении. Ведь он не стал бы доказывать, что именно Пантя изрезал колёса, зато бы повторял и повторял, что многим известно: около машины утром крутился один только Пантя, а он вам зря крутиться не будет… Но Герка трусил! Вдруг злостный хулиган узнает, кто заявил о нём в милицию?! И постыднее всего было то, что Герка всё равно не сомневался: изрезанные колёса – дело длиннющих ручищ Панти!
Измучился Герка, устал, изнемог, но желание отомстить не унималось, а рослоООООООООО, становилось всё острееееее и даже больнееееееееееее… Ой!
Не выдержав борьбы с самим собой, Герка бросился в милицию, там, заикаясь и спрятав дрожащие руки за спину, рассказал он участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову о том, что колёса мог изрезать только злостный хулиган Пантелеймон Зыкин по прозвищу Пантя.
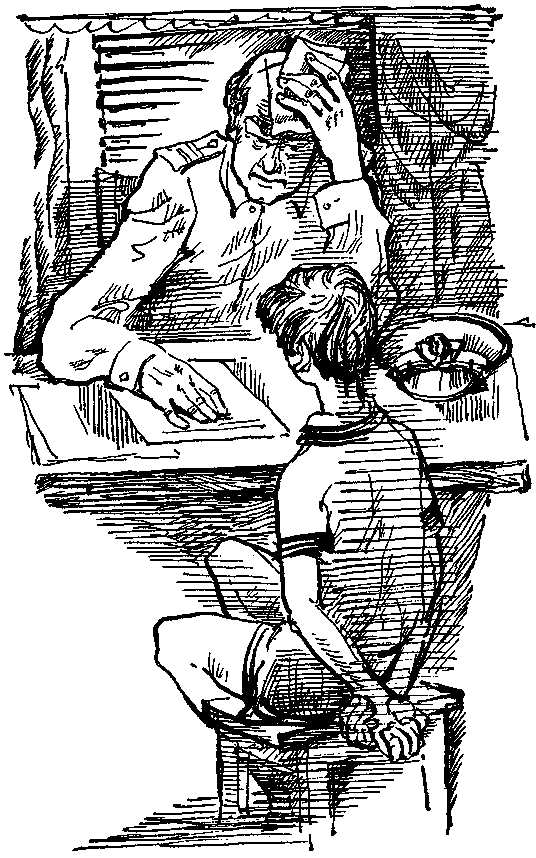 Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов был хороший дяденька, в посёлке его уважали за строгость, доброту и справедливость, и поэтому он обескуражил Герку своим отношением к его, очень мягко выражаясь, рассказу.
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов был хороший дяденька, в посёлке его уважали за строгость, доброту и справедливость, и поэтому он обескуражил Герку своим отношением к его, очень мягко выражаясь, рассказу.
– Сам видел? – довольно грубовато спросил он, снял маленькую фуражку с огромной головы, тщательно промакнул лысину платком, надел фуражку. – Сам, значит, не видел?.. Тогда, значит, и разговаривать нам не о чем. Так мы не работаем. Пантя – элемент, конечно, частично антиобщественный, это всем известно. Но и сваливать на него любое хулиганство без достаточных оснований – не дело. За то, что поделился со мной подозрениями, спасибо. Учтём.
И обескураженный Герка убрел на берег реки, уселся там в очень страшной тоске, бессилии и злости… И ещё ему было почему-то стыдно… Он машинально швырял в реку камешки и никак не мог определить причину стыда… И никогда до этого не испытывал Герка такого одиночества, как сейчас. Он попытался отыскать в душе хоть бы самое ничтожное желание, но уже не мог даже поднять руки с камешком.
Лишь что-то легонько шевельнулось в сознании, когда он вспомнил об этой милой Людмиле, вернее, о её больших чёрных глазах… Чего, интересно, она сейчас делает? Кем командует? Кого учит? Кого информирует, комментирует, анализирует?
А она с тётей Ариадной Аркадьевной сидела на крылечке. Они часа два пробродили в окрестностях посёлка, прошли вдоль опушки леса, рассчитывая, что Голгофа не могла уйти далеко, устали и вот сейчас размышляли о Панте, выясняя вопрос о том, надо ли сообщать в милицию о своих подозрениях.
– Вы знаете, тётечка, – решительно сказала племянница, – мне вот нисколечко не жаль врача-грубияна-эскулапа. Ведь он за всё время ни разика не вспомнил о дочери. Его волнует только машина. И пока вопрос с нею не будет решен, он будет здесь шуметь. Может быть, Голгофа выжидает, когда он уедет?
– Мы можем лишь гадать. Мне лично жаль Пантю, – призналась тётя Ариадна Аркадьевна, – хотя более злостного малолетнего хулигана я не встречала за всю свою жизнь. И я никак не могу понять, что могло толкнуть его на такое изуверство по отношению к машине. А вдруг есть какая-то связь между историей с машиной и уходом Голгофы. Что-то угадывается… Но – что?
– Мне её уход совершенно непонятен. В нём есть нечто таинственное и… подозрительное.
Во дворик ворвался дед Игнатий Савельевич и ещё у калиточки прокричал возбуждённо:
– Герой-то мой, Герка-то мой единственный что натворил?! Участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову на Пантю пожаловался! Пантя, конечное дело, большой специалист по безобразиям, но ведь прежде чем жаловаться, надо факты иметь! Неопровержимые! – Он махнул рукой и так стремительно выскочил из дворика на улицу, будто бы проскользнул в щелочку между досочками калиточки.
Далее он промчался по улицам посёлка с быстротой и легкостью, с какими не передвигался уже лет сорок. И хотя силы ему придавало возмущение, все, видевшие его, скажем прямо, рекордсменский бег, радовались за деда. Но постепенно силы его иссякли, и к участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову дед Игнатий Савельевич вошёл медленно и покачиваясь, кивнул и тяжело опустился на стул.
– Как ты знаешь, Яков Степанович, – с трудом сдерживая усталое пыхтение, выговорил он, – в нашем посёлке возле моего дома совершено преступление. Приведена в негодность личная машина марки «Жигули».
– Знаю, знаю, – без всякого интереса выслушал и равнодушно ответил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, снял фуражку, платком промакнул лысину, помахал над нею фуражкой, надел её. – Знаю, знаю.
– Но тебе неизвестно, кто совершил преступление!
– Пока неизвестно.
Дед Игнатий Савельевич очень тяжело поднялся и гордо заявил:
– Данное преступление совершил я.
– С какой целью? – невозмутимо спросил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, помахав фуражкой над головой.
– С целью мести за внука, – вызывающе ответил дед Игнатий Савельевич, снова тяжко задышав, потому что с непривычки врать ему было очень и очень трудно. – Врач, владелец машины, издевался над моим внуком, незаконно ВЫКОЛОТИЛ из меня четырнадцать рублей тридцать копеек, и я отомстил ему.
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов снял фуражку, долго вытирал лысину платком, надел фуражку и устало проговорил:
– Ну и понесёшь, Игнатий Савельевич, заслуженное наказание по всей строгости закона. Конечно, суд учтет твой немолодой возраст, учтёт также твои прежние трудовые заслуги, но всё равно за дачу ложных показаний придётся отвечать. Можешь идти. А вводить нас в заблуждение на старости лет позорно и постыдно.
– Я… я… я не ввожу… – виновато пролепетал дед Игнатий Савельевич, но, помолчав, собрав силы, с достоинством сказал: – Я преступник, и ты, Яков Степанович, обязан принять меры.
– Приму меры, приму, не беспокойся. Бери вот бумагу и подробно опиши, как ты совершил преступление. И если в твоем заявлении будет хоть одно слово правды, немедленно приму меры. В противном случае будешь наказан за дачу заведомо ложных показаний.
– А писать-то зачем?
– Чтобы имелось, так сказать, доказательство того, хотел ты или не хотел, собирался или не собирался вводить нас в заблуждение.
– Не веришь мне?
– Не только не верю… – Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов долго махал фуражкой над лысиной. – Стыжусь я за тебя всеми силами души. Иди и сам стыдись и тоже всеми силами души.
Добредя до дверей, дед Игнатий Савельевич обернулся и еле слышным голосом проговорил:
– Прости, Яков Степанович. Хотел ведь я доброе дело сделать. Ошибку своего внука исправить, а… А осечка получилась. Но ты на меня не серчай.
Он ковылял по улицам, даже не замечая, куда движется. Ему казалось, что все встречные здороваются с ним насмешливо, а то и осуждающе, и все видят, как от стыда у него разгорелись уши… Эх, Герка, Герка… на какой позор вынудил деда пойти!.. Да и ты, дед, тоже сообразил… Герка-то хоть из трусости на Пантю жаловался… А ты решил по глупости его, хулигана все-таки, спасти…
И дед Игнатий Савельевич в горестных размышлениях своих не заметил, конечно, как мимо него проторопилась уважаемая соседушка – тётя Ариадна Аркадьевна, но не заметил и того, что она постаралась, чтобы он её не углядел.
А она, войдя в милицию, заговорила с достоинством:
– Я всегда считала своим долгом, Яков Степанович, быть по возможности до предела честной и правдивой. И посему, когда обнаружила, что вы не в состоянии раскрыть преступление, совершенное недавно и невдалеке от моего местожительства… Я решила сама признаться, чтобы избавить вас от лишних хлопот и траты времени… Заявляю: преступление совершила я.
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов резко встал, налил из графина полный стакан воды, залпом выпил его, грозным взглядом посмотрел на странную посетительницу-заявительницу, выпил ещё стакан, но уже неторопливо, снял фуражку, промакнул лысину платком, надел фуражку и умоляющим голосом спросил:
– Чего вы этого хулигана защищаете? Чего вы из-за него под суд захотели? Преступление она совершила! Хватит мне сказки рассказывать! – Он удивительно громко постучал указательным пальцем по краю стола. – С какой целью вы на себя напраслину возводите? С какой целью вводите меня в заблуждение?
– Прошу не разговаривать со мной в таком тоне, Яков Степанович! – возмущённо и оскорблённо сказала тётя Ариадна Аркадьевна, придерживая руками трясущиеся косички. – К вам официально обратилась, повторяю, официально обратилась прес-туп-ни-ца, а вы разговариваете с ней, как с расшалившейся школьницей! Будьте любезны отнестись ко мне со всей серьёзностью и арестуйте меня! Иначе я буду жаловаться! Не пытайтесь свалить вину на несчастного мальчика!
– И! Арес! И! Туем! – Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов не сел, а прямо-таки бессильно упал в кресло. – Арестуем, арестуем… кого надо и когда надо, – тихим голосом сказал он. – А вы отправляйтесь домой и смотрите с вашим любимым котом телевизор… Вам-то как не стыдно врать? – взмолился он. – А?
– Конечно стыдно! Ещё как стыдно! – охотно и горячо согласилась странная посетительница-заявительница. – Но у меня нет другого выхода. Нельзя любое хулиганство сваливать на Пантю. Конечно, за свои прошлые безобразия он достоин осуждения, но ведь он живёт в такой ужасной семье…
– И это не оправдание для введения меня в заблуждение. Преступник от нас не уйдёт. А судьбой Панти мы давно занимаемся, не беспокойтесь.
– Прошу извинить меня, Яков Степанович, но ведь я действительно поступала из самых добрых побуждений.
– А я убеждён, Ариадна Аркадьевна, что и преступник в данной ситуации действовал тоже из самых добрых, даже добрейших, как ему казалось, побуждений. Да, да, приводя в негодность машину таким варварским способом, он был убеждён, что совершает благо! Всего вам хорошего! До встречи на рыбалке!
После ухода странной посетительницы-заявительницы участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов решил, что теперь он может хоть чуточку отдохнуть.
Именно чуточку он и успел отдохнуть, как явилась незнакомая ему маленькая девочка, кудрявенькая, с большими чёрными глазами, и очень вежливо поздоровалась.
– Кто тебя обидел? – ласково спросил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, потому что любил детей.
– Меня никто не посмеет обидеть, – с неожиданным высокомерием ответила девочка. – Я этого никому не позволю.
– Тогда на что или на кого жалуешься?
– Я не жалуюсь. Я наоборот. Вы ищете преступника, который сегодня утром изрезал колёса у «Жигулей» цыплячьего цвета. Так вот, было бы вам известно…
– Что это сделала ты! – И участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов начал громко хохотать и сквозь громкий хохот еле выговорил: – Как тебе… трудно… бедная… было! – Его буквально затрясло от хохота, но довольно скоро он перестал хохотать, потому что звонко и громко засмеялась девочка. Она заливалась смехом всё громче и звонче, всё звонче и громче.
– Собственно… собственно… – в совершенной растерянности пробормотал участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, но заставил себя выглядеть суровым и суровым же голосом спросил: – Ты хоть имеешь представление, куда ты явилась?
– Явилась я туда, – крайне насмешливо ответила девочка, – где приход преступника вызывает неуместный смех у того, кто обязан ловить этого преступника, а не хохотать.
– Какая же ты преступница, милая ты моя? Ты, может, толком и не знаешь, чего это слово значит?
– Я даже знаю, что должны делать в милиции, когда туда является с повинной преступник.
– И что же тут должны делать в таком случае?
– По крайней мере, заинтересоваться личностью явившегося, серьёзно заняться им, а не хохотать, будто Юрий Никулин пришёл.
– Заинтересуемся, будем серьёзны, – согласился участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов. – Почему ты решила взять под защиту Пантю, известного злостного хулигана? Безобразника и антиобщественника? И как тебя, милая, звать? Меня – Яков Степанович.
– Очень приятно познакомиться. Меня зовут Людмилой. А откуда вы знаете…
– Я даже знаю, где сейчас находится Пантя, которого вдруг все решили защищать.
– Предположим, вы знаете, где сейчас находится Пантя, – довольно насмешливо проговорила эта милая Людмила. – Но какое имеет значение…
– А вот какое. Он идёт по дороге к Дикому озеру с девочкой, которую ищет отец, – владелец кем-то искорёженной машины, – тоже довольно насмешливо сказал участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, наслаждаясь обескураженным выражением лица девочки. – Интересная для тебя новость?
– Потрясающая новость… Даже в голове не укладывается. Правда, отец пока не вспоминает о дочери… Но сначала о Панте. Понимаете, Яков Степанович, я не могу не жалеть его. Вот вчера поздно вечером он был голоден, да его ещё не пускали домой ночевать. Я вынесла ему поесть, и, представьте себе, он плакал. А тут его стали подозревать в истории с машиной, и я…
– Эх, какие вы все, я имею в виду вас, молодежь… – осуждающе, но мягко перебил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, долго обмахивал лысину фуражкой. – Какие вы все…
– Самостоятельные? – с вызовом спросила эта милая Людмила.
– Безответственные. И слишком уж самоуверенные. Плохо, конечно, не то, что ты пожалела Пантю, его есть за что пожалеть. Но ведь прежде чем начать делать что-нибудь серьёзное, надо ведь сто раз подумать и хотя бы один раз посоветоваться. Вот пришла бы ты ко мне и вместо того, чтобы врать…
– А взрослые никогда не врут? Они никогда не поступают безответственно?
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов тщательно промакнул лысину платком, надел фуражку, помолчал и ответил:
– Врут. И безответственных среди нас хватает. Но только потому, что в детстве их от этого не отучили В детстве, предположим, у ребеночка носик у-у-у какой малюсенький, а у взрослого у-у-у-у какой носина вырасти может! В детстве привыкнет на мизинец обманывать, а взрослым станет, ему и государство обмануть – пара пустяков… Чего молчишь?
– Возражать нечего. Я тоже считаю, что наличие в жизни плохих взрослых – не оправдание нашего плохого поведения… Но как наша девочка оказалась с Пантей?
– Если будешь держать язык за зубами…
– Даю честное слово.
– Хулиганы у нас стали появляться на Диком озере. Когда-то оно, видимо, диким и было, а теперь просто распрекрасное место для отдыха, рыбалки и всего такого прочего. Вот и приезжают туда целыми компаниями хулиганы и безобразничают. Мешают людям отдыхать. Дружинник Алёша Фролов сегодня туда уже наведывался, а по дороге и встретил Пантю. – Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов помахал фуражкой над головой. – Сегодня мы туда организуем большой выезд к нашим активом. Привезём Пантю и девочку. Сами вы пока на озеро носа лучше и не показывайте.
Зазвонил телефон, и эта милая Людмила невольно прислушалась к разговору. Особенно ей запомнились слова:
– Выезжаем в семнадцать ноль-ноль… Людей хватает… Есть доложить… Ну, будь здорова, Людмила. Рад был с тобой познакомиться.
– Я тоже, Яков Степанович. Всегда приятно встретить умного и откровенного человека.
Они крепко пожали друг другу руки, довольные тем, что взрослые и дети в конечном итоге делают общее дело – помогают людям жить и работать. И лишний раз убедиться в этом им обоим было важно и даже необходимо.
А теперь, уважаемые читатели, нам с вами придётся вернуться к неприятным событиям, но сначала мы понаблюдаем за двумя счастливейшими людьми.
Голгофа и Пантя чувствовали себя настолько счастливейшими, что если бы сейчас их увидел кто-нибудь посторонний, то вполне мог их счесть хотя бы чуточку ненормальными.
Например, когда Голгофа впервые в жизни увидела в траве живую землянику, то завизжала так пронзительно, что Пантя вздрогнул и бросился бежать: думал, что на них рушится дерево. А она, не переставая визжать, упала перед ягодой на колени, раскинула руки, словно собиралась её обнять, приникла к ней лицом.
– Да вон их тут сколько, – удивленно и покровительственно сказал Пантя.
– Но ведь это же земляника! – восторженно воскликнула Голгофа. – Настоящая земляника! Я же её только на блюдечках видела да в стаканах! Одна ягодка, а пахнет-то, пахнет-то как!
– Ты её ешь, ешь, чего любоваться-то?
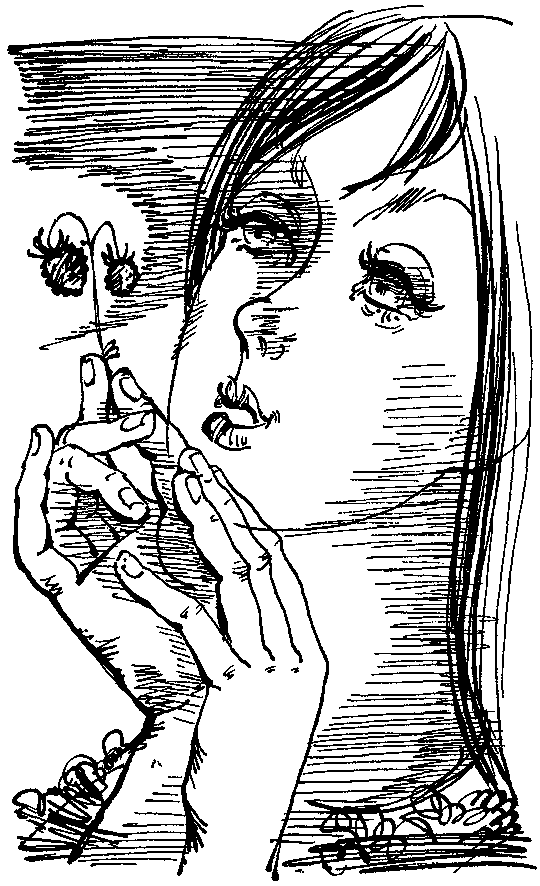 И Голгофа ела каждую ягодку отдельно, осторожно, с наслаждением вдыхая аромат, закрыв глаза. Панте это было и смешно, и приятно, и непонятно. Он изредка стыдливо гоготал, сидя в сторонке, любовался Голгофой и от её восторженности словно уставал, наконец ослабел настолько, что опрокинулся в траву вверх лицом.
И Голгофа ела каждую ягодку отдельно, осторожно, с наслаждением вдыхая аромат, закрыв глаза. Панте это было и смешно, и приятно, и непонятно. Он изредка стыдливо гоготал, сидя в сторонке, любовался Голгофой и от её восторженности словно уставал, наконец ослабел настолько, что опрокинулся в траву вверх лицом.
И вдруг неожиданно крепко заснул…
Проспал он всего несколько минут, а проснулся в страхе: ему показалось, что прошло чуть ли не несколько часов! Но Голгофа ничего не заметила, она на четвереньках ходила кругами по траве, ела ягоды и уже не визжала, не восклицала восторженно, а лишь изредка тихо и ласково охала…
Пантя посидел, приходя в себя от неожиданного глубокого сна, вскочил и испуганно крикнул:
– Слушай, ты! Этак мы с тобой сегодня до озера не дойдем! А ночевать по дороге негде! А ягод там ещё боле, чем здесь!
– Ах, Пантя, Пантя! – выдохнула, подбежав к нему, Голгофа. – Если бы ты только знал! Как всё замечательно!
– Аёда, айда! – От радости Пантя хихикнул. – На озере ещё красивше! Айда!
Но не успели они пройти и нескольких метров, как Голгофа, простите меня, уважаемые читатели, за многократное повторение одного и того же выражения, ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ увидела муравейник и замерла перед ним с раскрытым ртом и до предела расширенными глазами.
– Я о них столько читала, – печально и восторженно прошептала она, присев на корточки и не отрывая взгляда от муравьиной суетни. – Ведь за ними часами наблюдать можно и – не надоест! Все, все, буквально все заняты делом! Ни одного тунеядца, ни одного хулигана, ни одного воображули! И никто не мешает друг другу!
«Обалделая она какая-то», – подумал Пантя больше с удивлением, чем с неодобрением, а вслух сказал:
– Они ведь кусаются! Они ещё и куда угодно заползти могут!
– Но ты посмотри, посмотри, как интересно!
– Зато так мы до озера сегодня не дойдем, – озабоченно и важно пробурчал Пантя, но Голгофа поднялась, улыбнулась ему, и он уже сразу весело объяснил: – Да у озера там всё есть! Мурашиные кучи этой в три раза больше. Айда!
Его опасения были отнюдь не напрасными: они с Голгофой не шли, а, можно сказать, еле-еле передвигались с остановками чуть ли не через каждые десять метров. То она замрёт, увидев на поваленном стволе ящерицу, то вцепится в Пантину руку, углядев на пеньке бурундука, то надолго присядет перед лужей, любуясь скольжением водомерок, то прислонится к березе и начнет нежно гладить её ствол…
– Ой! Ой! – так испуганно прошептала Голгофа, что Пантя резко обернулся, готовый броситься защищать её. – Ведь это же настоящая лошадка! Ты посмотри, какая у неё смешная прическа!
– Это не прическа, а грива, – серьёзно объяснил Пантя, но не удержался и рискнул пошутить: – А сзади у неё – хвост называется.
– Смейся, смейся, – сердито ответила Голгофа. – Но ведь я тоже кое-что знаю, о чем ты понятия не имеешь. Однако смеяться над этим я считаю ниже своего достоинства. Вернее, просто не буду смеяться.
Лошадка была низкорослой, с длинной, тщательно зачёсанной на одну сторону гривой и хвостом почти до земли. На телеге, скрестив перед собой ноги в валенках, сидела старушка, одетая в телогрейку, застегнутую на все пуговицы, и в зимней шапке с завязанными на макушке ушами.
– Стой, Ромашка! – неожиданно пронзительным, звонким голосом скомандовала старушка, и лошадка остановилась. – Садись, молодежь, подвезу. Мне в компании веселее, а у вас ноги отдохнут.
Голгофа от радости растерялась, но не двигалась с места, Пантя же вроде бы намеревался продолжать путь пешком, сделал что-то вроде попытки спрятаться за Голгофу, и старушка крикнула уже сердито и нетерпеливо:
– Садись, молодежь, говорю! Подвезу, молодежь, говорю! Одной мне ехать скукота. А я страсть какая говорливая, ну прямо у меня изжога получается, коли долго промолчу… Но-о, Ромашка, поехали!.. Вы меня только слушайте, – звонким, пронзительным голосом почти кричала старушка, когда ребята поудобнее уселись сзади неё на телегу, свесив ноги. – Мне главное – самой высказаться требуется. А то живу я одна с тремя кошками, козой, с курами, поросёнком, старик мой восемь лет назад помер, телевизор сломался, у радио провод оборвался, вот в субботу мастера привезу, характер у меня зверский, потому что болезней во мне много, вылечить меня нельзя, вот я со всеми и ругаюся, то с курами, то с поросёнком, особенно хорошо с козой получается ругаться…
Скоро Голгофа с Пантей перестали слушать старушку и тихонько перешептывались.
И сейчас я, уважаемые читатели, но только пусть это останется сугубо между нами, впервые, а может быть и в последний раз, если и не оправдываю побег девочки из дома, то стараюсь её понять и даже кое в чём с ней согласиться. Ведь человек должен жить так, чтобы каждый день – особенно в детстве! – приносил ему новые впечатления. Жутко, опасно для его дальнейшего развития, если человек – особенно в детстве! – основные впечатления, получал сидя перед телевизором. А ведь есть несчастные люди, которые лес, горы, моря, реки и всё, что в них растёт и водится, видели только на голубом экране.
Старушка, всё-таки почувствовав, что её совершенно не слушают, и всё-таки обидевшись на это, заговорила, почти закричала так звонко и пронзительно, что Пантя с Голгофой вынуждены были замолчать, потому что уже не слышали друг друга. Старушкин голос звучал, казалось, на весь лес вокруг:
– Дети у меня не больно путные выросли. Шесть голов, половина парней. Внуков и внучек набралось у меня ровно десять головушек. А живу вот одна с кошками, козой, курами, поросёнком, болею вся. Вот характер у меня и спортился. Стыдно сказать, с телевизором люблю ругаться. И смех, и грех, зато удобно! Он мне слово, я ему два, а то и три! А то и вовсе ему говорить не даю! Он иной раз аж загудит и замелькает – до того на меня рассердится… Глядишь, на душе и полегчает. Дети-то мои все по городам живут, а за картошкой, моркошкой, за луком и прочим ко мне наезжать не забывают. На это не жалуюсь. К себе зовут. А внучатки деревни ещё в глаза не видывали. Я детям своим и толкую, правда без толку, какие, мол, вы родители, если дети у вас без природы растут? Ненормальными ведь они, мол, вырастут.
Когда на повороте к Дикому озеру они распрощались с разговорчивой старушкой, Голгофа сказала:
– Она очень добрая и умная.
Пантя промолчал: хорошо, что старушка его не узнала. Прошлым летом он воровал у неё огурцы, и, когда, удирая, перелезал через изгородь, старушка успела сунуть ему под рубашку крапивы.
– Есть сейчас будем или до озера потерпим? – спросил он. – Ещё часа три, а то и больше топать. А если ты на каждом шагу ахать будешь…
– Знаешь что? – Голгофа очень обиделась. – Мы с тобой вперегонки у озера побегаем. А сейчас я буду идти так, как мне нравится. Как называются эти ягоды?
– Малина, – с тяжким вздохом отозвался Пантя, сразу сообразив, что здесь они застрянут надолго. Но, увы, он, конечно, и не подозревал, что главная-то беда не в этом. Их ждала настоящая большая беда.
Но пока она, большая настоящая беда, ещё не пришла, нам с вами, уважаемые читатели, есть смысл вернуться туда, где у забора стояли «Жигули» цыплячьего цвета с изрезанными колёсами.
Сам владелец давно уже ушёл на почту звонить в город и ещё не возвращался, и уважаемые соседи на всякий случай приглядывали за машиной.
Были они мрачны и молчали вот уже, наверное, не меньше часа.
Зато Герка с этой милой Людмилой примерно такое же время, мягко выражаясь, выясняли отношения в огороде, за банькой, чтобы их никто не слышал.
Подробно излагать содержание их резкого разговора, а точнее, ссоры, я не буду, потому что он, разговор, а точнее, ссора, состоял из одних и тех же утверждений и опровержений, только произносимых на разные лады – от яростного шёпота до почти злого крика.
– Ну уж и тюрьма сразу, – расстроился дед Игнатий Савельевич. – Школьников туда не берут. Нет такого закона.
– А есть такой закон, чтоб у людей деньги отбирать? – ещё громче крикнул Герка. – Чего ты его защищаешь?
– Я его не защищаю, – печально отозвался дед Игнатий Савельевич. – Жалею я его иногда. Уж больно жизнь у него нескладная. А с машиной милиция и без нас разберётся.
– Вот как раз без нас-то она и не разберётся! – И Герка выскочил из комнаты.
Мысль о мести не давала ему не только покоя, но и всего его издергала. Он припоминал и припоминал со всё большим количеством подробностей многочисленные обиды и не менее многочисленные издевательства. Особенно мучило Герку сегодняшнее воровство трёшки. Сначала он хотел сразу рассказать обо всём деду, но даже подумать об этом было стыдно до невозможности.
Собственная трусость угнетала Герку, Он бы давно сбегал к участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову и сообщил бы о предполагаемом Пантином преступлении. Ведь он не стал бы доказывать, что именно Пантя изрезал колёса, зато бы повторял и повторял, что многим известно: около машины утром крутился один только Пантя, а он вам зря крутиться не будет… Но Герка трусил! Вдруг злостный хулиган узнает, кто заявил о нём в милицию?! И постыднее всего было то, что Герка всё равно не сомневался: изрезанные колёса – дело длиннющих ручищ Панти!
Измучился Герка, устал, изнемог, но желание отомстить не унималось, а рослоООООООООО, становилось всё острееееее и даже больнееееееееееее… Ой!
Не выдержав борьбы с самим собой, Герка бросился в милицию, там, заикаясь и спрятав дрожащие руки за спину, рассказал он участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову о том, что колёса мог изрезать только злостный хулиган Пантелеймон Зыкин по прозвищу Пантя.
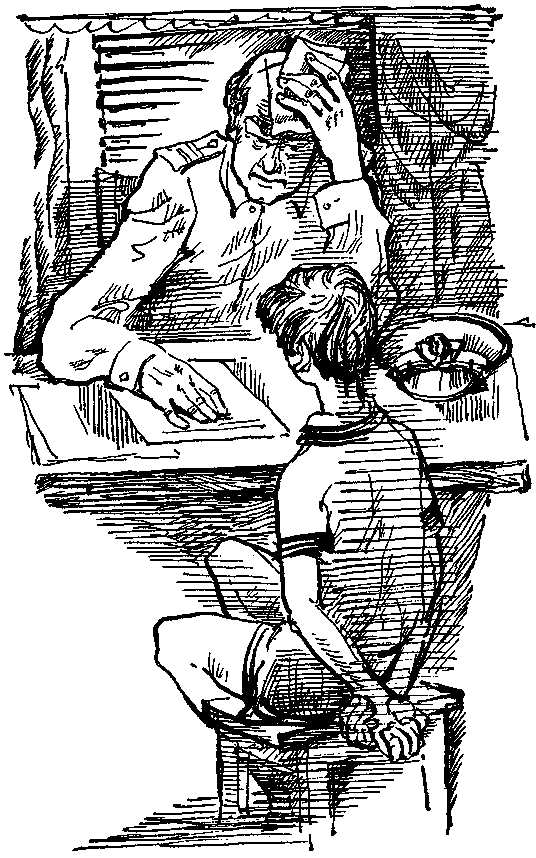
– Сам видел? – довольно грубовато спросил он, снял маленькую фуражку с огромной головы, тщательно промакнул лысину платком, надел фуражку. – Сам, значит, не видел?.. Тогда, значит, и разговаривать нам не о чем. Так мы не работаем. Пантя – элемент, конечно, частично антиобщественный, это всем известно. Но и сваливать на него любое хулиганство без достаточных оснований – не дело. За то, что поделился со мной подозрениями, спасибо. Учтём.
И обескураженный Герка убрел на берег реки, уселся там в очень страшной тоске, бессилии и злости… И ещё ему было почему-то стыдно… Он машинально швырял в реку камешки и никак не мог определить причину стыда… И никогда до этого не испытывал Герка такого одиночества, как сейчас. Он попытался отыскать в душе хоть бы самое ничтожное желание, но уже не мог даже поднять руки с камешком.
Лишь что-то легонько шевельнулось в сознании, когда он вспомнил об этой милой Людмиле, вернее, о её больших чёрных глазах… Чего, интересно, она сейчас делает? Кем командует? Кого учит? Кого информирует, комментирует, анализирует?
А она с тётей Ариадной Аркадьевной сидела на крылечке. Они часа два пробродили в окрестностях посёлка, прошли вдоль опушки леса, рассчитывая, что Голгофа не могла уйти далеко, устали и вот сейчас размышляли о Панте, выясняя вопрос о том, надо ли сообщать в милицию о своих подозрениях.
– Вы знаете, тётечка, – решительно сказала племянница, – мне вот нисколечко не жаль врача-грубияна-эскулапа. Ведь он за всё время ни разика не вспомнил о дочери. Его волнует только машина. И пока вопрос с нею не будет решен, он будет здесь шуметь. Может быть, Голгофа выжидает, когда он уедет?
– Мы можем лишь гадать. Мне лично жаль Пантю, – призналась тётя Ариадна Аркадьевна, – хотя более злостного малолетнего хулигана я не встречала за всю свою жизнь. И я никак не могу понять, что могло толкнуть его на такое изуверство по отношению к машине. А вдруг есть какая-то связь между историей с машиной и уходом Голгофы. Что-то угадывается… Но – что?
– Мне её уход совершенно непонятен. В нём есть нечто таинственное и… подозрительное.
Во дворик ворвался дед Игнатий Савельевич и ещё у калиточки прокричал возбуждённо:
– Герой-то мой, Герка-то мой единственный что натворил?! Участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову на Пантю пожаловался! Пантя, конечное дело, большой специалист по безобразиям, но ведь прежде чем жаловаться, надо факты иметь! Неопровержимые! – Он махнул рукой и так стремительно выскочил из дворика на улицу, будто бы проскользнул в щелочку между досочками калиточки.
Далее он промчался по улицам посёлка с быстротой и легкостью, с какими не передвигался уже лет сорок. И хотя силы ему придавало возмущение, все, видевшие его, скажем прямо, рекордсменский бег, радовались за деда. Но постепенно силы его иссякли, и к участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову дед Игнатий Савельевич вошёл медленно и покачиваясь, кивнул и тяжело опустился на стул.
– Как ты знаешь, Яков Степанович, – с трудом сдерживая усталое пыхтение, выговорил он, – в нашем посёлке возле моего дома совершено преступление. Приведена в негодность личная машина марки «Жигули».
– Знаю, знаю, – без всякого интереса выслушал и равнодушно ответил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, снял фуражку, платком промакнул лысину, помахал над нею фуражкой, надел её. – Знаю, знаю.
– Но тебе неизвестно, кто совершил преступление!
– Пока неизвестно.
Дед Игнатий Савельевич очень тяжело поднялся и гордо заявил:
– Данное преступление совершил я.
– С какой целью? – невозмутимо спросил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, помахав фуражкой над головой.
– С целью мести за внука, – вызывающе ответил дед Игнатий Савельевич, снова тяжко задышав, потому что с непривычки врать ему было очень и очень трудно. – Врач, владелец машины, издевался над моим внуком, незаконно ВЫКОЛОТИЛ из меня четырнадцать рублей тридцать копеек, и я отомстил ему.
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов снял фуражку, долго вытирал лысину платком, надел фуражку и устало проговорил:
– Ну и понесёшь, Игнатий Савельевич, заслуженное наказание по всей строгости закона. Конечно, суд учтет твой немолодой возраст, учтёт также твои прежние трудовые заслуги, но всё равно за дачу ложных показаний придётся отвечать. Можешь идти. А вводить нас в заблуждение на старости лет позорно и постыдно.
– Я… я… я не ввожу… – виновато пролепетал дед Игнатий Савельевич, но, помолчав, собрав силы, с достоинством сказал: – Я преступник, и ты, Яков Степанович, обязан принять меры.
– Приму меры, приму, не беспокойся. Бери вот бумагу и подробно опиши, как ты совершил преступление. И если в твоем заявлении будет хоть одно слово правды, немедленно приму меры. В противном случае будешь наказан за дачу заведомо ложных показаний.
– А писать-то зачем?
– Чтобы имелось, так сказать, доказательство того, хотел ты или не хотел, собирался или не собирался вводить нас в заблуждение.
– Не веришь мне?
– Не только не верю… – Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов долго махал фуражкой над лысиной. – Стыжусь я за тебя всеми силами души. Иди и сам стыдись и тоже всеми силами души.
Добредя до дверей, дед Игнатий Савельевич обернулся и еле слышным голосом проговорил:
– Прости, Яков Степанович. Хотел ведь я доброе дело сделать. Ошибку своего внука исправить, а… А осечка получилась. Но ты на меня не серчай.
Он ковылял по улицам, даже не замечая, куда движется. Ему казалось, что все встречные здороваются с ним насмешливо, а то и осуждающе, и все видят, как от стыда у него разгорелись уши… Эх, Герка, Герка… на какой позор вынудил деда пойти!.. Да и ты, дед, тоже сообразил… Герка-то хоть из трусости на Пантю жаловался… А ты решил по глупости его, хулигана все-таки, спасти…
И дед Игнатий Савельевич в горестных размышлениях своих не заметил, конечно, как мимо него проторопилась уважаемая соседушка – тётя Ариадна Аркадьевна, но не заметил и того, что она постаралась, чтобы он её не углядел.
А она, войдя в милицию, заговорила с достоинством:
– Я всегда считала своим долгом, Яков Степанович, быть по возможности до предела честной и правдивой. И посему, когда обнаружила, что вы не в состоянии раскрыть преступление, совершенное недавно и невдалеке от моего местожительства… Я решила сама признаться, чтобы избавить вас от лишних хлопот и траты времени… Заявляю: преступление совершила я.
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов резко встал, налил из графина полный стакан воды, залпом выпил его, грозным взглядом посмотрел на странную посетительницу-заявительницу, выпил ещё стакан, но уже неторопливо, снял фуражку, промакнул лысину платком, надел фуражку и умоляющим голосом спросил:
– Чего вы этого хулигана защищаете? Чего вы из-за него под суд захотели? Преступление она совершила! Хватит мне сказки рассказывать! – Он удивительно громко постучал указательным пальцем по краю стола. – С какой целью вы на себя напраслину возводите? С какой целью вводите меня в заблуждение?
– Прошу не разговаривать со мной в таком тоне, Яков Степанович! – возмущённо и оскорблённо сказала тётя Ариадна Аркадьевна, придерживая руками трясущиеся косички. – К вам официально обратилась, повторяю, официально обратилась прес-туп-ни-ца, а вы разговариваете с ней, как с расшалившейся школьницей! Будьте любезны отнестись ко мне со всей серьёзностью и арестуйте меня! Иначе я буду жаловаться! Не пытайтесь свалить вину на несчастного мальчика!
– И! Арес! И! Туем! – Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов не сел, а прямо-таки бессильно упал в кресло. – Арестуем, арестуем… кого надо и когда надо, – тихим голосом сказал он. – А вы отправляйтесь домой и смотрите с вашим любимым котом телевизор… Вам-то как не стыдно врать? – взмолился он. – А?
– Конечно стыдно! Ещё как стыдно! – охотно и горячо согласилась странная посетительница-заявительница. – Но у меня нет другого выхода. Нельзя любое хулиганство сваливать на Пантю. Конечно, за свои прошлые безобразия он достоин осуждения, но ведь он живёт в такой ужасной семье…
– И это не оправдание для введения меня в заблуждение. Преступник от нас не уйдёт. А судьбой Панти мы давно занимаемся, не беспокойтесь.
– Прошу извинить меня, Яков Степанович, но ведь я действительно поступала из самых добрых побуждений.
– А я убеждён, Ариадна Аркадьевна, что и преступник в данной ситуации действовал тоже из самых добрых, даже добрейших, как ему казалось, побуждений. Да, да, приводя в негодность машину таким варварским способом, он был убеждён, что совершает благо! Всего вам хорошего! До встречи на рыбалке!
После ухода странной посетительницы-заявительницы участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов решил, что теперь он может хоть чуточку отдохнуть.
Именно чуточку он и успел отдохнуть, как явилась незнакомая ему маленькая девочка, кудрявенькая, с большими чёрными глазами, и очень вежливо поздоровалась.
– Кто тебя обидел? – ласково спросил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, потому что любил детей.
– Меня никто не посмеет обидеть, – с неожиданным высокомерием ответила девочка. – Я этого никому не позволю.
– Тогда на что или на кого жалуешься?
– Я не жалуюсь. Я наоборот. Вы ищете преступника, который сегодня утром изрезал колёса у «Жигулей» цыплячьего цвета. Так вот, было бы вам известно…
– Что это сделала ты! – И участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов начал громко хохотать и сквозь громкий хохот еле выговорил: – Как тебе… трудно… бедная… было! – Его буквально затрясло от хохота, но довольно скоро он перестал хохотать, потому что звонко и громко засмеялась девочка. Она заливалась смехом всё громче и звонче, всё звонче и громче.
– Собственно… собственно… – в совершенной растерянности пробормотал участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, но заставил себя выглядеть суровым и суровым же голосом спросил: – Ты хоть имеешь представление, куда ты явилась?
– Явилась я туда, – крайне насмешливо ответила девочка, – где приход преступника вызывает неуместный смех у того, кто обязан ловить этого преступника, а не хохотать.
– Какая же ты преступница, милая ты моя? Ты, может, толком и не знаешь, чего это слово значит?
– Я даже знаю, что должны делать в милиции, когда туда является с повинной преступник.
– И что же тут должны делать в таком случае?
– По крайней мере, заинтересоваться личностью явившегося, серьёзно заняться им, а не хохотать, будто Юрий Никулин пришёл.
– Заинтересуемся, будем серьёзны, – согласился участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов. – Почему ты решила взять под защиту Пантю, известного злостного хулигана? Безобразника и антиобщественника? И как тебя, милая, звать? Меня – Яков Степанович.
– Очень приятно познакомиться. Меня зовут Людмилой. А откуда вы знаете…
– Я даже знаю, где сейчас находится Пантя, которого вдруг все решили защищать.
– Предположим, вы знаете, где сейчас находится Пантя, – довольно насмешливо проговорила эта милая Людмила. – Но какое имеет значение…
– А вот какое. Он идёт по дороге к Дикому озеру с девочкой, которую ищет отец, – владелец кем-то искорёженной машины, – тоже довольно насмешливо сказал участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, наслаждаясь обескураженным выражением лица девочки. – Интересная для тебя новость?
– Потрясающая новость… Даже в голове не укладывается. Правда, отец пока не вспоминает о дочери… Но сначала о Панте. Понимаете, Яков Степанович, я не могу не жалеть его. Вот вчера поздно вечером он был голоден, да его ещё не пускали домой ночевать. Я вынесла ему поесть, и, представьте себе, он плакал. А тут его стали подозревать в истории с машиной, и я…
– Эх, какие вы все, я имею в виду вас, молодежь… – осуждающе, но мягко перебил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, долго обмахивал лысину фуражкой. – Какие вы все…
– Самостоятельные? – с вызовом спросила эта милая Людмила.
– Безответственные. И слишком уж самоуверенные. Плохо, конечно, не то, что ты пожалела Пантю, его есть за что пожалеть. Но ведь прежде чем начать делать что-нибудь серьёзное, надо ведь сто раз подумать и хотя бы один раз посоветоваться. Вот пришла бы ты ко мне и вместо того, чтобы врать…
– А взрослые никогда не врут? Они никогда не поступают безответственно?
Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов тщательно промакнул лысину платком, надел фуражку, помолчал и ответил:
– Врут. И безответственных среди нас хватает. Но только потому, что в детстве их от этого не отучили В детстве, предположим, у ребеночка носик у-у-у какой малюсенький, а у взрослого у-у-у-у какой носина вырасти может! В детстве привыкнет на мизинец обманывать, а взрослым станет, ему и государство обмануть – пара пустяков… Чего молчишь?
– Возражать нечего. Я тоже считаю, что наличие в жизни плохих взрослых – не оправдание нашего плохого поведения… Но как наша девочка оказалась с Пантей?
– Если будешь держать язык за зубами…
– Даю честное слово.
– Хулиганы у нас стали появляться на Диком озере. Когда-то оно, видимо, диким и было, а теперь просто распрекрасное место для отдыха, рыбалки и всего такого прочего. Вот и приезжают туда целыми компаниями хулиганы и безобразничают. Мешают людям отдыхать. Дружинник Алёша Фролов сегодня туда уже наведывался, а по дороге и встретил Пантю. – Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов помахал фуражкой над головой. – Сегодня мы туда организуем большой выезд к нашим активом. Привезём Пантю и девочку. Сами вы пока на озеро носа лучше и не показывайте.
Зазвонил телефон, и эта милая Людмила невольно прислушалась к разговору. Особенно ей запомнились слова:
– Выезжаем в семнадцать ноль-ноль… Людей хватает… Есть доложить… Ну, будь здорова, Людмила. Рад был с тобой познакомиться.
– Я тоже, Яков Степанович. Всегда приятно встретить умного и откровенного человека.
Они крепко пожали друг другу руки, довольные тем, что взрослые и дети в конечном итоге делают общее дело – помогают людям жить и работать. И лишний раз убедиться в этом им обоим было важно и даже необходимо.
А теперь, уважаемые читатели, нам с вами придётся вернуться к неприятным событиям, но сначала мы понаблюдаем за двумя счастливейшими людьми.
Голгофа и Пантя чувствовали себя настолько счастливейшими, что если бы сейчас их увидел кто-нибудь посторонний, то вполне мог их счесть хотя бы чуточку ненормальными.
Например, когда Голгофа впервые в жизни увидела в траве живую землянику, то завизжала так пронзительно, что Пантя вздрогнул и бросился бежать: думал, что на них рушится дерево. А она, не переставая визжать, упала перед ягодой на колени, раскинула руки, словно собиралась её обнять, приникла к ней лицом.
– Да вон их тут сколько, – удивленно и покровительственно сказал Пантя.
– Но ведь это же земляника! – восторженно воскликнула Голгофа. – Настоящая земляника! Я же её только на блюдечках видела да в стаканах! Одна ягодка, а пахнет-то, пахнет-то как!
– Ты её ешь, ешь, чего любоваться-то?
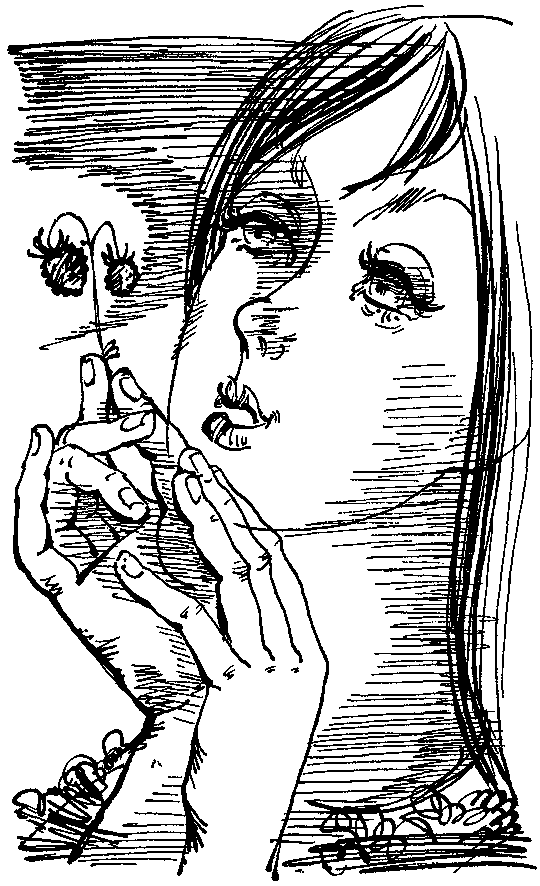
И вдруг неожиданно крепко заснул…
Проспал он всего несколько минут, а проснулся в страхе: ему показалось, что прошло чуть ли не несколько часов! Но Голгофа ничего не заметила, она на четвереньках ходила кругами по траве, ела ягоды и уже не визжала, не восклицала восторженно, а лишь изредка тихо и ласково охала…
Пантя посидел, приходя в себя от неожиданного глубокого сна, вскочил и испуганно крикнул:
– Слушай, ты! Этак мы с тобой сегодня до озера не дойдем! А ночевать по дороге негде! А ягод там ещё боле, чем здесь!
– Ах, Пантя, Пантя! – выдохнула, подбежав к нему, Голгофа. – Если бы ты только знал! Как всё замечательно!
– Аёда, айда! – От радости Пантя хихикнул. – На озере ещё красивше! Айда!
Но не успели они пройти и нескольких метров, как Голгофа, простите меня, уважаемые читатели, за многократное повторение одного и того же выражения, ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ увидела муравейник и замерла перед ним с раскрытым ртом и до предела расширенными глазами.
– Я о них столько читала, – печально и восторженно прошептала она, присев на корточки и не отрывая взгляда от муравьиной суетни. – Ведь за ними часами наблюдать можно и – не надоест! Все, все, буквально все заняты делом! Ни одного тунеядца, ни одного хулигана, ни одного воображули! И никто не мешает друг другу!
«Обалделая она какая-то», – подумал Пантя больше с удивлением, чем с неодобрением, а вслух сказал:
– Они ведь кусаются! Они ещё и куда угодно заползти могут!
– Но ты посмотри, посмотри, как интересно!
– Зато так мы до озера сегодня не дойдем, – озабоченно и важно пробурчал Пантя, но Голгофа поднялась, улыбнулась ему, и он уже сразу весело объяснил: – Да у озера там всё есть! Мурашиные кучи этой в три раза больше. Айда!
Его опасения были отнюдь не напрасными: они с Голгофой не шли, а, можно сказать, еле-еле передвигались с остановками чуть ли не через каждые десять метров. То она замрёт, увидев на поваленном стволе ящерицу, то вцепится в Пантину руку, углядев на пеньке бурундука, то надолго присядет перед лужей, любуясь скольжением водомерок, то прислонится к березе и начнет нежно гладить её ствол…
– Ой! Ой! – так испуганно прошептала Голгофа, что Пантя резко обернулся, готовый броситься защищать её. – Ведь это же настоящая лошадка! Ты посмотри, какая у неё смешная прическа!
– Это не прическа, а грива, – серьёзно объяснил Пантя, но не удержался и рискнул пошутить: – А сзади у неё – хвост называется.
– Смейся, смейся, – сердито ответила Голгофа. – Но ведь я тоже кое-что знаю, о чем ты понятия не имеешь. Однако смеяться над этим я считаю ниже своего достоинства. Вернее, просто не буду смеяться.
Лошадка была низкорослой, с длинной, тщательно зачёсанной на одну сторону гривой и хвостом почти до земли. На телеге, скрестив перед собой ноги в валенках, сидела старушка, одетая в телогрейку, застегнутую на все пуговицы, и в зимней шапке с завязанными на макушке ушами.
– Стой, Ромашка! – неожиданно пронзительным, звонким голосом скомандовала старушка, и лошадка остановилась. – Садись, молодежь, подвезу. Мне в компании веселее, а у вас ноги отдохнут.
Голгофа от радости растерялась, но не двигалась с места, Пантя же вроде бы намеревался продолжать путь пешком, сделал что-то вроде попытки спрятаться за Голгофу, и старушка крикнула уже сердито и нетерпеливо:
– Садись, молодежь, говорю! Подвезу, молодежь, говорю! Одной мне ехать скукота. А я страсть какая говорливая, ну прямо у меня изжога получается, коли долго промолчу… Но-о, Ромашка, поехали!.. Вы меня только слушайте, – звонким, пронзительным голосом почти кричала старушка, когда ребята поудобнее уселись сзади неё на телегу, свесив ноги. – Мне главное – самой высказаться требуется. А то живу я одна с тремя кошками, козой, с курами, поросёнком, старик мой восемь лет назад помер, телевизор сломался, у радио провод оборвался, вот в субботу мастера привезу, характер у меня зверский, потому что болезней во мне много, вылечить меня нельзя, вот я со всеми и ругаюся, то с курами, то с поросёнком, особенно хорошо с козой получается ругаться…
Скоро Голгофа с Пантей перестали слушать старушку и тихонько перешептывались.
И сейчас я, уважаемые читатели, но только пусть это останется сугубо между нами, впервые, а может быть и в последний раз, если и не оправдываю побег девочки из дома, то стараюсь её понять и даже кое в чём с ней согласиться. Ведь человек должен жить так, чтобы каждый день – особенно в детстве! – приносил ему новые впечатления. Жутко, опасно для его дальнейшего развития, если человек – особенно в детстве! – основные впечатления, получал сидя перед телевизором. А ведь есть несчастные люди, которые лес, горы, моря, реки и всё, что в них растёт и водится, видели только на голубом экране.
Старушка, всё-таки почувствовав, что её совершенно не слушают, и всё-таки обидевшись на это, заговорила, почти закричала так звонко и пронзительно, что Пантя с Голгофой вынуждены были замолчать, потому что уже не слышали друг друга. Старушкин голос звучал, казалось, на весь лес вокруг:
– Дети у меня не больно путные выросли. Шесть голов, половина парней. Внуков и внучек набралось у меня ровно десять головушек. А живу вот одна с кошками, козой, курами, поросёнком, болею вся. Вот характер у меня и спортился. Стыдно сказать, с телевизором люблю ругаться. И смех, и грех, зато удобно! Он мне слово, я ему два, а то и три! А то и вовсе ему говорить не даю! Он иной раз аж загудит и замелькает – до того на меня рассердится… Глядишь, на душе и полегчает. Дети-то мои все по городам живут, а за картошкой, моркошкой, за луком и прочим ко мне наезжать не забывают. На это не жалуюсь. К себе зовут. А внучатки деревни ещё в глаза не видывали. Я детям своим и толкую, правда без толку, какие, мол, вы родители, если дети у вас без природы растут? Ненормальными ведь они, мол, вырастут.
Когда на повороте к Дикому озеру они распрощались с разговорчивой старушкой, Голгофа сказала:
– Она очень добрая и умная.
Пантя промолчал: хорошо, что старушка его не узнала. Прошлым летом он воровал у неё огурцы, и, когда, удирая, перелезал через изгородь, старушка успела сунуть ему под рубашку крапивы.
– Есть сейчас будем или до озера потерпим? – спросил он. – Ещё часа три, а то и больше топать. А если ты на каждом шагу ахать будешь…
– Знаешь что? – Голгофа очень обиделась. – Мы с тобой вперегонки у озера побегаем. А сейчас я буду идти так, как мне нравится. Как называются эти ягоды?
– Малина, – с тяжким вздохом отозвался Пантя, сразу сообразив, что здесь они застрянут надолго. Но, увы, он, конечно, и не подозревал, что главная-то беда не в этом. Их ждала настоящая большая беда.
Но пока она, большая настоящая беда, ещё не пришла, нам с вами, уважаемые читатели, есть смысл вернуться туда, где у забора стояли «Жигули» цыплячьего цвета с изрезанными колёсами.
Сам владелец давно уже ушёл на почту звонить в город и ещё не возвращался, и уважаемые соседи на всякий случай приглядывали за машиной.
Были они мрачны и молчали вот уже, наверное, не меньше часа.
Зато Герка с этой милой Людмилой примерно такое же время, мягко выражаясь, выясняли отношения в огороде, за банькой, чтобы их никто не слышал.
Подробно излагать содержание их резкого разговора, а точнее, ссоры, я не буду, потому что он, разговор, а точнее, ссора, состоял из одних и тех же утверждений и опровержений, только произносимых на разные лады – от яростного шёпота до почти злого крика.
