Страница:
– Поход состоится вне зависимости от поведения Германа, – решительно, но всё-таки осторожно перебила эта милая Людмила. – Пусть себе капризничает, пусть себе уросит сколько хочет и как хочет.
Тётя Ариадна Аркадьевна с явным осуждением взглянула на племянницу и предложила:
– Сначала надо попытаться объяснить Герману… ну, очевидную неразумность, неправильность, скажем прямо, даже некоторую непорядочность его поведения…
Вставая, дед Игнатий Савельевич проговорил обреченно:
– Проверю, как там. А послушаться он может только тебя, Людмилушка. На тебя одну и надежда…
– Ради похода, ради Голочки я готова на всё, даже на унижение.
Дед Игнатий Савельевич виновато покашлял в кулак и ушёл.
Все удрученно молчали, и лишь Кошмар был весел. Он то и дело залезал в приготовленную для его транспортировки корзину и там радостно урчал.
– Кошмарчик, видимо, убеждён, что похода всё-таки не будет, – печально сказала тётя Ариадна Аркадьевна. – Ах, как мне жаль уважаемого соседа! Ему и за внука стыдно, и в поход хочется.
Тут прикатил на мотоцикле дружинник Алёша Фролов по прозвищу Богатырёнок, долго фотографировал автограф Гагарина, эту милую Людмилу, и ей пришлось рассказать о своей встрече с космонавтом номер один.
Дружинник Алёша Фролов слушал и смотрел на неё с таким очень глубоким уважением, словно она сама была покорительницей Космоса. Потом Голгофа фотографировала её с ним, и он стоял такой гордый, словно сам был знаком с Юрием Алексеевичем.
– А чего вы такие все квёлые? – спросил дружинник Алёша Фролов и, узнав обстановку, весело предложил: – Во-первых, я могу вас по очереди, так сказать, по частям доставить к озеру. Во-вторых, вечером могу проверить, как вы устроились, в чём нуждаетесь… А Герочку я хорошо знаю. Девочка без косичек. Его, по-моему, дед и сейчас с ложечки кормит.
– И всё-таки мы должны приложить все усилия, – наставительным тоном произнесла эта милая Людмила, – чтобы попытаться на него воздействовать. Мы, Алёша, не только осуждаем недостатки человека, но и помогаем ему их устранить. А поход наш должен быть самостоятельным, абсолютно самостоятельным. Лишь тогда от него будет для нас польза. Нам нужен поход, а не катание на мотоцикле.
– Дело ваше. – Видно было, что дружинник Алёша Фролов несколько обижен отказом от его искренней помощи. – Желаю успеха. Фотографии к вашему возвращению будут готовы.
Он умчался на своём обиженно стрекотавшем мотоцикле.
– Что же дальше? – растерянно и недовольно спросила тётя Ариадна Аркадьевна. – Так и будем ждать, что соизволит решить Герман?
– Мы идем к уважаемым соседям, – деловито ответила эта милая Людмила, – делаем всё возможное, что в наших силах, и в любом случае – в путь!
Тётя Ариадна Аркадьевна вздыхала так громко, что её вздох девочки слышали ещё за калиточкой.
– Погоди, погоди! – Голгофа остановилась. – Мы пойдём вчетвером плюс Кошмар минус дедушка?
– Минус! Дедушка! – резко отозвалась эта милая Людмила. – И ничего с нами не случится, кроме того, что мы подзакалимся, станем хоть чуточку смелее и прекрасно проведём время. В конце концов если мы струсим или просто не выдержим, то можем в любой момент вернуться с позором.
– Я бы так не хотела… – прошептала Голгофа. – Но почему ты запретила Алеше Фролову хотя бы проверить вечером, как мы устроились?
– Да потому, что, ещё не отправившись в путь, мы бы уже кричали: «Караул! На помощь!» Чего ты испугалась?
– Пока я ничего не испугалась. Мне дедушку жаль. Неужели ты не видишь, как он ужасно переживает?
– Прости меня, дорогая, – довольно высокомерно произнесла эта милая Людмила. – Но в данном случае надо перевоспитывать и дедушку.
– Мы его будем перевоспитывать?! – поразилась Голгофа.
– Да, в какой-то степени и мы. Но, в основном, жизнь. Нельзя же распускать внука до такой степени, что от его избалованности, уросливости зависит судьба целого коллектива! – не на шутку возмутилась эта милая Людмила. – Ты только вспомни, сколько произошло событий, сколько в них участвовало людей, чтобы мы получили возможность отправиться в поход! И вдруг один, всего-то на-всего один Герочка, девчонка без косичек, всё срывает!
Голгофа быстро и густо покраснела, опустила глаза и стыдливо прошептала:
– По-моему… всё зависит лишь от тебя… уверяю… Да, он избалованный, капризный, но… понимаешь, он не умеет правильно выразить свои чувства к тебе… Вот ему хочется доказать, тебе доказать, что он независимый… что его решения самостоятельны, но… ничего у него не получается. Но чувства его к тебе, я считаю, нельзя оставлять без внимания.
Ответ этой милой Людмилы сводился к тому, что чистые и добрые, а тем более возвышенные чувства могут направить человека только на прекрасные дела. Судя по недостойному поведению Германа, никаких там особенных чувств у него быть не может. Но даже если и есть у Германа что-то вроде каких-то там особенных чувств, то думает-то он, беспокоится, заботится только о себе, только о том, как бы ему лучше было, удобнее. И воздействовать на него может лишь сама жизнь, а не разговоры и убеждения, которых он наслышался уже достаточно.
А отчего, по-вашему, уважаемые читатели, Голгофа так упорно и горячо защищает Герку? Давайте подумаем, а потом, обменяемся мнениями.
Девочки, конечно, не поссорились, но, как говорится, крупно поспорили. В голосе этой милой Людмилы часто и отчетливо проскальзывало не свойственное ей раздражение, которое, однако, не испугало Голгофу, а вынудило её возражать ещё упорнее и горячее.
– Ты же очень сильная! – Она даже повысила голос. – Ты обязана помогать тем, кто слабее тебя!
– В принципе ты абсолютно права, – помолчав и чуть-чуть успокоившись, согласилась эта милая Людмила. – Я давно убедилась, что девочки просто обязаны вести неустанную перевоспитательную работу с плохими мальчишками. Заниматься ими не жалея ни сил, ни времени.
– Вот тебе и самый подходящий случай! – радостно воскликнула Голгофа. – Не проходи мимо!
– И опять в принципе ты абсолютно права, – уже несколько надменно проговорила эта милая Людмила. – Но у нас мало времени! Ведь речь идёт не вообще о перевоспитании Германа, а о том, пойдёт он в многодневный поход или нет.
– Постой, постой! – умоляюще попросила Голгофа. – Я должна объяснить тебе, а ты должна понять… Тебе ведь трудно представить, что такое избалованный человек. А мы с Германом именно такие. Только мне удалось своевременно заметить, что меня безобразно балуют, и что это может кончиться для меня ужасно. А Герман этого до сих пор не осознал, и винить надо не его одного! Он не понимает самых простых вещей. Он нуждается в особом внимании. Я прошу тебя быть к нему снисходительнее, терпеливее. Ведь избалованный человек не представляет грозящей ему опасности.
Теперь ясно вам, уважаемые читатели, почему Голгофа так упорно и горячо заступалась за Герку? И ведь она была права не только в принципе, но и в данном, конкретном случае. Но и эта милая Людмила имела многие веские основания не соглашаться с подругой именно в том смысле, что сейчас не было времени доказывать Герке вздорность его поведения, убеждать, что он подводит всех, особенно Голгофу, и т. д. Требовались какие-то особые методы воздействия на мальчишку. Их эта милая Людмила и искала.
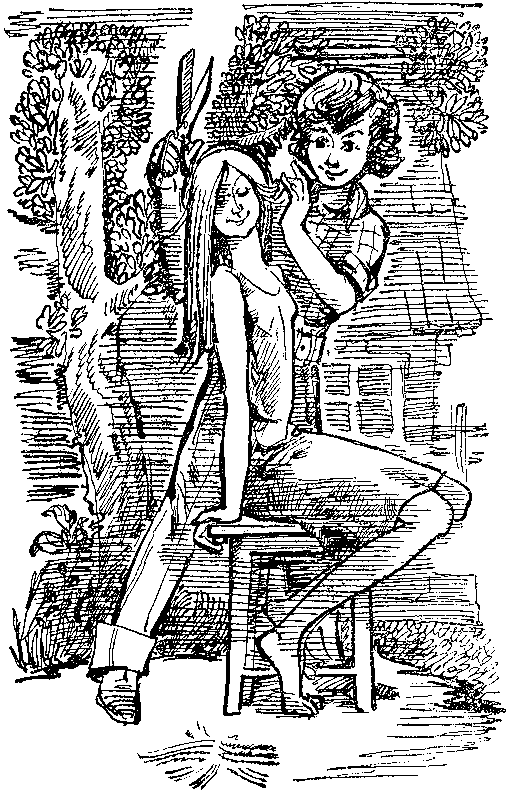 Но пока Герка ещё спал, дед Игнатий Савельевич просил разрешить не будить его, и эта милая Людмила, чтобы не терять времени даром, принялась стричь Голгофу. Можно сказать, что стригла она умело, ловко, но и безжалостно. Голгофа, краешком глаза наблюдая, как зелёная трава вокруг неё покрывается прядями голубых волос, безропотно терпела и говорила только о Герке.
Но пока Герка ещё спал, дед Игнатий Савельевич просил разрешить не будить его, и эта милая Людмила, чтобы не терять времени даром, принялась стричь Голгофу. Можно сказать, что стригла она умело, ловко, но и безжалостно. Голгофа, краешком глаза наблюдая, как зелёная трава вокруг неё покрывается прядями голубых волос, безропотно терпела и говорила только о Герке.
– Постарайся быть с Германом помягче, – застенчиво попросила Голгофа, – постарайся быть с ним поубедительней. Честное слово, он, по-моему, готов понять свои заблуждения.
– Я не меньше твоего хочу, чтобы он участвовал в походе, – с еле заметным раздражением сказала эта милая Людмила. – Без него в походе и дедушке невесело будет. А главное, ведь именно многодневный поход помог бы Герману избавиться от большинства недостатков.
– Нету Панти! – услышали они расстроенный голос деда Игнатия Савельевича. – То есть Пантелея нету! – Он остановился перед девочками, недоуменно пожав плечами. – Опять, конечное дело, сбежал! Но – почему? Вроде бы вчера уговорили его.
– Да он и не нуждался в уговаривании! – сердито воскликнула Голгофа. – Он бы с удовольствием в поход, но… но они с Германом… Пантелей чувствует себя и чужим, и недостойным… Нет, нет, мне начинает казаться, что никакого похода ни за что не получится! То одно, то другое препятствие! Что делать?
– Не паниковать, – спокойно ответила эта милая Людмила. – А довести дело до конца. Желательно – победного. Сначала я беседую с Германом…
– А Пантелей?
– Придёт. Или найдём. Мы, девочки, с помощью старших товарищей должны обязательно воздействовать на мальчишек. Сделать их из отрицательных хотя бы полуположительными. Пантелей всё равно пойдёт с нами. А я иду к Герману. – И она твёрдым шагом направилась в дом.
Дед Игнатий Савельевич присел на бревно около сарая. Голгофа устроилась рядом.
– Не понимаю я! Не по-ни-ма-ю! – сказала она. – Как можно вырасти в таких прекрасных местах и не любить природу? Не стремиться пойти в многодневный поход?!
– Ни к чему Герка не стремится – вот в чём беда его и горе. И моя беда, и горе мое. И ведь так может всю жизнь прожить, если, конечное дело, армия его не выправит.
– Ну, а Пантя-то куда мог деться? То есть Пантелей? Честное слово, я уже перестала верить, что поход состоится!
– Обязательно состоится! – наикатегоричнейшим тоном заявил дед Игнатий Савельевич. – Сегодня во что бы то ни стало выступим! И не позднее, чем в первой половине дня.
– А вы не передумаете, дедушка?
– Мне отступать нельзя.
Должен ещё раз напомнить вам, уважаемые читатели, что дед Игнатий Савельевич и сам был поражен своей решительностью. Совсем недавно, не более двадцати минут назад, он ещё сомневался в себе, ещё боялся, что пожалеет единственного внука, отступит и тем самым подчинится ему. Нет, нет, пусть старое дедское сердце сжимается от боли за непутёвого Герку, но он, дед, всё сделает для того, чтобы внук впервые почувствовал ответственность за своё поведение.
Примерно то же самое говорила ему сейчас эта милая Людмила:
– Герман, ты должен понять, что никто тебя не ругает. Все искренне желают тебе добра. Но и прямо указывают на твои ужасные недостатки. И не надо сердиться, а надо делать выводы. А ты боишься правды о себе. И зря. Всё может кончиться очень и очень плохо. Тебе грозит опасность вырасти просто неинтересным человеком. Из тебя может вообще не получиться настоящего мужчины. Тебе пора серьёзно задуматься об ответственности за своё поведение.
Герка слушал её, сжав кулаки и зубы, решив, что ни слова она от него не услышит. Но сдержаться ему не удалось, и он почти закричал:
– Да почему ты всех учишь? Сама-то ты кем… получишься? Настоящей женщиной, думаешь? Интересным человеком, считаешь? Откуда, ну, откуда ты можешь знать, кем я вырасту?!
– Из таких, как ты, вырастают только отрицательные типы. Подожди, подожди, не кипятись, – чуть ли не нежно попросила эта милая Людмила. – Я ведь не своё личное мнение высказываю, а своими словами передаю тебе закон жизни. Его не я придумала, а всё человечество. Прогрессивное, конечно.
– Всё человечество считает, что из меня ерунда на постном масле получится?!?!?! – От непередаваемого гнева Герка задохнулся, а эта милая Людмила звонко и громко рассмеялась. Она, как тогда, у колодца, пыталась сдержать смех, даже прикрывала рот ладошками, но продолжала смеяться всё громче, всё звонче. И если бы они находились не в комнате, а на улице, у колодца, она бы, как тогда, опрокинулась на травку, ноги её замелькали бы в воздухе, будто бы она крутила педали велосипеда – мчалась во весь дух.
Она, конечно, прекрасно понимала, что нельзя так, именно сейчас нельзя, но продолжала смеяться звонко и громко, изредка вскрикивая:
– Ой, не могу… ой, насмешил… ой, не могу-у-у-у… не-е-е-е… – и не могла унять смеха, никак не могла, смеялась и смеялась громче и звонче прежнего, изредка вскрикивая: – Ой, не могу!
И как тогда, в специальной загородке, у колодца, Герка, забыв о страшной обиде, суматошно пытался угадать, чем он её так насмешил.
А она, закатываясь в смехе, звонком и громком, в изнеможении закрыв глаза и запрокинув голову, чуть не падала…
– Больная ты, что ли? – крикнул Герка испуганно. – Может, тебе лечиться надо, а не над людьми смеяться?
Вряд ли эта милая Людмила слышала его слова. Она сама взяла себя в руки, можно сказать, буквально взяла себя в руки – сжала локти ладонями, выпрямилась, ненадолго замерла в такой позе, отдышалась, сказала устало, виновато:
– Прости, Герман. От всей души прости, пожалуйста. Совершенно неуместный смех, я понимаю. Ну никто не умеет меня смешить, как ты.
– Не смешил я тебя, – сквозь зубы процедил Герка. – Ты сама смеялась надо мной! – жалобно вырвалось у него.
– Клянусь! – воскликнула эта милая Людмила, прижав правую руку к сердцу. – Хочешь, встану перед тобой на колени, чтобы просить у тебя прощения?
– Сумасшедшая, вот ты кто!
– Ни капельки! Просто ты очень смешно сказал, я и решила, что ты хочешь рассмешить меня! Прости, если я нечаянно своим смехом обидела тебя!
По виноватому, просящему, почти умоляющему взгляду её больших чёрных глаз Герка понимал, что она и вправду не собиралась смеяться над ним, но ведь – смеялась! И ещё как!
– Ладно, ладно, – пробормотал он, напряжённо стараясь вспомнить, из-за чего она так обидно для него смеялась, а она весело сказала:
– Ты ещё не завтракал. Приготовить тебе завтрак? В сердце Герки сразу возникли, не мешая друг другу, радость и неприязнь. Он даже не мог определить, какое из ощущений сильнее, не знал, которое возьмет верх.
– Ах, Герман, Герман! – почти ласково воскликнула эта милая Людмила. – Ну будь умницей, перестань сердиться, ведь ты весёлый человек! Ведь пора в путь-дорогу! Я пошла готовить тебе завтрак.
Она выпорхнула из комнаты, словно не сомневаясь и не нуждаясь в ответе. Идёт готовить ему завтрак, а на самом деле получается, что командует им!
А тут он ещё вдруг со всей ясностью, во всех подробностях вспомнил недавний разговор с дедом, наконец-то уразумел смысл его, а на кухне громко и звонко распевала эта милая Людмила, а ему чуть расплакаться не захотелось. Он был весёлым человеком, был! Пока её здесь не было! И ведь она, она, она поход-то выдумала! Из-за неё, из-за неё, из-за неё всё кувырком полетело! Всё вверх тормашками из-за неё, из-за неё, из-за неё перевернулось!
Страшно стало Герке, когда он подумал о многодневном походе. Он чувствовал, что никакие силы не заставят его пойти. Чуточку ещё, совсем-совсем немножечко надеялся он, что дед останется с ним. Тогда ещё страшнее: она-то уйдёт! И чего он добьётся, оставшись с дедом?! Вот когда настоящая-то смехота получится!
Остался у него, у бедного, один выход: самому о себе позаботиться, самому себя пожалеть. Придётся доказать всем, что он не ерунда на постном масле и прогрессивное человечество ещё увидит, что издеваться над собой он не позволит никому. И кто кем вырастет – вопрос, а пока посмотрим, кто тут кем командовать будет. Он над собой командовать никому не позволит!
– Завтрак готов, Герман! – раздался из кухни громкий и звонкий и, как показалось Герке, достаточно самоуверенный голос. – Прошу к столу! Но сначала, конечно, умойся!
Что ж, и умыться можно, и позавтракать не вредно, а всего полезнее чувствовать себя свободным, как на большой перемене.
На кухне Герка появился таким гордым и даже слегка небрежно самодовольным, что эта милая Людмила подозрительно и внимательно оглядела его, предложила:
– Садись. Ешь.
– Сяду, поем, с удовольствием. – Герке стало чуть-чуть весело от её заметной растерянности. – Чаёк приготовила?
Видно было, что эта милая Людмила сразу заподозрила неладное, и её большие чёрные глаза пристально и недоверчиво следили за каждым Геркиным движением, словно каждым из них он мог себя выдать. А Герка под её взглядом вдруг сник и, чтобы взбодриться, подчеркнуто озабоченно проговорил:
– Погодка бы не испортилась. Собираюсь сегодня поплавать на дальность. – А после длительного и заметно тяжелого молчания он добавил почти вызывающе: – Вдоволь охота наплаваться.
– Наплаваешься. Вдоволь. В озере. – Чеканя каждый слог, выговорила эта милая Людмила. – Налить ещё чайку?
Герка отрицательно покачал головой, медленно встал, а она спросила его:
– А кто за тобой посуду уберёт?
– А какое твое дело? – с очень самым невинным видом отозвался Герка. – Какое твое дело, кто в нашем доме посуду уберёт? Ты здесь кто? Ну, кто?
– Друг. Твой друг. Человек, который хочет помочь тебе.
Что-то упрямое, даже чуть-чуть раздражённое почувствовал Герка и сказал:
– Ты сама себя другом назначила. Я тебя не просил.
– Хо-ро-шо, – сначала удивленно вскинув брови, сказала эта милая Людмила, но решительно продолжила да ещё и печально: – Будем считать, что я ВСЁ сделала для того, чтобы стать тебе другом, чтобы помочь тебе. Зря старалась. – Она дошла до дверей, остановилась и через плечо снова заговорила ещё более печальным и ещё более решительным тоном: – Однако неплохо, что ты действуешь хотя и достаточно глупо, но зато самостоятельно. Посмотрим, готов ли ты ответить за свои поступки. Мы отправляемся в многодневный поход. У тебя остается буквально полчаса подумать.
И ушла.
И Герка понял: они все уйдут от него. Всё. Уйдут. Он останется один. Но сколько он ни напрягал воображение, никак не мог представить себе этого. Вот он будет тут, здесь сегодня вечером сидеть, стоять или лежать один, а его родной дед будет где-то далеко с чужими людьми…
Такого быть НЕ может!
НЕ может такого быть!
Такого НЕ может быть!
А в голове застучало настойчиво и сурово: может, может, может… быть, быть, быть…
Герка ждал, какое чувство овладеет им: обида, злость, страх, возмущение. Он ждал, чего ему придётся делать: плакать, кричать, пищать или вопить. Но в душе не возникло никакого определенного чувства – там были пустота и замешательство. И чтобы замешательство не превратилось в помешательство, Герке нужно было немедленно что-то предпринять, что-то сделать, хотя бы глупейшую глупость.
Увы, сейчас он был ни на что не способен, даже на глупейшую глупость. Он был способен только на то, чтобы сознавать свою полную неспособность действовать. И ещё Герка сознавал, что его на самом деле все бросили. То есть он никому не нужен. И если кот Кошмар тоже позволит себе иметь собственное мнение о походе, его, как Герку, тоже оставят одного.
«Бросили наравне с котом! – пронеслось в голове. – Значит, им всё равно, что человек, что кот!» И Герка отчаянно и жалобно мяукнул, хотел что-то крикнуть, но получилось ещё жалобнее, ещё отчаяннее:
– Мяя-а-а-а-ууу….у-у-у!
Он кому-то погрозил кулаком. Довели человека! Замяукал человек! До того вы человека довести можете, что он у вас на четвереньках бегать будет, и хвост у него отрастёт!
И, охваченный, вернее, захваченный возможностью превращения с горя в кота, Герка громко и грозно промяукал четыре раза, встал на четвереньки, пробежал к дверям, быстренько пропрыгал по коридору, головой открыл дверь, выпрыгнул на крыльцо и огласил двор мя-а-а-а-а-у-у-у-уканьем.
Вот сейчас они…
А во дворе никого не было. Раньше Герка в подобном положении наверняка бы растерялся, а сейчас он, словно действительно решив, что он уже не человек, издал мяуканье, спрыгнул с крыльца, на четвереньках пропрыгал в огород и опять замяу…
И замолк на полумяуканье: перед ним стоял, широко открыв от изумления рот, злостный хулиган Пантя.
Но если Пантя просто изумился, то Герка просто испугался и со страху еле слышно выговорил:
– Мяу…
Пятясь от него, Пантя вытянул вперёд свою длиннющую руку, протягивая зелёную бумажку и бормоча:
– На вот… на вот… на… на…
Он осторожно положил бумажку на землю и быстро ушёл, почти убежал.
Бумажка эта была – три рубля.
Герка сел, взял купюру, разглядывал её с обеих сторон, словно не понимая, чего она из себя значит, и не сразу сообразил, что Пантя вернул ему отнятые вчера деньги.
То, что Герка трёшке нисколечко не обрадовался, понятно. Она только напомнила о его, мягко выражаясь, несмелом поведении. Герку сейчас задело и даже очень насторожило другое: с чего это злостный хулиган вернул деньги, да и, кстати, где он мог их достать? Опять у какого-нибудь хорошего человека отобрал?
Но вам-то, уважаемые читатели, я расскажу, что же такое случилось с Пантей, вернее, уже почти с Пантелеем, или, ещё вернее, пока почти с Пантелеем. Не надо даже и предполагать, что он быстро и окончательно исправился.
Кое-что, однако, в нём изменилось, и относительно здорово. Например, трёшка эта, когда об её истории узнали все, в том числе и Голгофа, не давала ему покоя.
И рано утром Пантя, когда девочки убежали купаться, отправился на рынок продать свой узел с бельем и ботинками, чтобы отдать Герке трёшку.
Сначала на рынке в его сторону никто и не смотрел. Стоит себе мальчишка с узлом в руках, ну пусть себе и стоит.
Через некоторое время Пантя не знал, чего и делать. Так ведь можно и целый день проторчать, а ему скоро в многодневный поход отправляться. А ещё ему необходимо доказать Герке, что больше он к нему приставать не собирается, и хорошо бы вернуть ему три рубля.
Тут к Панте подошли две старушки, которых в посёлке прозвали Бабушки-двойняшки, потому что когда-то, давным-давным-давно, они родились близнецами и до сих пор разительно походили одна на другую.
Они поинтересовались, чего он здесь делает, что это у него за узел. Зная въедливый и даже вредный характер Бабушек-двойняшек, Пантя сразу решил улизнуть от греха подальше, как говорится. Но они учуяли, что имеют дело если и не с преступлением, то, по крайней мере, с развлечением. Не успел Пантя ничего предпринять, чтобы от них избавиться, как Бабушки-двойняшки цепко схватили его за руки: одна за левую, другая за правую, а остальными своими руками они замахали и закричали:
– Граблёное продают!
– Ворованное сбывают!
– На помощь, товарищи!
И сразу оказалось, что на рынке обитает много любопытного и праздного народа. Пантю и Бабушек-двойняшек почти мгновенно окружила толпа, и они, перебивая друг друга, восторженно, взахлеб рассказывали, как задержали, вполне может быть, жулика.
Три дня назад злостный хулиган Пантелеймон Зыкин по прозвищу Пантя ни за что бы не дался в хилые, хотя и цепкие руки Бабушек-двойняшек, а сейчас вот только злился на них да натужно соображал, как бы поскорее выпутаться из этой глупой истории.
Самое невероятное заключалось в том, что Пантя, вернее, уже почти Пантелей, вдруг почувствовал, что ему совершенно неохота врать. Ведь получалось так, что стоило ему сказать, что узел, мол, его, сюда он заглянул случайно, можете меня проверить в милиции у самого участкового уполномоченного товарища Ферапонтова, и Бабушки-двойняшки отстали бы. Но Пантя громко заявил:
– Три рубли мене… мне надо… три рубля… вот и пришёл продавать…
Со всех сторон полетели вопросы:
– А узел чей?
– А в узле что?
– Деньги тебе зачем?
– А мать с отцом знают?
«Ждут ведь меня, потеряли меня, – с тоской подумал Пантя. – Чего доброго, уйдут без меня».
Он молчал уже зло и упорно. Бабушки-двойняшки уже несколько раз поведали обо всем, что знали о Панте, как они его задержали, и толпа постепенно начала редеть, ибо ничего интересного не происходило, и вскоре разошлись все.
Бабушки-двойняшки не только разительно походили друг на друга и одевались абсолютно одинаково, они часто и говорили одновременно, то есть синхронно.
Спросили они:
– Чего нам с тобой делать-то?
– Отпустить, – мрачно посоветовал Пантя. – Мне в поход идти надо и вот продать надо за три рубли… рубля…
– А чьи вещи-то?
– Да мои! Мачеха мене… меня из дому выгнала, а узел дала. А мне три рубля надо.
Бабушки-двойняшки отпустили его, развязали узел, осмотрели содержимое и заявили, что ничего ценного здесь нет, а вот ботинки за три рубля они возьмут.
Со всех ног, радостный до того, что еле сдерживался, чтобы не загоготать, Пантя помчался по улицам, размахивая узлом.
Отдав Герке деньги, он прибежал во дворик тёти Ариадны Аркадьевны и с недоумением обнаружил, что все здесь очень мрачны.
На вопрос Голгофы, где он пропадал, Пантя ответил довольно коротко и не менее внятно и сам в свою очередь спросил, а почему Герка в огороде ходит на четвереньках и мяукает.
– Я вам говорила! – торжествующе воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна. – С мальчиком творится что-то неладное!
– Да, если так будет продолжаться и дальше, – насмешливо сказала эта милая Людмила, – то Кошмар будет ходить на задних лапах и разговаривать по-человечески.
– Я не понимаю твоей шутки, – обиженно произнесла Голгофа, – надо что-то делать, а мы…
– В поход надо отправляться немедленно! – решительно оборвал дед Игнатий Савельевич. – Вот что надо делать! Накормить Пантю… Пантелея то есть, и в путь! А я пойду с внуком попрощаюсь.
Тётя Ариадна Аркадьевна с явным осуждением взглянула на племянницу и предложила:
– Сначала надо попытаться объяснить Герману… ну, очевидную неразумность, неправильность, скажем прямо, даже некоторую непорядочность его поведения…
Вставая, дед Игнатий Савельевич проговорил обреченно:
– Проверю, как там. А послушаться он может только тебя, Людмилушка. На тебя одну и надежда…
– Ради похода, ради Голочки я готова на всё, даже на унижение.
Дед Игнатий Савельевич виновато покашлял в кулак и ушёл.
Все удрученно молчали, и лишь Кошмар был весел. Он то и дело залезал в приготовленную для его транспортировки корзину и там радостно урчал.
– Кошмарчик, видимо, убеждён, что похода всё-таки не будет, – печально сказала тётя Ариадна Аркадьевна. – Ах, как мне жаль уважаемого соседа! Ему и за внука стыдно, и в поход хочется.
Тут прикатил на мотоцикле дружинник Алёша Фролов по прозвищу Богатырёнок, долго фотографировал автограф Гагарина, эту милую Людмилу, и ей пришлось рассказать о своей встрече с космонавтом номер один.
Дружинник Алёша Фролов слушал и смотрел на неё с таким очень глубоким уважением, словно она сама была покорительницей Космоса. Потом Голгофа фотографировала её с ним, и он стоял такой гордый, словно сам был знаком с Юрием Алексеевичем.
– А чего вы такие все квёлые? – спросил дружинник Алёша Фролов и, узнав обстановку, весело предложил: – Во-первых, я могу вас по очереди, так сказать, по частям доставить к озеру. Во-вторых, вечером могу проверить, как вы устроились, в чём нуждаетесь… А Герочку я хорошо знаю. Девочка без косичек. Его, по-моему, дед и сейчас с ложечки кормит.
– И всё-таки мы должны приложить все усилия, – наставительным тоном произнесла эта милая Людмила, – чтобы попытаться на него воздействовать. Мы, Алёша, не только осуждаем недостатки человека, но и помогаем ему их устранить. А поход наш должен быть самостоятельным, абсолютно самостоятельным. Лишь тогда от него будет для нас польза. Нам нужен поход, а не катание на мотоцикле.
– Дело ваше. – Видно было, что дружинник Алёша Фролов несколько обижен отказом от его искренней помощи. – Желаю успеха. Фотографии к вашему возвращению будут готовы.
Он умчался на своём обиженно стрекотавшем мотоцикле.
– Что же дальше? – растерянно и недовольно спросила тётя Ариадна Аркадьевна. – Так и будем ждать, что соизволит решить Герман?
– Мы идем к уважаемым соседям, – деловито ответила эта милая Людмила, – делаем всё возможное, что в наших силах, и в любом случае – в путь!
Тётя Ариадна Аркадьевна вздыхала так громко, что её вздох девочки слышали ещё за калиточкой.
– Погоди, погоди! – Голгофа остановилась. – Мы пойдём вчетвером плюс Кошмар минус дедушка?
– Минус! Дедушка! – резко отозвалась эта милая Людмила. – И ничего с нами не случится, кроме того, что мы подзакалимся, станем хоть чуточку смелее и прекрасно проведём время. В конце концов если мы струсим или просто не выдержим, то можем в любой момент вернуться с позором.
– Я бы так не хотела… – прошептала Голгофа. – Но почему ты запретила Алеше Фролову хотя бы проверить вечером, как мы устроились?
– Да потому, что, ещё не отправившись в путь, мы бы уже кричали: «Караул! На помощь!» Чего ты испугалась?
– Пока я ничего не испугалась. Мне дедушку жаль. Неужели ты не видишь, как он ужасно переживает?
– Прости меня, дорогая, – довольно высокомерно произнесла эта милая Людмила. – Но в данном случае надо перевоспитывать и дедушку.
– Мы его будем перевоспитывать?! – поразилась Голгофа.
– Да, в какой-то степени и мы. Но, в основном, жизнь. Нельзя же распускать внука до такой степени, что от его избалованности, уросливости зависит судьба целого коллектива! – не на шутку возмутилась эта милая Людмила. – Ты только вспомни, сколько произошло событий, сколько в них участвовало людей, чтобы мы получили возможность отправиться в поход! И вдруг один, всего-то на-всего один Герочка, девчонка без косичек, всё срывает!
Голгофа быстро и густо покраснела, опустила глаза и стыдливо прошептала:
– По-моему… всё зависит лишь от тебя… уверяю… Да, он избалованный, капризный, но… понимаешь, он не умеет правильно выразить свои чувства к тебе… Вот ему хочется доказать, тебе доказать, что он независимый… что его решения самостоятельны, но… ничего у него не получается. Но чувства его к тебе, я считаю, нельзя оставлять без внимания.
Ответ этой милой Людмилы сводился к тому, что чистые и добрые, а тем более возвышенные чувства могут направить человека только на прекрасные дела. Судя по недостойному поведению Германа, никаких там особенных чувств у него быть не может. Но даже если и есть у Германа что-то вроде каких-то там особенных чувств, то думает-то он, беспокоится, заботится только о себе, только о том, как бы ему лучше было, удобнее. И воздействовать на него может лишь сама жизнь, а не разговоры и убеждения, которых он наслышался уже достаточно.
А отчего, по-вашему, уважаемые читатели, Голгофа так упорно и горячо защищает Герку? Давайте подумаем, а потом, обменяемся мнениями.
Девочки, конечно, не поссорились, но, как говорится, крупно поспорили. В голосе этой милой Людмилы часто и отчетливо проскальзывало не свойственное ей раздражение, которое, однако, не испугало Голгофу, а вынудило её возражать ещё упорнее и горячее.
– Ты же очень сильная! – Она даже повысила голос. – Ты обязана помогать тем, кто слабее тебя!
– В принципе ты абсолютно права, – помолчав и чуть-чуть успокоившись, согласилась эта милая Людмила. – Я давно убедилась, что девочки просто обязаны вести неустанную перевоспитательную работу с плохими мальчишками. Заниматься ими не жалея ни сил, ни времени.
– Вот тебе и самый подходящий случай! – радостно воскликнула Голгофа. – Не проходи мимо!
– И опять в принципе ты абсолютно права, – уже несколько надменно проговорила эта милая Людмила. – Но у нас мало времени! Ведь речь идёт не вообще о перевоспитании Германа, а о том, пойдёт он в многодневный поход или нет.
– Постой, постой! – умоляюще попросила Голгофа. – Я должна объяснить тебе, а ты должна понять… Тебе ведь трудно представить, что такое избалованный человек. А мы с Германом именно такие. Только мне удалось своевременно заметить, что меня безобразно балуют, и что это может кончиться для меня ужасно. А Герман этого до сих пор не осознал, и винить надо не его одного! Он не понимает самых простых вещей. Он нуждается в особом внимании. Я прошу тебя быть к нему снисходительнее, терпеливее. Ведь избалованный человек не представляет грозящей ему опасности.
Теперь ясно вам, уважаемые читатели, почему Голгофа так упорно и горячо заступалась за Герку? И ведь она была права не только в принципе, но и в данном, конкретном случае. Но и эта милая Людмила имела многие веские основания не соглашаться с подругой именно в том смысле, что сейчас не было времени доказывать Герке вздорность его поведения, убеждать, что он подводит всех, особенно Голгофу, и т. д. Требовались какие-то особые методы воздействия на мальчишку. Их эта милая Людмила и искала.
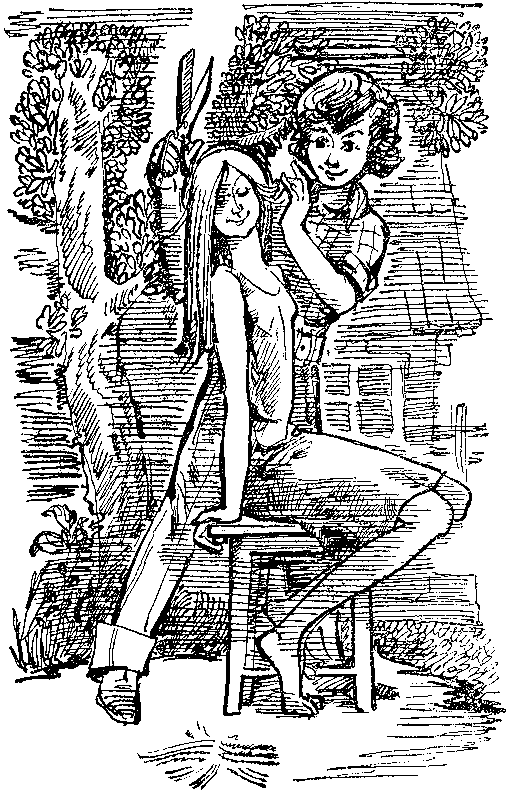
– Постарайся быть с Германом помягче, – застенчиво попросила Голгофа, – постарайся быть с ним поубедительней. Честное слово, он, по-моему, готов понять свои заблуждения.
– Я не меньше твоего хочу, чтобы он участвовал в походе, – с еле заметным раздражением сказала эта милая Людмила. – Без него в походе и дедушке невесело будет. А главное, ведь именно многодневный поход помог бы Герману избавиться от большинства недостатков.
– Нету Панти! – услышали они расстроенный голос деда Игнатия Савельевича. – То есть Пантелея нету! – Он остановился перед девочками, недоуменно пожав плечами. – Опять, конечное дело, сбежал! Но – почему? Вроде бы вчера уговорили его.
– Да он и не нуждался в уговаривании! – сердито воскликнула Голгофа. – Он бы с удовольствием в поход, но… но они с Германом… Пантелей чувствует себя и чужим, и недостойным… Нет, нет, мне начинает казаться, что никакого похода ни за что не получится! То одно, то другое препятствие! Что делать?
– Не паниковать, – спокойно ответила эта милая Людмила. – А довести дело до конца. Желательно – победного. Сначала я беседую с Германом…
– А Пантелей?
– Придёт. Или найдём. Мы, девочки, с помощью старших товарищей должны обязательно воздействовать на мальчишек. Сделать их из отрицательных хотя бы полуположительными. Пантелей всё равно пойдёт с нами. А я иду к Герману. – И она твёрдым шагом направилась в дом.
Дед Игнатий Савельевич присел на бревно около сарая. Голгофа устроилась рядом.
– Не понимаю я! Не по-ни-ма-ю! – сказала она. – Как можно вырасти в таких прекрасных местах и не любить природу? Не стремиться пойти в многодневный поход?!
– Ни к чему Герка не стремится – вот в чём беда его и горе. И моя беда, и горе мое. И ведь так может всю жизнь прожить, если, конечное дело, армия его не выправит.
– Ну, а Пантя-то куда мог деться? То есть Пантелей? Честное слово, я уже перестала верить, что поход состоится!
– Обязательно состоится! – наикатегоричнейшим тоном заявил дед Игнатий Савельевич. – Сегодня во что бы то ни стало выступим! И не позднее, чем в первой половине дня.
– А вы не передумаете, дедушка?
– Мне отступать нельзя.
Должен ещё раз напомнить вам, уважаемые читатели, что дед Игнатий Савельевич и сам был поражен своей решительностью. Совсем недавно, не более двадцати минут назад, он ещё сомневался в себе, ещё боялся, что пожалеет единственного внука, отступит и тем самым подчинится ему. Нет, нет, пусть старое дедское сердце сжимается от боли за непутёвого Герку, но он, дед, всё сделает для того, чтобы внук впервые почувствовал ответственность за своё поведение.
Примерно то же самое говорила ему сейчас эта милая Людмила:
– Герман, ты должен понять, что никто тебя не ругает. Все искренне желают тебе добра. Но и прямо указывают на твои ужасные недостатки. И не надо сердиться, а надо делать выводы. А ты боишься правды о себе. И зря. Всё может кончиться очень и очень плохо. Тебе грозит опасность вырасти просто неинтересным человеком. Из тебя может вообще не получиться настоящего мужчины. Тебе пора серьёзно задуматься об ответственности за своё поведение.
Герка слушал её, сжав кулаки и зубы, решив, что ни слова она от него не услышит. Но сдержаться ему не удалось, и он почти закричал:
– Да почему ты всех учишь? Сама-то ты кем… получишься? Настоящей женщиной, думаешь? Интересным человеком, считаешь? Откуда, ну, откуда ты можешь знать, кем я вырасту?!
– Из таких, как ты, вырастают только отрицательные типы. Подожди, подожди, не кипятись, – чуть ли не нежно попросила эта милая Людмила. – Я ведь не своё личное мнение высказываю, а своими словами передаю тебе закон жизни. Его не я придумала, а всё человечество. Прогрессивное, конечно.
– Всё человечество считает, что из меня ерунда на постном масле получится?!?!?! – От непередаваемого гнева Герка задохнулся, а эта милая Людмила звонко и громко рассмеялась. Она, как тогда, у колодца, пыталась сдержать смех, даже прикрывала рот ладошками, но продолжала смеяться всё громче, всё звонче. И если бы они находились не в комнате, а на улице, у колодца, она бы, как тогда, опрокинулась на травку, ноги её замелькали бы в воздухе, будто бы она крутила педали велосипеда – мчалась во весь дух.
Она, конечно, прекрасно понимала, что нельзя так, именно сейчас нельзя, но продолжала смеяться звонко и громко, изредка вскрикивая:
– Ой, не могу… ой, насмешил… ой, не могу-у-у-у… не-е-е-е… – и не могла унять смеха, никак не могла, смеялась и смеялась громче и звонче прежнего, изредка вскрикивая: – Ой, не могу!
И как тогда, в специальной загородке, у колодца, Герка, забыв о страшной обиде, суматошно пытался угадать, чем он её так насмешил.
А она, закатываясь в смехе, звонком и громком, в изнеможении закрыв глаза и запрокинув голову, чуть не падала…
– Больная ты, что ли? – крикнул Герка испуганно. – Может, тебе лечиться надо, а не над людьми смеяться?
Вряд ли эта милая Людмила слышала его слова. Она сама взяла себя в руки, можно сказать, буквально взяла себя в руки – сжала локти ладонями, выпрямилась, ненадолго замерла в такой позе, отдышалась, сказала устало, виновато:
– Прости, Герман. От всей души прости, пожалуйста. Совершенно неуместный смех, я понимаю. Ну никто не умеет меня смешить, как ты.
– Не смешил я тебя, – сквозь зубы процедил Герка. – Ты сама смеялась надо мной! – жалобно вырвалось у него.
– Клянусь! – воскликнула эта милая Людмила, прижав правую руку к сердцу. – Хочешь, встану перед тобой на колени, чтобы просить у тебя прощения?
– Сумасшедшая, вот ты кто!
– Ни капельки! Просто ты очень смешно сказал, я и решила, что ты хочешь рассмешить меня! Прости, если я нечаянно своим смехом обидела тебя!
По виноватому, просящему, почти умоляющему взгляду её больших чёрных глаз Герка понимал, что она и вправду не собиралась смеяться над ним, но ведь – смеялась! И ещё как!
– Ладно, ладно, – пробормотал он, напряжённо стараясь вспомнить, из-за чего она так обидно для него смеялась, а она весело сказала:
– Ты ещё не завтракал. Приготовить тебе завтрак? В сердце Герки сразу возникли, не мешая друг другу, радость и неприязнь. Он даже не мог определить, какое из ощущений сильнее, не знал, которое возьмет верх.
– Ах, Герман, Герман! – почти ласково воскликнула эта милая Людмила. – Ну будь умницей, перестань сердиться, ведь ты весёлый человек! Ведь пора в путь-дорогу! Я пошла готовить тебе завтрак.
Она выпорхнула из комнаты, словно не сомневаясь и не нуждаясь в ответе. Идёт готовить ему завтрак, а на самом деле получается, что командует им!
А тут он ещё вдруг со всей ясностью, во всех подробностях вспомнил недавний разговор с дедом, наконец-то уразумел смысл его, а на кухне громко и звонко распевала эта милая Людмила, а ему чуть расплакаться не захотелось. Он был весёлым человеком, был! Пока её здесь не было! И ведь она, она, она поход-то выдумала! Из-за неё, из-за неё, из-за неё всё кувырком полетело! Всё вверх тормашками из-за неё, из-за неё, из-за неё перевернулось!
Страшно стало Герке, когда он подумал о многодневном походе. Он чувствовал, что никакие силы не заставят его пойти. Чуточку ещё, совсем-совсем немножечко надеялся он, что дед останется с ним. Тогда ещё страшнее: она-то уйдёт! И чего он добьётся, оставшись с дедом?! Вот когда настоящая-то смехота получится!
Остался у него, у бедного, один выход: самому о себе позаботиться, самому себя пожалеть. Придётся доказать всем, что он не ерунда на постном масле и прогрессивное человечество ещё увидит, что издеваться над собой он не позволит никому. И кто кем вырастет – вопрос, а пока посмотрим, кто тут кем командовать будет. Он над собой командовать никому не позволит!
– Завтрак готов, Герман! – раздался из кухни громкий и звонкий и, как показалось Герке, достаточно самоуверенный голос. – Прошу к столу! Но сначала, конечно, умойся!
Что ж, и умыться можно, и позавтракать не вредно, а всего полезнее чувствовать себя свободным, как на большой перемене.
На кухне Герка появился таким гордым и даже слегка небрежно самодовольным, что эта милая Людмила подозрительно и внимательно оглядела его, предложила:
– Садись. Ешь.
– Сяду, поем, с удовольствием. – Герке стало чуть-чуть весело от её заметной растерянности. – Чаёк приготовила?
Видно было, что эта милая Людмила сразу заподозрила неладное, и её большие чёрные глаза пристально и недоверчиво следили за каждым Геркиным движением, словно каждым из них он мог себя выдать. А Герка под её взглядом вдруг сник и, чтобы взбодриться, подчеркнуто озабоченно проговорил:
– Погодка бы не испортилась. Собираюсь сегодня поплавать на дальность. – А после длительного и заметно тяжелого молчания он добавил почти вызывающе: – Вдоволь охота наплаваться.
– Наплаваешься. Вдоволь. В озере. – Чеканя каждый слог, выговорила эта милая Людмила. – Налить ещё чайку?
Герка отрицательно покачал головой, медленно встал, а она спросила его:
– А кто за тобой посуду уберёт?
– А какое твое дело? – с очень самым невинным видом отозвался Герка. – Какое твое дело, кто в нашем доме посуду уберёт? Ты здесь кто? Ну, кто?
– Друг. Твой друг. Человек, который хочет помочь тебе.
Что-то упрямое, даже чуть-чуть раздражённое почувствовал Герка и сказал:
– Ты сама себя другом назначила. Я тебя не просил.
– Хо-ро-шо, – сначала удивленно вскинув брови, сказала эта милая Людмила, но решительно продолжила да ещё и печально: – Будем считать, что я ВСЁ сделала для того, чтобы стать тебе другом, чтобы помочь тебе. Зря старалась. – Она дошла до дверей, остановилась и через плечо снова заговорила ещё более печальным и ещё более решительным тоном: – Однако неплохо, что ты действуешь хотя и достаточно глупо, но зато самостоятельно. Посмотрим, готов ли ты ответить за свои поступки. Мы отправляемся в многодневный поход. У тебя остается буквально полчаса подумать.
И ушла.
И Герка понял: они все уйдут от него. Всё. Уйдут. Он останется один. Но сколько он ни напрягал воображение, никак не мог представить себе этого. Вот он будет тут, здесь сегодня вечером сидеть, стоять или лежать один, а его родной дед будет где-то далеко с чужими людьми…
Такого быть НЕ может!
НЕ может такого быть!
Такого НЕ может быть!
А в голове застучало настойчиво и сурово: может, может, может… быть, быть, быть…
Герка ждал, какое чувство овладеет им: обида, злость, страх, возмущение. Он ждал, чего ему придётся делать: плакать, кричать, пищать или вопить. Но в душе не возникло никакого определенного чувства – там были пустота и замешательство. И чтобы замешательство не превратилось в помешательство, Герке нужно было немедленно что-то предпринять, что-то сделать, хотя бы глупейшую глупость.
Увы, сейчас он был ни на что не способен, даже на глупейшую глупость. Он был способен только на то, чтобы сознавать свою полную неспособность действовать. И ещё Герка сознавал, что его на самом деле все бросили. То есть он никому не нужен. И если кот Кошмар тоже позволит себе иметь собственное мнение о походе, его, как Герку, тоже оставят одного.
«Бросили наравне с котом! – пронеслось в голове. – Значит, им всё равно, что человек, что кот!» И Герка отчаянно и жалобно мяукнул, хотел что-то крикнуть, но получилось ещё жалобнее, ещё отчаяннее:
– Мяя-а-а-а-ууу….у-у-у!
Он кому-то погрозил кулаком. Довели человека! Замяукал человек! До того вы человека довести можете, что он у вас на четвереньках бегать будет, и хвост у него отрастёт!
И, охваченный, вернее, захваченный возможностью превращения с горя в кота, Герка громко и грозно промяукал четыре раза, встал на четвереньки, пробежал к дверям, быстренько пропрыгал по коридору, головой открыл дверь, выпрыгнул на крыльцо и огласил двор мя-а-а-а-а-у-у-у-уканьем.
Вот сейчас они…
А во дворе никого не было. Раньше Герка в подобном положении наверняка бы растерялся, а сейчас он, словно действительно решив, что он уже не человек, издал мяуканье, спрыгнул с крыльца, на четвереньках пропрыгал в огород и опять замяу…
И замолк на полумяуканье: перед ним стоял, широко открыв от изумления рот, злостный хулиган Пантя.
Но если Пантя просто изумился, то Герка просто испугался и со страху еле слышно выговорил:
– Мяу…
Пятясь от него, Пантя вытянул вперёд свою длиннющую руку, протягивая зелёную бумажку и бормоча:
– На вот… на вот… на… на…
Он осторожно положил бумажку на землю и быстро ушёл, почти убежал.
Бумажка эта была – три рубля.
Герка сел, взял купюру, разглядывал её с обеих сторон, словно не понимая, чего она из себя значит, и не сразу сообразил, что Пантя вернул ему отнятые вчера деньги.
То, что Герка трёшке нисколечко не обрадовался, понятно. Она только напомнила о его, мягко выражаясь, несмелом поведении. Герку сейчас задело и даже очень насторожило другое: с чего это злостный хулиган вернул деньги, да и, кстати, где он мог их достать? Опять у какого-нибудь хорошего человека отобрал?
Но вам-то, уважаемые читатели, я расскажу, что же такое случилось с Пантей, вернее, уже почти с Пантелеем, или, ещё вернее, пока почти с Пантелеем. Не надо даже и предполагать, что он быстро и окончательно исправился.
Кое-что, однако, в нём изменилось, и относительно здорово. Например, трёшка эта, когда об её истории узнали все, в том числе и Голгофа, не давала ему покоя.
И рано утром Пантя, когда девочки убежали купаться, отправился на рынок продать свой узел с бельем и ботинками, чтобы отдать Герке трёшку.
Сначала на рынке в его сторону никто и не смотрел. Стоит себе мальчишка с узлом в руках, ну пусть себе и стоит.
Через некоторое время Пантя не знал, чего и делать. Так ведь можно и целый день проторчать, а ему скоро в многодневный поход отправляться. А ещё ему необходимо доказать Герке, что больше он к нему приставать не собирается, и хорошо бы вернуть ему три рубля.
Тут к Панте подошли две старушки, которых в посёлке прозвали Бабушки-двойняшки, потому что когда-то, давным-давным-давно, они родились близнецами и до сих пор разительно походили одна на другую.
Они поинтересовались, чего он здесь делает, что это у него за узел. Зная въедливый и даже вредный характер Бабушек-двойняшек, Пантя сразу решил улизнуть от греха подальше, как говорится. Но они учуяли, что имеют дело если и не с преступлением, то, по крайней мере, с развлечением. Не успел Пантя ничего предпринять, чтобы от них избавиться, как Бабушки-двойняшки цепко схватили его за руки: одна за левую, другая за правую, а остальными своими руками они замахали и закричали:
– Граблёное продают!
– Ворованное сбывают!
– На помощь, товарищи!
И сразу оказалось, что на рынке обитает много любопытного и праздного народа. Пантю и Бабушек-двойняшек почти мгновенно окружила толпа, и они, перебивая друг друга, восторженно, взахлеб рассказывали, как задержали, вполне может быть, жулика.
Три дня назад злостный хулиган Пантелеймон Зыкин по прозвищу Пантя ни за что бы не дался в хилые, хотя и цепкие руки Бабушек-двойняшек, а сейчас вот только злился на них да натужно соображал, как бы поскорее выпутаться из этой глупой истории.
Самое невероятное заключалось в том, что Пантя, вернее, уже почти Пантелей, вдруг почувствовал, что ему совершенно неохота врать. Ведь получалось так, что стоило ему сказать, что узел, мол, его, сюда он заглянул случайно, можете меня проверить в милиции у самого участкового уполномоченного товарища Ферапонтова, и Бабушки-двойняшки отстали бы. Но Пантя громко заявил:
– Три рубли мене… мне надо… три рубля… вот и пришёл продавать…
Со всех сторон полетели вопросы:
– А узел чей?
– А в узле что?
– Деньги тебе зачем?
– А мать с отцом знают?
«Ждут ведь меня, потеряли меня, – с тоской подумал Пантя. – Чего доброго, уйдут без меня».
Он молчал уже зло и упорно. Бабушки-двойняшки уже несколько раз поведали обо всем, что знали о Панте, как они его задержали, и толпа постепенно начала редеть, ибо ничего интересного не происходило, и вскоре разошлись все.
Бабушки-двойняшки не только разительно походили друг на друга и одевались абсолютно одинаково, они часто и говорили одновременно, то есть синхронно.
Спросили они:
– Чего нам с тобой делать-то?
– Отпустить, – мрачно посоветовал Пантя. – Мне в поход идти надо и вот продать надо за три рубли… рубля…
– А чьи вещи-то?
– Да мои! Мачеха мене… меня из дому выгнала, а узел дала. А мне три рубля надо.
Бабушки-двойняшки отпустили его, развязали узел, осмотрели содержимое и заявили, что ничего ценного здесь нет, а вот ботинки за три рубля они возьмут.
Со всех ног, радостный до того, что еле сдерживался, чтобы не загоготать, Пантя помчался по улицам, размахивая узлом.
Отдав Герке деньги, он прибежал во дворик тёти Ариадны Аркадьевны и с недоумением обнаружил, что все здесь очень мрачны.
На вопрос Голгофы, где он пропадал, Пантя ответил довольно коротко и не менее внятно и сам в свою очередь спросил, а почему Герка в огороде ходит на четвереньках и мяукает.
– Я вам говорила! – торжествующе воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна. – С мальчиком творится что-то неладное!
– Да, если так будет продолжаться и дальше, – насмешливо сказала эта милая Людмила, – то Кошмар будет ходить на задних лапах и разговаривать по-человечески.
– Я не понимаю твоей шутки, – обиженно произнесла Голгофа, – надо что-то делать, а мы…
– В поход надо отправляться немедленно! – решительно оборвал дед Игнатий Савельевич. – Вот что надо делать! Накормить Пантю… Пантелея то есть, и в путь! А я пойду с внуком попрощаюсь.
